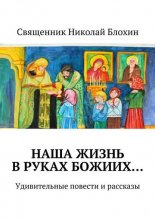Русская философия смерти. Антология Коллектив авторов

Политик. Да и в 13-м издании «Vie de Jеsus»6 я заметил будто ретрактацию7 насчет четвертого Евангелия.
Г-н Z. Нельзя же от учителей отставать. Но главная-то беда, князь, в том, что, каковы бы ни были наши четыре Евангелия, когда бы и кем они ни были составлены, другого-то Евангелия, более, по-вашему, достоверного и согласного с вашим «учением», ведь не существует.
Генерал. Как не существует? А пятое, где Христа нет, а одно только учение – насчет убоины и военной службы.
Дама. И вы тоже? Стыдно! Знайте, что, чем больше вы с вашим штатским союзником будете дразнить князя, тем больше я буду на его стороне. Я уверена, князь, что вы хотите брать христианство с самой лучшей стороны и что ваше Евангелие, хотя и не есть то же, что наше, но в том роде, как в старину сочиняли книжки l’еsprit de M. de Montesquieu, l’еsprit de Fеnelon, так и вы или ваши учителя хотели сочинить l’еsprit de l’Evangile8. Только жаль, что этого никто из ваших в особой маленькой книжке не сделал, которую так и можно было бы назвать: «Дух христианства по учению таких-то». Вам необходимо иметь что-нибудь вроде катехизиса, чтобы мы, простые люди, не теряли нити во всех этих вариациях. То мы слышим, что главная суть в Нагорной проповеди, то вдруг нам говорят, что прежде всего нужно трудиться в поте лица над земледелием, – хоть этого в Евангелии нет, а есть в Книге Бытия, там же, где в болезнях родить, – но ведь это же не заповедь, а только печальная судьба; то говорят, что нужно все раздать нищим, а то – никому ничего не давать, потому что деньги – зло и нехорошо делать зло другим, а только себе и своей семье, а для других нужно только трудиться; то опять говорят: ничего не делать, а только размышлять; то говорят: призвание женщины – родить как можно больше здоровых детей, – а там вдруг – совсем ничего такого не надо, потом мясного не есть – первая ступень, а почему первая – никому не известно; потом против водки и табака, потом блины; а потом военная служба, что главная беда в ней и главная обязанность христианина есть от нее отказываться, а кого в солдаты не берут, тот, значит, и так свят. Я, может быть, вздор говорю, но не моя вина: никак нельзя во всем этом разобраться.
Князь. Я тоже думаю, что нам необходимо толковое резюме истинного учения, – кажется, его теперь и составляют.
Дама. Ну а пока составят, скажите нам теперь в двух словах, в чем же сущность Евангелия, по-вашему?
Князь. Кажется, ясно, что в великом принципе непротивления злу насилием9.
Князь. Какой табак?
Политик. Ах, Боже мой! Я спрашиваю, какая связь между принципом непротивления злу и требованиями воздержаться от табака, вина, мяса, любовных дел?
Князь. Кажется, связь ясная: все эти порочные привычки одуряют человека – заглушают в нем требования его разумного сознания или совести. Вот почему солдаты обыкновенно отправляются пьяными на войну.
Г-н Z. Особливо на войну неудачную. Но это можно оставить. Правило непротивления злу важно само по себе, оправдывает ли оно или нет аскетические требования. По-вашему, если мы не будем сопротивляться злу силою, то зло сейчас же и исчезнет. Значит, оно держится только нашим сопротивлением или теми мерами, которые мы принимаем против зла, а собственной действительной силы оно не имеет. В сущности, зла вовсе нет, оно является только вследствие нашего ошибочного мнения, по которому мы полагаем, что зло есть, и начинаем действовать согласно этому предположению. Так ведь?
Князь. Конечно, так.
Г-н Z. Но если зла в действительности нет, то как вы объясняете поразительную неудачу дела Христова в истории? Ведь, с вашей точки зрения, оно совсем не удалось, так что в конце концов из него ничего не вышло, то есть, во всяком случае, вышло гораздо больше дурного, чем хорошего.
Князь. Почему это?
Г-н Z. Вот странный вопрос! Ну, если вам это непонятно, разберем по порядку. Христос и по-вашему всех яснее, сильнее и последовательнее проповедовал истинное добро. Так?
Князь. Да.
Г-н Z. А истинное добро в том, чтобы не сопротивляться насилием злу, то есть мнимому злу, так как настоящего зла нет.
Князь. Так.
Г-н Z. Христос не только проповедовал, но и Сам до конца исполнил требование этого добра, подвергшись без сопротивления мучительной казни. Христос, по-вашему, умер и не воскрес. Прекрасно. По Его примеру многие тысячи Его последователей претерпели то же самое. Прекрасно. И что же из этого всего вышло, по-вашему?
Князь. А вы хотели бы, чтобы на этих мучеников ангелы какие-нибудь блестящие венки надели и поместили их где-нибудь под кущами райских садов в награду за их подвиги?
Г-н Z. Нет, зачем же так говорить? Конечно, и я, и вы, надеюсь, хотели бы для всех наших ближних, и живых, и умерших, всего самого лучшего и приятного. Но ведь дело идет не о ваших желаниях, а о том, что, по-вашему, вышло действительно из проповеди и подвига Христа и Его последователей.
Князь. Для кого вышло? Для них?
Г-н Z. Ну, для них-то известно, что вышла мучительная смерть, но они, конечно, по своему нравственному героизму подвергались ей охотно и не для того, чтобы получить блестящие венцы себе, а для того, чтобы доставить истинное благо другим, всему человечеству. Так я вот и спрашиваю: какими благами мученический подвиг этих людей одарил других-то, все человечество? По старинному изречению, кровь мучеников была семенем церкви. Это фактически верно, но ведь, по-вашему, церковь была искажением и гибелью истинного христианства, так что оно даже совсем было забыто в человечестве и через осьмнадцать веков потребовалось все сначала восстановлять без всяких ручательств лучшего успеха, то есть совсем безнадежно?
Князь. Почему безнадежно?
Г-н Z. Да ведь вы же не отрицаете, что Христос и первые поколения христиан всю душу свою положили в это дело и отдали за него жизнь свою, и если тем не менее из этого ничего не вышло, по-вашему, то на чем же для вас-то могут основываться надежды иного исхода? Один только и есть несомненный и постоянный конец всего этого дела, совершенно одинаковый и для его начинателей, и для Его исказителей и губителей, и для его восстановителей: все они, по-вашему, в прошедшем умерли, в настоящем умирают, в будущем умрут, а из дела добра, из проповеди истины никогда ничего, кроме смерти, не выходило, не выходит и не обещает выйти. Что же это значит? Какая странность: несуществующее зло всегда торжествует, а добро всегда проваливается в ничтожество.
Дама. А разве злые не умирают?
Г-н Z. И весьма. Но дело в том, что сила зла царством смерти только подтверждается, а сила добра, напротив, опровергалась бы. И в самом деле зло явно сильнее добра, и если это явное считать единственно реальным, то должно признать мир делом злого начала. А каким образом люди умудряются, стоя исключительно на почве явной, текущей действительности и, следовательно, признавая явный перевес зла над добром, вместе с тем утверждать, что зла нет и что, следовательно, с ним не нужно бороться, – этого я своим разумом не понимаю и жду помощи со стороны князя.
Политик. Ну а сначала вы свой-то выход из этого затруднения укажите.
Г-н Z. Кажется, он прост. Зло действительно существует, и оно выражается не в одном отсутствии добра, а в положительном сопротивлении и перевесе низших качеств над высшими во всех областях бытия. Есть зло индивидуальное – оно выражается в том, что низшая сторона человека, скотские и зверские страсти противятся лучшим стремлениям души и осиливают их в огромном большинстве людей. Есть зло общественное – оно в том, что людская толпа, индивидуально порабощенная злу, противится спасительным усилиям немногих лучших людей и одолевает их; есть, наконец, зло физическое в человеке – в том, что низшие материальные элементы его тела сопротивляются живой и светлой силе, связывающей их в прекрасную форму организма, сопротивляются и расторгают эту форму, уничтожая реальную подкладку всего высшего. Это есть крайнее зло, называемое смертью. И если бы победу этого крайнего физического зла нужно было признать как окончательную и безусловную, то никакие мнимые победы добра, в области лично нравственной и общественной, нельзя было бы считать серьезными успехами. В самом деле, представим себе, что человек добра, скажем Сократ, восторжествовал не только над своими внутренними врагами – дурными страстями, но что ему еще удалось убедить и исправить общественных своих врагов, преобразовать эллинскую политию, – какая польза в этой эфемерной и поверхностной победе добра над злом, если оно торжествует окончательно в самом глубоком слое бытия, над самыми основами жизни? Ведь и исправителю, и исправленным – один конец: смерть. По какой логике можно было бы высоко ценить нравственные победы сократовского добра над нравственными микробами дурных страстей в его груди и над общественными микробами афинских площадей, если бы настоящими-то победителями оказались еще худшие, низшие, грубейшие микробы физического разложения? Тут против крайнего пессимизма и отчаяния не защитит никакая моральная словесность.
Политик. Это уж мы слыхали. А вы-то на что опираетесь против отчаяния?
Г-н Z. Наша опора одна: действительное воскресение. Мы знаем, что борьба добра со злом ведется не в душе только и в обществе, а глубже, в мире физическом. И здесь мы уже знаем в прошедшем одну победу доброго начала жизни – в личном воскресении Одного – и ждем будущих побед в собирательном воскресении всех. Тут и зло получает свой смысл или окончательное объяснение своего бытия в том, что оно служит все к большему и большему торжеству, реализации и усилению добра: если смерть сильнее смертной жизни, то воскресение в жизнь вечную сильнее и того и другого. Царство Божие есть царство торжествующей чрез воскресение жизни – в ней же действительное, осуществляемое, окончательное добро. В этом вся сила и все дело Христа, в этом Его действительная любовь к нам и наша к Нему. А все остальное – только условие, путь, шаги. Без веры в совершившееся воскресение Одного и без чаяния будущего воскресения всех можно только на словах говорить о каком-то Царствии Божием, а на деле выходит одно царство смерти.
Князь. Как так?
Г-н Z. Да ведь вы же не только признаете вместе со всеми факт смерть, то есть что люди вообще умирали, умирают и еще будут умирать, но вы, сверх того, возводите этот факт в безусловный закон, из которого, по-вашему, нет ни одного исключения, а тот мир, в котором смерть навсегда имеет силу безусловного закона, как же его назвать, как не царство смерти? И что такое ваше Царство Божие на земле, как не произвольный и напрасный эвфемизм для царства смерти?
Политик. И я думаю, что напрасный, потому что нельзя известную величину заменять неизвестною. Бога ведь никто не видал, и что такое может быть Его Царство – никому не известно; а смерть людей и животных все мы видали и знаем, что от нее, как от верховной власти в мире, никому не уйти. Так зачем же вместо этого а мы будем какой-то х ставить? Кроме путаницы и соблазна «малых», этим ничего не произведешь.
Князь. Я не понимаю, о чем тут разговор? Смерть есть явление, конечно, очень интересное, можно, пожалуй, называть ее законом, как явление постоянное среди земных существ, неизбежное для каждого из них; можно говорить и о безусловности этого «закона», так как до сих пор не было достоверно констатировано ни одного исключения, – но какую же все это может иметь существенную жизненную важность для истинного христианского учения, которое говорит нам через нашу совесть только об одном: что мы должны и чего не должны делать здесь и теперь? И ясно, что голос совести может относиться только к тому, что в нашей власти делать или не делать. Поэтому совесть не только ничего не говорит нам о смерти, но и не может говорить. При всей своей огромности для наших житейских, мирских чувств и желаний смерть не в нашей воле и потому никакого нравственного значения для нас иметь не может. В этом отношении – а оно ведь есть единственно важное по-настоящему – смерть есть такой же безразличный факт, как, например, дурная погода. Что я признаю неизбежное периодическое существование дурной погоды и более или менее терплю от нее, так неужели поэтому я должен вместо Царства Божия говорить: царство дурной погоды?
Г-н Z. Нет, не должны, во-первых, потому, что она царствует только в Петербурге, а мы вот с вами приехали сюда, к Средиземному морю, и смеемся над ее царством; – а во-вторых, ваше сравнение не подходит потому, что и при дурной погоде можно Бога хвалить и чувствовать себя в Его царстве, ну а мертвые, как сказано в Писании, Бога не хвалят, а потому, как заметил и его высокопревосходительство, этот печальный мир приличнее называть царством смерти, нежели Царством Божиим. <…>
1900
Н. Ф. Федоров. Философия общего дела
(Фрагменты)
<…> Санитарный вопрос. Впрочем, интересы прошедших поколений не противоположны интересам настоящих и будущих, если главною заботою будет прочное обеспечение бытия человеческого, а не наслаждение существованием. Но прочное существование невозможно, пока земля остается изолированною от других миров. Каждый обособленный мир по своей ограниченности не может иметь бессмертных существ. На каждой планете средства к жизни ограниченны, не бесконечны, хотя и могут быть очень велики, а следовательно, и смерть должна в конце концов явиться уже по недостатку средств к существованию, если бы она не успела явиться раньше по причинам случайным.
Больший или меньший недостаток пищи, голод производит скорую либо медленную смерть. Смерть есть результат голода в смысле или недостаточного питания, или же полного его прекращения. Недостаток производит борьбу, которая ограничивает жизнь существ, то есть делает их ограниченными во времени и пространстве. Смерть происходит и от болезни, в смысле менее или более вредного, смертоносного влияния природы (смерть как разложение, заразы). Вообще смерть есть следствие зависимости от слепой силы природы, извне и внутри нас действующей и нами не управляемой; мы же признаем эту зависимость и подчиняемся ей.
Голод и смерть происходят от одних и тех же причин, а потому вопрос о воскрешении есть вопрос и об освобождении от голода. Человек, чтобы быть обеспеченным от голода, должен настолько познать себя и мир, чтобы иметь возможность производить себя из самых основных начал, на которые разлагается всякое человеческое существо; а чрез это он не только приобретет возможность, но и станет в необходимость воспроизвести и все умершие существа, то есть живущие должны будут подвергнуть как себя, так и умерших одному и тому же процессу воскрешения, и только чрез воскрешение умерших живущие могут воссоздать и себя в жизнь вечную.
<…> Процесс гниения, необходимый (по причине той же обособленности земной планеты) для жизни сменяющихся поколений, своим влиянием производит различные эпидемии, и в случае недеятельности человека должен ускорить гибель рода. Вопрос о способах погребения составляет часть санитарного вопроса об ассенизации (оздоровлении) земного шара. Сожигание трупов, проведенное последовательно, как истребление огнем всех гниющих веществ, привело бы нас к истощению средств к жизни, то есть к смерти от голода. Для человеческого рода остается, таким образом, только выбор рода смерти – от голода или от эпидемий. Вопрос об эпидемиях, как и о голоде, выводит нас за пределы земного шара; труд человеческий не должен ограничиваться пределами земли, тем более, что таких пределов, границ, и не существует; земля, можно сказать, открыта со всех сторон, средства же перемещения и способы жизни в различных средах не только могут, но и должны изменяться.
Радикальное разрешение санитарного вопроса состоит в возвращении разложенных частиц тем существам, коим они первоначально принадлежали; всякое другое решение этого вопроса не представляет полной гарантии безвредности частиц (молекул), подвергавшихся процессу смерти в целом ряде существ. Таким образом, вопрос санитарный, как и продовольственный, приводит нас ко всеобщему воскрешению. Обращая бессознательный процесс рождения, а также и питания в действие, во всеобщее воскрешение, человечество чрез воссозданные поколения делает все миры средствами существования. Только таким путем может разрешиться формула Мальтуса1, противоположность между размножением и средствами существования. С другой стороны, только таким путем избавится человечество и от всеобщей смертности, явившейся как случайность, от невежества, следовательно, от бессилия, и чрез наследство сделавшейся врожденною эпидемическою болезнью, пред которой все прочие эпидемии могут считаться спорадическими болезнями. Смертность сделалась всеобщим органическим пороком, уродством, которое мы уже не замечаем и не считаем ни за порок, ни за уродство. (Смерть некоторые философы не хотят признать даже злом на том основании, что она не может быть чувствуема, что она есть потеря чувства, смысла; но в таком случае и всякое отупление, безумие, идиотство нужно исключить из области зла, а чувство и разум не считать благом.)
<…> Если литургия есть строительница храма, то изображение умерших на стенах храма есть произведение таинства Евхаристии, вспоминающего умерших, представляющего Воскресение их, выводящего их из гробов, художество же изображает этот момент. Таким образом, храм есть художественное изображение сосуществования поколений (бессмертия), погребление же вносит в храм внехрамовую действительность.
Внехрамовая действительность, или природа, есть извращение образа Божия, во-первых, как извращение сосуществования лиц (бессмертия) в последовательность, то есть в смену поколений, в вытеснение младшими старших, или в поглощение последующими предыдущих; иначе сказать, это есть смерть или переход одних существ в другие посредством рождения; извращенная природа под видом брака и рождения скрывает смерть. Общество гражданское, принимая сторону или партию живущих, ставя исключительной целью благо одного поколения, отрекается от отцов, признает действительность смерти. Такое общество и есть подобие слепой природы, храм же есть восстановление прошедших поколений,хотя и художественное только, то есть воспитательное; храм выводит из себя объединенное общество на внехрамовую деятельность.
Во-вторых, природа, как совокупность миров, представляет извращение образа Божия, потому что в этой совокупности нет разумного единства. Если не отделять человека от природы (мнение, отделяющее человека от природы, недавнее и не всеобщее, оно есть порождение города), то вина этого извращения может лежать только на существах, сознающих в себе разум. Отсутствие разумной деятельности в природе выражается в том, что движение отдельных миров, их отдаление и сближение (падение) не регулируется разумно-нравственною волею, точно так же как не регулируются ею и процессы световые и другие, происходящие при этих движениях, и потому миры эти, находясь в настоящее время на разных стадиях угасания, подвержены гибели. Во всем этом разумного действия признать, конечно, нельзя, а нужно признать неисполнение разумными существами Божественной воли. Если и в целой совокупности миров жизнь может уничтожиться, как это полагают, то от этого вина разумных существ не уменьшается. В-третьих, извращение образа Божия в природе выражается и в том, что единство отдельных миров со всеми другими мирами даже не сознается и что миры эти недоступны всем нашим чувствам, то есть нам недоступны другие миры, а наш мир недоступен обитателям иных миров, если бы таковые где-либо и были, и это вследствие отсутствия регуляции и потому, что разумные существа не обладают полнотою органов, то есть таким знанием метаморфозы вещества, которое давало бы им всемирность, последовательное вездесущие.
А между тем только такие полноорганные существа и могут составить глубочайшее, нераздельное соединение равных лиц; соединение же особей-органов не может быть обществом понимающих друг друга лиц, а может быть лишь соединением ненавидящих друг друга существ, если только они сохранили в себе свойства лица, сохранили в себе задатки или остатки души, то есть не сделались еще исключительно орудиями; и те, которые играют роль ума в этом обществе-организме, не могут быть довольны орудиями-лицами, если эти последние не вполне утратили личные свойства. Если же эти лица-орудия сделались исключительно орудиями, потеряли всякие свойства лица, совершенно перестали быть лицами, то общество, составленное из таких лиц-орудий, перестает быть обществом, оно обращается в действительный организм, который обречен на одиночество; и тот, кто совершит такое превращение общества в свой организм, докажет этим, что он предпочитает одиночество общению.
Таким образом, ничего нет противоположнее одно другому, как общество и организм. Хотя наши общества, несомненно, есть некоторое подобие организму, но и они настолько подобны организму, насколько держатся насилием и выгодами; насколько же в этих обществах заключается действительно нравственного, душевного, настолько они и в настоящее время не подобны организму. Если мы и не принимаем Единого Бога в Трех Лицах, то это именно потому, что других связей, кроме насилия и выгод, не признаем.
Отсутствие регуляции, недостаток способности полноорганности, или способности создавать себе всякого рода органы, то есть совершеннейший организм, и производит вместо сосуществования личностей, их последовательность или эфемерность, смертность. При сосуществовании, при полноорганности личности бессмертны, а последовательность является свободным действием личностей, переменою форм, путешествием, так сказать, при коем меняются органы, как экипажи, одежды (то есть время не будет иметь влияния на личности, оно будет их действием, деятельностью); единство же личностей будет проявляться в согласном их действии на весь мир, в регуляции и бесконечном творчестве.
<…> Невидимое и есть гадес2, аид, ад; временное существо, как ограниченное, конечное, означает смертное; а человек может себя представить лишь под условиями пространства и времени, то есть лишь смертным, каков он и есть в настоящем своем положении. С движением человек открывает пространство; посредством одного зрения пространство не могло быть открыто: зримое есть только предполагаемое. Опытом, деятельностью человек узнал ширь пространства; казавшееся близким, то, что как будто можно было схватить рукою, отодвигалось все дальше по мере движения. Опытом, неудачными попытками человек открыл дальность неба, дальность звезд, то есть свою малость, ограниченность. Во всей деятельности человека есть непрерывность, единство: от первого, самого первого человека, с которого началось удаление неба, манящего к себе, до Магеллана, не нашедшего на земле дороги к небу, до попыток Бланшара, Шарля и их мифических предшественников3 нельзя не видеть все одно и то же: далеко еще не оконченное движение, так как движение не достигло еще всего зримого и предполагаемое не стало еще осязаемым. Пространство и время, эти необходимые формы знания, обусловливаются движением и действием: пространство есть сознание пройденного, дополненное представлением по пройденному о том, что еще не пройдено. Такое представление составилось, необходимо, при движении, обусловленном сознанием смертности: потому-то непройденное и есть царство умерших (в представлении, конечно), а пройденное – область живущих. Время же есть не только движение, но и действие, делающее возможным самоё движение. Формы так называемой трансцендентальной эстетики (по Канту), то есть пространство и время, не предшествуют, следовательно, опыту, а являются вместе с движением и действием; но насколько пространство недоступно нашему движению, а время не есть наше действие, настолько же оба они – проекты.
Сознавая и называя себя ограниченным, конечным, временным, кратковременным, слабым, зависимым (то есть не имеющим в самом себе причины бытия), случайным, не необходимым, человек, очевидно, думал и говорил только о смертности, определял и уяснял себе смертность; ибо эти определения и составляют самые категории мышления, в которые входит все мыслимое и вне которых нет ничего мыслимого; так что человек, если он сознательно пользуется разумом, не может забыть о смертности; он думает только о ней. И действия человека необходимо подходят под соответствующие этим категориям деления: продление жизни, расширение ее области, обеспечение от случайности и независимость – такие действия, имея в основе бессмертие, не выходят из области ограниченного, конечного благодаря лишь отделению рассудка от разума. Философия же обратила определение смертного существа в отвлеченные категории, говорящие только уму, но не действующие ни на сердце, ни на волю. Если бы человеческий род не разделился на отвлеченно мыслящих (интеллигенцию) и на слепо действующих (народ), то предметом знания для него была бы смерть и ее причины, а предметом действия – бессмертие и воскрешение. В этом разделении, то есть в выделении города от села, и заключается извращение человеческой жизни и утрата ее смысла, извращение человеческого разума в рассудок, в хитрость, имеющую в виду одни личные, эгоистические цели. Для ученых человек есть мыслящее существо, деятельность же есть случайное его свойство; но в действительности мышление, знание, чувственное созерцание зависят от действия и движения.
<…> Действие, происходящее из сознания смертности (ограниченности и временности), есть стремление к бессмертию, а так как о смертности человек узнает по утратам, то и стремление к бессмертию есть стремление к воскрешению. Сознание смертности могло вызвать только смирение. Все открытия, всё, что узнал человек в новом своем положении (вертикальном), сводится на сознание своей смертности, ибо смертность есть общее выражение для всех бед, удручающих человека[10], и вместе с тем она есть сознание своей зависимости от силы, могущество которой человек чувствовал в грозах и бурях, в землетрясениях, зное, стуже и т. п., а границ ей не видел. Человек мог не признавать эту необъятную силу за слепую, но не мог и не считать ее внешнею, не своею; он чувствовал действие этой силы во всех бедствиях, удручающих его: в болезнях, лишениях, в одряхлении или старости.
Чтобы понять смертность объективно, нужно, конечно, не вносить во внешний мир ни разума, ни чувства, и тогда останется просто слепая сила или движение слепых частиц, а естественное следствие слепоты есть столкновение; следствием же столкновения будет разрушение, распадение. Но если каждую частицу одарить представлением и чувством целого, тогда столкновение исчезнет; не будет и разрушения, смерти. Вертикальное положение и есть первое выражение этого стремления взглянуть на мир как на целое. Вертикальное положение дало возможность почувствовать, понять единство и в то же время ощутить всем своим существом разъединение, разрыв, смерть. Животное по причине своего горизонтального положения ощущает только части, живет только настоящими минутами; исходным же пунктом человеческой деятельности не может быть лишь ощущение приятного или неприятного: только то существо может быть названо разумным, которое знает действительную, общую причину всех своих напастей и устранение этой причины делает целью всей своей деятельности. Вертикальное положение, расширяя круг зрения человека и по мере такого расширения увеличивая средства против столкновений, в то же время делает необходимым соединять части, и это-то соединение частей, ассоциация, и рождает память. Что субъективно – память, то объективно – сохранение связи, единение; что субъективно – забвение, то объективно – разрыв, смерть; что субъективно – воспоминание, то объективно – воскрешение.
Первоначальный быт человечества, по всей вероятности, отличался решительным перевесом причин к единению над поводами к раздору, разъединению, а потому и утраты чувствовались тогда сильнее. В утратах человек узнавал, что в мире для него смертоносно. При неопытности смертность была наибольшая и потому требовала наибольшей бдительности и наблюдения. О том, как первобытный человек чувствовал утраты, можно судить по погребальным обрядам, сопровождавшимся нанесением себе ран, даже самоубийствами (соумиранием), что было, конечно, когда-нибудь не пустою формою; те же, которые не лишали себя жизни, считали себя неправыми. Это сознание неправости и есть совесть (начало нравственности). Отсюда вытекает и стремление к восстановлению. Отсюда же произошли жертвоприношения, вольные и невольные, вначале человеческие, замененные потом принесением в жертву животных.
<…> Не душа только человека по природе христианка5, как говорят спиритуалисты, а и весь человек есть подобие Христа. Историк-натуралист может описывать начало человека, как евангелист повествует о рождении Сына человеческого. Человеку не было места в среде животных; потому, вероятно, натуралистам и не удается отыскать место человека в царстве или стаде животных. Отводить ему первое место в царстве животных – то же самое, что изображать Рождество Христа в царском дворце. Царство человека – не от мира животных. Смерть грозила ему, как Христу, при самом начале. Рождение не от похоти плотской может быть применено к самому началу человека, ибо насколько в нем имеется самодеятельного, то есть человеческого, настолько же он не животного происхождения. Вертикальное положение есть уже не дар рождения, не произведение похоти плотской; оно есть сверхъестественное, сверхживотное, требовавшее перестройки всего существа; оно есть уже результат первоначальной самодеятельности и необходимое условие самодеятельности дальнейшей. Чем менее человек получил от природы способностей сохранять жизнь, тем более он был смертен, тем сильнее чувствовал это и тем более у него было побуждения к самодеятельности. В беззащитности человека выражалось, сказывалось его миротворческое назначение, так же точно, как в его лишениях и наготе предзнаменовалась созидательная сила. Но эти предзнаменования пока не исполнились, и человек, вступив в состязание с хищниками, далеко превзошел всех зверей в хищничестве. Что же удивительного, если есть такие, которые твердо верят в родство человека с зверями, с животными! Нужно, следовательно, напомнить звероподобному человеку первоначальный образец; нужно, стало быть, сказать ему: «Се – человек!»
Нося в себе задаток мира, человек, или – лучше – смертный, не был гарантирован от падения, от забвения своей смертности и от обращения своей деятельности в разрушительную. Первая стадия истории, когда человек стал звероловом, не была, конечно, выражением его истинной природы: человек пользовался хищническими наклонностями животных, чтобы сделать их орудиями ловли, охоты или для истребления вредных животных. Во второй стадии (скотоводственной) человек пользовался другим инстинктом природы, похотью, для размножения необходимых для его существования животных; а природа нечеловеческая и состоит только из похоти рождающей и во вражде истребляющей. Но тем не менее вторая стадия, разведение животных, выше первой, то есть их истребления; земледелие же выше обеих, хотя и оно есть еще не столько действие, сколько пользование родотворной силой растений.
Существо наименее защищенное, наиболее подверженное опасности, всеуязвимое, смертное по преимуществу и потому в высшей степени чувствительное к смерти, человек в востании, во взорах, обращенных ко всеобъемлющему небу, выразил искание средств против опасностей, которые людям грозили на земле отовсюду. За взором, обращенным к небу, и голос устремился ввысь – начало религиозной музыки. Голос оказал действие на нервы, приводящие в действие, в сокращение мускулы; ноги выпрямились, а руки, аккомпанируя голосу, поднялись вверх. За взором, за голосом – или вместе с ними, а может быть, и прежде их – мысль возвысилась, что физиологически выразилось в росте передней и верхней части головы и в перевесе ее над задней и нижней частями, то есть в поднятии лба, чела[11].
Представление есть образ, оставшийся после того, как самый предмет исчез. Содержание представления, заставившего поднять чело, могло быть дано только самым поразительным явлением, исчезновением, смертью, и притом исчезновением старшего поколения, отцов, образы которых не могли не восставать в представлении, так как ими держалось единство рода, то есть союз, и в такое именно время, когда отдельное существование, жизнь врознь была невозможна. Исчезновение отцов на земле заставило перенести их тени на небо и все небесные тела населить душами их. Это и есть то, что называется олицетворением, вернее же было бы назвать отцетворением, патрофикациею, дидотворением или оживотворением небесных тел душами отцов. Это перенесение или вознесение образов отцов на небо и возвысило мысль, или представление, выразившееся, как сказано, поднятием чела. Чело – это орган религии, человеческое небо, орган воспоминания, разума, это музей, жертвенник, алтарь предкам, тогда как задняя часть головы, затылок, есть орган половых страстей, заставляющий забывать прошедшее, это храм не муз, а сирен[12].
<…> Итак, смерть, опознанная в лице отцов, обратила небо в отечество; звездное небо, этот будущий образец храма, превратилось, можно сказать, в родословную, в которой солнце заняло место отца по своему видимому превосходству над другими светилами. И если первое представление было отец, то и первое членораздельное слово должно было соответствовать этому представлению. Но оно означало не того, кто дает жизнь, а того, кому дают жизнь, принося на могилу пищу и питье.
Голос и слово послужили началом к объединению, к составлению хора. Голос – животного происхождения и окончательно развивается одновременно с половыми органами; членораздельное же слово могло и начаться, и развиться лишь у существа, сознающего смертность, ибо только словом, выражающим понятие «отец», словом, которому приписывалась сила пробуждать, призывать отцов, могло создаться и держаться общество, неразрушимое смертью, то есть общество человеческое, род. И если сила, приписываемая этому слову, по отношению к умершим отцам была мнимою, то уверенность в таком действии слова была могучей силой, которая держала отдаленных потомков в крепком союзе. «Во имя отца» держались все сыны в общем духе. Не держится ли и теперь еврейское общество верою в Бога Авраама, Исаак и Иакова? Вера в загробную жизнь отцов, казалось, была убита еще в древнем мире, но проявилась вновь в учении о Воскресении. Похороненное в наше время, учение о Воскресении как действии трансцендентном воскресает как действие имманентное.
<…> Прежде чем человек сумел выразить свою печаль словом, он писал в воздухе руками, и первая молитва была мимическая. О чем же он молился, что говорил Богу, чей образ писал в воздухе руками? Он молился к Святому, Крепкому (могучему), Бессмертному об умерших. А что субъективно – молитва, то объективно – образ, а будет со временем и дело. Строя образы отцов, человек устраивает самого себя, становится сам человеком, сыном.
<…> Существо смертное, возносящееся очами, голосом, руками к небу, – что это такое, как не существо молящееся, animal religiosum7, как должны бы сказать натуралисты. Эта поза, как результат переворота, с коим и появился человек, или смертный, была первым и в то же время художественным произведением человека. предметом которого был он сам и которое было уже некоторой победой над падением, вообще – над земным тяготением или давлением[13].
А храмы, не были ли и они изображением того же существа в той же вертикальной позе? Куполы и главы не представляют ли подобие чела, обращенного к небу? Не та же ли сила, или стремление, которая действовала в вертикальном положении, подняла и эти здания к небесам?
<…> Таков мог быть первый Сын человеческий, первый, кому открылся Бог, первый мыслитель, первый художник и вместе с тем первый храм, первое скульптурное произведение, прототип всех будущих храмов и статуй. В нем же был и первый музыкальный инструмент, под звуки которого строился сам человек-храм. Он же был и первое словесное существо, то есть в нем была совокупность всех искусств в полной еще их нераздельности.
Мы тем более имеем право назвать человека в вертикальном положении первым храмом востания, храмом, от которого не были отделены наука и искусство и который сделался прототипом всех будущих храмов и вообще построек, что даже физиономии племен, точно особых архитектурных стилей, отразились в произведениях зодчества, что особенно поражает в архитектуре китайской.
Представление человеческое, первое мышление образовалось с принятием человеком вертикального положения; оно было сознанием его. Вертикальное положение было, можно сказать, противоестественным, т. е. человек в нем противопоставил себя природе. В вертикальном положении уже заключается Я и не-Я и то, что выше Я и не-Я. Это объясняет также, почему горизонтальные положения производят на нас впечатление покоя, смерти, в противоположность вертикальным линиям, вызывающим представление бдительности, востания, бодрствования, жизни, воскрешения. Переход из горизонтального в вертикальное положение и обратно слились в представлении и в понятии с переходом от смерти к жизни и обратно.
Задача человека была намечена: сознав себя смертным и вместе с тем к небу или вверх обращенным существом, человек этим самым определил всю свою будущность. Господь созидал человеческое существо как назначенное стать, сделаться свободным усилиями и действиями самого человека. Подобно пеленанию, станки для приучения к хождению доказывают, что вертикальное положение не прирождено человеку, не дано ему при создании: оно им выработано трудом, усилиями и теперь еще должно быть поддерживаемо, так что если бы следовать системе Руссо, люди, быть может, и перестали бы быть развращенными животными и стали бы ходить не на двух, а на четырех ногах, стали бы естественны до животности.
Но приобретение вертикального положения было лишь началом создания человека чрез самого него, и оно должно было поддерживаться и укрепляться всем дальнейшим ходом, к которому побуждали те же страдания и смерть. Смерть была картиною непрочности создания: человек видел подобные себе создания свободными, по-видимому, от закона падения, как бы управляемыми какою-то высшею силою, поверженными, разрушающимися. И вот в муках сознания смертности и родилась душа человека.
Ф. Э. Шперк. О страхе смерти и принципах жизни
Предисловие
В прошлом труде своем1, в минуты жгучие и болезненные, я высказал несколько мучительных для себя слов и обнаружил гордость, самомнение, душевную бедноту свою и великое уродство своего духа.
Я проповедовал торжество индивидуальности и, доверяя непосредственному чутью своему, искал его – в ней же, в ее природе, в существе ее. Я заблуждался. Я заблуждался искренно и жизненно. Я заблуждался, как заблуждается правый. Я заблуждался; но уклонение от истины касалось не важнейшего, что дарует жизнь или смерть, славу или бесславие нам, – цели и идеала жизни человеческой; а относилось к второстепенному, побочному – к образу действительности, которая воплощает идеал, к действительности, которая его выражает.
Я заблуждался, и, скажу, заблуждался в том, что смотрел на личность человека как на солнце, которое есть источник света, а не как на землю, которую солнце освещает.
Я заблуждался, утверждая личность человека и не будучи в состоянии утвердить идеи жизни его…
Я был не прав.
Июнь 1895 г.Натушкино
I
Страх никогда не относится к тому, что реально, или тому, что реализуемо. Действительное в сознании или воле подавляет страх и обусловливает его или то, что выражает некоторый недостаток, или то, что выражает собой отрицание действительности в человеческом духе. Страх есть как бы отношение идеального бытия (души человеческой) и идеального небытия (фикции, лжи). В этом смысле и правы те, которые говорят, что всякий страх сводится к страху смерти: смерть есть само одушевленное ничто2; смерть есть «фикция в себе», и страх, как чувство фикции, есть чувство или боязнь смерти.
Зло представляется нам как недостаток блага или его чувства; смерть же есть отсутствие блага и, как таковое, – высшее зло.
Соприкасаясь со злом, человек соприкасается с чем-то относительным, с тем, что содержит в себе и долю истины, и долю лжи; соприкасаясь со смертью, в чувстве своем, человек соприкасается с чем-то абсолютным, с тем, что в безусловном, в безотносительном смысле есть ложь.
И вот почему страх сопряжен с непосредственным страданием, а всякое зло в сердце человека только обусловливает, только вызывает собой угрызение совести и душевные муки. И вот почему, также, нет для человека чувства, которого бы он более стыдился, нежели своего страха, боязни своей.
Связанные реальной душой с чем-то абсолютно фиктивным, мы не можем не ощущать превосходства душевного бытия над противопоставленной фикцией и не можем не стыдиться этой связи. Тут именно должно говорить о связи и о связи недостойной, а потому позорной. В страхе смерти лежит нечто позорное3.
Весь смысл жизненного прогресса человеческого заключается в одном постулате, в одном требовании: реализуйся, увеличивай реальное содержание своего духа, сознания, воли своей, исполняйся бытия![14]
Философия моя выяснила уже, что индивидуальный человеческий дух в своем развитии есть не что иное, как реализационный мировой процесс.
Жизнь земная и последующая ей, сверхчувственная – не разрывают этого процесса реализации, духовного усвоения высших степеней бытия; они, напротив, стоят в преемственной связи так, что только сферы и содержание реализации различны, а сам процесс един. И выход из индивидуального мира не означает собой выхода из космоса как процесса, а есть только выход из одной из многих космических ступеней, переход в условия, которые делают возможным дальнейшее осуществление (завершение) процесса. Этот последний, который можно бы тоже назвать процессом духовного совершенствования в бытии, слагается последоваельно из следующих четырех моментов: чувственности, этического сознания, интеллектуального сознания (разума) и интуиции (непосредственного сознания бытия). В нравственном сознании воспринимается или усвояется человеческим духом (качественно) более бытия или реальности, нежели в чувственном; в интеллектуальном более, нежели в нравственном; в интуитивном более, нежели в интеллектуальном; так как под интуицией разумеется непосредственное сознание бытия или реальности, сознание бытия в себе; а разум означает сознание бытия в истине, этическое сознание – сознание бытия в благе.
Интуитивное сознание, в конечный фазис своего развития или напряжения, перестает быть сознанием и переходит (реализуется) в простое, абсолютное бытие.
Вот смысл того, что мы назвали процессом реализации4.
В жизненном требовании: реализуйся – главным образом, конечно, имеется в виду заключительный, всеоправдывающий момент перехода из духовного бытия (чувственного, нравственного, интеллектуального, интуитивного) в чистое, несознательное и вневолевое бытие в себе.
Но момент этот, как и интуиция, не могут быть даны человеку в условном или ограниченном состоянии его индивидуальности.
Последняя из относительной сферы (земной жизни) должна перейти в безотносительную (сверхчувственную); так как только безотносительная или абсолютная форма (индивидуальность) может сознавать и хотеть, то есть оформлять безотносительное или абсолютное содержание, именно чистое бытие. Переходя в абсолютную, сверхчувственную сферу, человек отрешается от двух существенных свойств своей индивидуальности, которую он сохраняет: от цельности и ограниченности. Своей же особой индивидуальностью он входит в совершенное, абсолютное целое и, в качестве элемента этого последнего, делается причастным к тому совершенному сознанию и той совершенной воле, к которым оно (абсолютное) причастно. Человеческая индивидуальность избирает абсолютную индивидуальность как бы посредником между собой и интуицией или чистым бытием в себе. Ниже мы увидим, что и реализация в нашем ограниченном и условном мире совершается при тех же условиях, то есть посредственно и через отрешение от двух основных свойств человеческой личности: цельности и ограниченности[15].
Повторяю, общее требование, поставленное человеку на земле: реализуйся, требование, которое тут побуждает его к переходу из низшего чувственного состояния – в высшее нравственное, из последнего – в интеллектуальное – не только не нарушается исчезновением индивидуальности из относительного, внешнего мира, а, напротив, через это впервые становится возможно осуществимым во всей своей полноте.
Жизнь индивида как процесс не порывается смертью, а делается ею только возможной в своей цельности.
Смерть не есть действительное небытие: как нечто противоположное реальному, стало быть, как формальное нечто, небытие выражено не в смерти, а в чистых формах[16], в сознании и в воле, которые, наполняясь содержанием или, что то же, бытием, – реализуются (в чувственности, воображении, разуме). Сознание и воля, то есть формы, – всегда остаются одни и те же. Человеческое «я», которое служит эквивалентом их (чистого сознания или чистой воли, то есть форм вообще), есть единое и универсальное. Оно приурочено только к различным индивидуальностям (субъектам) и оформляет (сознает или хочет), в силу этого, различное содержание или бытие (объекты).
В чувственности оно оформляет наименее реальное содержание; почему чувственность есть низшая ступень духа человеческого. В нравственном чувстве, которое коренится в воображении как воля, оно оформляет содержание более реальное – и так crescendo до момента перехода духа в реальность[17].
Действительное небытие есть не смерть, а чистая воля и чистое сознание – моменты, которые мы преодолели, превзошли через то, что стали ощущать, чувствовать, мыслить, одним словом, через то, что мы не ограничились сознаванием и хотением вообще, всеобщим моментом «я», как пустою формой, – а стали сознавать и хотеть некоторое содержание.
Смерть, не будучи действительным небытием, является небытием идеальным (в идее), то есть небытием в духе человеческом, или духовным ничтожеством.
Небытие, как момент мирового процесса[18], действительно и, как таковое, не подлежит чувству страха. Своей воли и своего сознания, духа своего человеку не страшно. И чем вообще человек ближе к действительности, тем он менее подвержен страху. Смерть же есть фикция и как фикции боится ее человек.
Действительное небытие – не только не противно реализации, восполнению бытием, но оно, именно и исключительно, как форма в природе, как сознание или воля – и реализуется.
Противоречит этому процессу и этой жизненной задаче – зло как недостаток блага или бытия в духе, и диаметрально противоположна им (процессу и задаче жизни) – смерть как духовное ничтожество.
Смерть есть высшее зло, но зло, которое касается только боящегося смерти и любящего ее.
Надо любить смерть, чтобы ее бояться, и бояться смерти можно только любя ее.
В самом деле, надо любить фиктивный мир, чтобы быть к нему близким, а близостью к нему и вызывается только страх.
Всякий любящий реальное в жизни, реальное в чувствах, реальное в мысли далек от страха потому, что страх есть связь с идеально несуществующим миром.
Бесстрашен ребенок, который видит действительность в чувственно-воспринимаемом им мире; бесстрашна женщина, которая видит действительность в законах душевного, нравственного мира своего. Бесстрашен всякий, видящий действительность в умопостигаемых вещах.
Ни жизненной радости, ни добра, ни истины человек не боится. Он боится зла, болезни, лжи и, более всего, – смерти. Очевидно же, он боится только того, что обнаруживает или недостаток бытия в сознании или в воле, или отсутствие его в них.
Но, спрашивается: как же создает человек фикцию?
Раз действительно то, что хочет и сознает он, и раз сознание и воля его суть тоже действительность, то где же источник всего, что составляет предмет человеческого страха?
Источник смерти и страха тот же, что и зла.
Не иметь любви к ближнему значит быть себялюбцем; не уважать себя значит себя презирать; не быть целомудрым значит быть развращенным. И вообще не сознавать что-либо реальное значит сознавать нечто противоположное последнему – нереальное.
Однако же мы знаем, что реальное двояко: абсолютно и относительно; одно, которое постигается в сверхчувственном мире (посредством абсолютной индивидуальности), другое, которое духовно постигается на земле.
Противоположность сознанию относительного бытия есть зло.
Противоположность сознанию абсолютного бытия, то есть противоположность интуиции, есть смерть.
Смерть не есть момент, имеющий место в земной сфере: сознание абсолютного бытия падает вне ее границ; вне ее пределов лежит и отрицание его.
Во внешней природе возможно только зло индивидуальности; смерть же есть сверхчувственное завершение земного процесса выработки зла, процесса антиреализации; в совершенной аналогии с тем, как сверхчувственным завершением земного процесса реализации, духовной выработки бытия или выработки блага есть бытие.
Смерть столь же фиктивна, сколько неистинно зло.
Смерти нет для всех ненавидящих смерть, не боящихся смерти и реализующихся.
Смерть есть для всех, любящих смерть, боящихся смерти и не реализующихся.
Бояться смерти и любить ее значит созидать смерть, отвергая сознание бытия и процесс реализации5.
Единство процесса земного и сверхчувственного усвоения реальности отвергает смерть, а человек, отвергающий единство этого процесса, утверждает смерть.
Смерть есть неизменный продукт страха смерти, или смерть есть бесконечно продолженный страх смерти. Ничтожество сознания и воли человека (страх) делает его ничтожным в себе.
Смысл жизни дан в процессе духовного усвоения бытия и в конечном, трансцендентном моменте его, в неизменном бытии; но всякий, кто отвергает совершенствование себя в реальном, отвергает и бытие и признает себя не-сущим в духе (мертвым).
Смерть, созидаемая человеком через любовь смерти и боязнь ее, будет для него мукою, стыдом и позором; так как ничтожество его будет дано не вне сознания и воли, а в сознании и в воле. Смерть есть ничтожество в своей рефлексии, и в этом последнем, в этой рефлексии весь ужас такого ничтожества, весь ужас смерти. Как отрицание вечного и неизменного бытия, она будет вечным и неизменным страданием, «огнем неугасимым» чистого духовного бессилия…
II
Первая, основная добродетель человека есть любовь к реальному, тяготение к бытию и процессу реализации.
В реализационном стремлении человек осуществляет все добродетели, так как во всех добродетелях дан известный, специфический момент условного бытия, и отвергает все пороки, так как во всех пороках дан известный, специфический момент отрицания бытия в духе человеческом.
Я знаю только одно общее выражение всех постулатов жизненно-этических, именно, метафизическое требование: реализуйся!
И я вижу только два действительных признака осуществления этого требования человеком: субъективный – сладострастие и объективный – продуктивность.
В чувственном мире реальность постигается в сладострастии телесном – субъективно; в естественной, физической продуктивности (в детях) – объективно.
В нравственном мире реальность постигается в сладострастии милосердия – субъективно; в добрых делах человеческих – объективно.
В интеллектуальном мире реальность постигается в сладострастии откровения – субъективно; в продуктивной истине – объективно.
В интуитивном мире реальность постигается в блаженстве – субъективно; в творчестве – объективно.
Выясним, однако, условия, при которых земная реализация человеческого духа (то есть приобретение им чувственного, нравственного и разумного бытия) делается возможной.
Условия эти, как выше замечено нами, аналогичны тем, при которых человеческий дух в сверхчувственной области становится причастным к завершению реализации, к абсолютному бытию.
И это вполне естественно.
Единство процесса, очевидно, требует вполне тождественных условий.
Было бы великою ошибкой думать, что цельная и несовершенная индивидуальность человека на земле, как таковая, способна пройти земной реализационный процесс, то есть усвоить всецело, преодолеть: бытие, чувственное, нравственное и интеллектуальное; после чего, делаясь элементом совершенного, то есть делаясь обратной тому, чем была во внешнем мире, – она становится причастной к бытию интуитивному и чистому бытию. Да, было бы ошибочно думать, что посредник для реализации необходим только в той жизни, а что в этой – индивидуальный дух реализуется или духовно совершенствуется в бытии самодеятельно и непосредственно, как цельный и ограниченный (несовершенный). Нет. Насколько в той сфере отрицание абсолютной индивидуальности как посредника в процессе превращения земного индивидуального духа в чистую реальность означает смерть и ничтожество духа, настолько во внешнем мире отрицание посредника в процессе духовного усвоения бытия, то есть в процессе открытия блага и истины, есть свидетельство зла и лжи.
Как в той высшей сфере, и тут человек принуждаем отречься – не от индивидуальности своей, которая, напротив, неизменно сохраняется и спасается им (и в этом основная забота и задача человека), а от своей индивидуальной цельности и ограниченности.
Ни чувственное бытие, которое постигается в половом союзе; ни нравственное, которое постигается через любовь к ближнему; ни разумное бытие, которое открывается в истине, – не могут быть даны индивидуальному духу, как таковому, как цельной и обособленной, ограничиваемой и, следовательно, несовершенной единице.
Человеческий дух и для земного дела своего должен избрать посредника или сделаться составной частью, членом некоторого совершенного целого, некоторого абсолютного тела, именно церкви.
Вот условия земной реализации.
Вне их призрачен всякий процесс духа человеческого.
Делаясь членом этого абсолютного, неусловливаемого целого, человек приобретает через него свободу воли, стало быть, то, что тайно и инстинктивно он более всего желал и хотел, и должен был всего более желать и хотеть: так как сокровенное желание души человеческой есть свободное желание, способность свободного желания[19].
Делаясь членом этого совершенного тела, он, и исчезая в нем, целом, и сохраняя свою индивидуальность, приобретает еще высшее нечто, тождество с абсолютным; причем приобретает это, не возвышаясь (не греховно), а, напротив, низводя себя (со степени целого на степень частичного).
Так, только церковью освященный брак – благодатен и реален; только христианская любовь – истинна и действительна; только христианская истина есть истина и бытие.
Индивидуальность должна дважды отвергнуть цельность свою, чтобы сохранить себя. Только потеря индивидуальной целостности есть сохранение или спасение самой индивидуальности, или бессмертие души.
Низвести себя, чтобы возвыситься, – вот первое дело человеческое. И в этом главное условие, и тут основное предположение реализации, а следовательно, жизни, так как жизнь есть процесс духовного совершенствования себя в бытии.
Человек иначе возвыситься не может. Не низводя себя, он остается собою и умирает, то есть делается ничтожным духовно, не успевая возвыситься.
Иначе, как низведя себя, человек не возвышается!
Всякое же самовозвеличение есть призрак и ложь, но не высота, истинная в духе…
Разрушение индивидуальной цельности, естественно человеку присущей, искание помощи в ближнем, искание церкви, смирение, смирение непреодолимое и неизменное…
1895
Р. М. Соловьев. Философия смерти
…Над заснувшей землёй раскинулась тихая звездная ночь. Это была та ночь, в которой обыкновенный, низменный глаз не видит ничего поэтичного. Темнота, луны нет. Жутко склонились старые вётлы над тёмными, как бы застывшими водами. Жутко выглядит, как могучий исполин, старый, густой лес. Страшно! Тишина. Это там, наверху, Божественный Художник1 давно развёртывал свою дивную картину. Бесконечной вереницей, как драгоценные перлы, тянулись разноцветные звёздочки. Из-за горизонта вырастали целые созвездия, и на всём небе то тут, то там ярко переливались звёздные корифеи. Величественно и плавно повёртывался небесный свод. Этот сильный мир охватывал со всех сторон. Это – не та ночь, когда томный свет луны располагает к нежной любви, любовным клятвам и неге. Это могущественная Божья ночь, – сильная. Здесь нет места тоске и неге. Сильно бьётся сердце; замирает дух и выше и сильнее стремится проникнуть этот мир, хочет захватить и унести тебя, как пылинку, куда-то далеко, далеко – куда не может проникнуть даже мысль. Оковы земных страстей, земной привязанности ослабевают всё более и более. В душе раздаётся немой голос: не горюй, глядя на то отдалённое кладбище, где под зелёным покровом лежат дорогие твои; взгляни сюда! Широко льётся здесь кипучая жизнь, сильно-могучая. Оставь ту пошлую, грязную, низменную жизнь; приди на этот вечный пир, слейся с этими мыслями и унесись дальше, дальше – к престолу Творца, и почерпни себе там энергии. Дальше, дальше! Ты – дух; нет тебе места в пространстве отдельного – ни на Земле, ни на Сириусе, ни в Плеядах. Тебе нужен простор; везде тебе тесно. Тесно тебе, как узнику в темнице. Широко распростирайся по всему дивному пространству; по всем мирам! Шире!! Непонятная мощь овладевает всем духом. Глубоко, широко дышит грудь; и дух, проникнутый родственной его природе гармонией, как на могучих крыльях, срывается с земли. Оставайся, слабое тело! – болезненное! Ты только обуза!
Выше, скорее несись, божественная природа духа. Разлейся повсюду, всё проникай, со всем сроднись; поместись в пылинке и охвати вселенную; поднимись, наконец, над всей природой и, свободный высокий дух, приди к твоему Творцу и смолкни в блаженстве…
И снова несутся чудовищные созвездия и вертится колоссальный свод, в бесконечном шествии светлеет на востоке. Сильнее мигают звёзды и исчезают, давая дорогу лучезарному наместнику Творца в нашем мирке. На востоке показалась заря, и заалели и вспыхнули золотом облака, освещённые лучами приближающегося Гелиоса.
…Религиозность подчиняется диалектическому закону: сначала единство – чувство непосредственное; затем впаденье в противоположности – преобладание частностей, так наз<ываемая> наука; наконец, единство – религия, чувство, определяющее себя, возвышающееся в жизнь и проникающее в существо…
…Христианская любовь не есть цель, а средство. Человек везде видит ясно, что получилось бы, если бы он достиг предела. Христос – идеал христианской этики – был на самом деле. Только Космос, цель бытия неизвестны. Признавая науку, мы верим, что она объяснит; если даже не признаём, нам ничего не остаётся делать, как только этим заниматься. Тайна только здесь; остальное нам понятно. Что если мы достигнем христианского идеала и будем обниматься? «И боровы в хлевах обнимаются». Если бы мы достигли идеала в указанном направлении, мы постигли бы, для чего существуем и как. Тогда не может быть подобного разговора. Если бы можно было узнать жизнь из убийства, надо бы без сомнения убить. Одним словом, цель бытия – единственная тайна, и нужно к ней лишь стремиться, всё остальное – частные цели; сюда входит и христианство. Отчего мы не вешаемся сейчас же?
1. Последнее замечание никуда не годится. Да и ясно, что этого никто не сделает, кроме дураков, психически расстроенных, крайне ограниченных и слабовольных людей. Не годится оно потому, что мы не знаем их, мы должны, прежде чем кончить с собой, употребить все меры к нахождению правильного пути.
Вспомним, что Будда не покончил с собой, разочаровавшись в жизни. Припомним слова Шопенгауэра о самоубийцах2. Нужно выйти из обыденной жизни, из пыли и посмотреть с другой точки зрения; выйти из обычной колеи, в которую мы очень вплелись, что не можем себе представить состояния вне общества современных, всех похожих друг на друга, как капли воды, людей. Пожертвуй сначала всем для этого. Познай сам себя, войди в природу, встань на все позиции, – и если тогда нет просвета, стреляйся или вешайся. Пока этого не сделал, ты не имеешь права уничтожать свою жизнь, по крайней мере, на том основании, что нет света. Кто не ищет, тот не может роптать, что он не нашёл… Могут сказать, что люди искали везде и не поведали тайны. Тайны передать нельзя, если даже постичь её. Сравним состояние Будды перед обращением и после обращения. Его вдохновенные слова дышат глубоким сознанием истинности пути; он озарён, он чувствует истину, а что мы черпаем из его слов? Вообще это – красивая поэзия, а не истина. Почему это? В основах жизни паразитом быть нельзя… Чего сам не почувствовал, тому не научишься. Можно бросить жизненный луч, но зерно должно быть у каждого своё, или, по Евангелию, – добрая почва. Смысл проповедника – в сеянии, почва у каждого своей выделки. Вот почему нельзя ссылаться на то, что другие искали; другие это и находили, а не мы. Итак, о таких роковых вопросах говорить светскому человеку так легко – дико. Только тот, кто нашёл идеал, освобождается от обязанности искать его.
2. Наука не разрешает искомого вопроса. Разве она ничего не даёт? Этого не говорю. Всем известна задача: дан корабль, сколько пути проходит, сколько дров сжигает, какие машины и т. д. Много можно интересных вопросов решить, но когда спрашивают узнать по этим данным фамилию или рост капитана, то каждый засмеётся. То же в науке: много вопросов она решает, но вопрос о цели бытия – совсем иного порядка. Она может исследовать течение светил, исследовать процесс жизни физиологически и т. д. Но цели бытия она не постигнет. Наконец, цель бытия, конечно, уж не в том, чтобы отыскивать цель бытия. Наметить путь мы, конечно, должны, но считаясь с силами. Говорить, что наука постигнет тайны жизни, значит – приписывать науке то, чего мы не можем приписывать, значит – не понимать науки. Наконец, кто нас убедит в непогрешимости разума? Почему мы должны верить ему, а не сердцу? Может быть, он ошибается, и лишь сердце дает правду, то есть абсолютное.
3. Идеал любви вовсе не так прост и бессодержателен, как это высказывается. Человек вовсе не видит ясно, что было бы, если бы он достиг предела любви. Христос был на земле; но Христос или непостижимое Чудо – Бог, или простой человек. В первом случае Он и вселенную и цель бытия знает, Он – чудо; во втором Он не идеал и – на бесконечность от него. Так, в охоте за новостями мы можем продать старую дорогую истину и святыню за плохонький фокус. Мы часто проходим мимо самой святой вещи, потому что часто видим её и привыкли к ней, но это недостойно мудрого человека. Идеал любви кажется ничтожным с виду и ничего нового не дающим, но это обман поверхностного взгляда, не видящего глубины. Любовь скорее может привести к цели, ибо она ищет не определения её только, но её самой и глубокого счастия. Развитие её бесконечно, и состояние при дальнейшем её развитии нам неизвестно, таким образом, любовь вполне может обнять абсолютное.
4. Идеал разума во всяком случае превосходства пред идеалом сердца не имеет. Эти идеалы суть аксиомы человека. Без них мы имеем дело с животными. Надо только понять их как следует, так как они могут быть скрыты. Какой же предпочтительней? Этот вопрос возможен, если они противоречат друг другу.
Верующий человек вводит авторитет Бога, который заставляет идеал сердца3 признать основным.
Люди, серьёзно задававшиеся этим вопросом, отрекшиеся от всех удовольствий жизни в поисках истины (Будда, Конфуций, Паскаль4 и др.), пришли к тому же результату, что абсолютное надо скорее искать, можно быстрее найти в области сердца, а не разума.
Наука при своём развитии отходит от какого-либо противоречия. Она учит, что любовь управляет вселенной (в эволюции), что, если она и была сначала лишь в зерне, – с прогрессом она развивается, и царство любви – конечный идеал. Это не значит, что наука открыла любовь; она оказалась противоречить этому идеалу. Поэтому можно сказать, что это утверждение даёт не наука, а весь человек. Всё существо приходит к соглашению; идеалы соединяются, и намечается общими силами направление пути к Истине и Абсолютному. Здесь видим, что идеалы разума и сердца – различных порядков. Первый – средство, которое необходимо, чтобы привести к гармонии всё существо человека, чтобы разум, который восстаёт вначале и считает себя единственным, не только отказался от этого, но служил бы идеалу сердца. Без этого наука не имеет оправдания; это – одно любопытство. Только тот, кто, по Бэкону5, видит, что наука есть храм, созданный к славе Бога, есть истинный ученый человек, а не животное. Понятно, что лести быть не должно, разум имеет законы и не должен подделываться, а идти по своему пути. Тогда жатва в душе человека обильна. Наука заставляет ясно, убедительно, с работой – что всегда глубже – признать царство религии и любви.
Когда все сведено к единству, вместо противников – все союзники; цель ясна, тумана нет, и человек приносит внутренний плод, который хотя и не всегда видим, как одни лишь открытия науки исключительно, но зато ценнее бесконечного. Это – человек, а не учёный. Он может зреть для дальнейшей эволюции.
Нужно стараться так действовать потому, чтобы человек имел оправдание, когда останется хоть частичка его «я». Если подчинимся только разуму, то можем погрешить против Высшего.
Псалом первый
Дайте струны мне, и я воспою Несравненного, Тайну Великую, которому имя – Жизнь.
Он отверг небытие и с высоты Своей бросил зерно и сказал: «Да будет», и воплотил Дух Свой, который есть Любовь.
Я смотрю на светлое солнце, к которому тянется всё живущее, на мох зелёный, весело сверкающий росинками на солнце, смотрю на облако, несущееся далеко на кристальном бирюзовом небе, на дерева высокие, стройные, – и вижу Его Одного.
Я хотел спросить, зачем светит солнце, несётся облако, зачем лес густой бросает тень свою и под своё крыло зовёт всё живущее; но я увидел здесь Тебя, Несравненного, Тайну Великую и умолкнул.
Срубят лес, упадёт облако, зайдёт солнце. Но Ты, Великий, останешься как теперь, ибо имя Твоё – Вечность и Бесконечность!
Вот я вижу: идёт Беспощадное Время – воин великий, окованный с ног до головы, блестящий своим шлемом, и всё разрушает.
Но пусть меняется лес, море и суша – кто уничтожит это, когда Ты – жизнь?
Вот я вышел на горы и увидел вырубленный лес. И стояли пни обезображенные, как черепа на поле битвы, и сказал я с грустью: вот было красивое и стало безобразным, было великое и стало ничтожным. Кто снова даст жизнь мёртвому?
И обернулся я в сторону и увидел: вот на вырубленном месте поднимаются молодые деревья и свежая зелень ласкает глаз.
Вот поднялись гордые чашечки цветов и залили весь воздух благоуханием, и ударило солнце лучами своими, и распустились пёстрые цветы. И прилетели пчёлы, и пили мед, и жуки закопошились в траве.
И упал я в благоговении, и сказал: «Кто Ты, Великий и Дивный, чтобы славословить Тебя? Кто Ты, Кем держатся солнце и малые жуки, без Которого ель не принесёт иглы своей?
Кто Ты, чтобы мне принести Тебе сердце свое? Кто Ты, чтобы мне отдать всю волю Свою?
Вот лес густой стоит, и солнце светит в нём, и листва ласкает глаз своей зеленью.
Шум стоит кругом; вот пролетела пчела, жук чёрный прополз, и белка пробежала и смотрит с ветки.
Вот мошки несутся на солнце, и золотая муха, блестя, сидит на яркой зелени.
Вот птица поёт в вышине, и вершины могучих дерев качаются плавно.
Вот прокричала птица, а муравьи несут сучок в свою нору… Я слышал шум этот и старался разобраться в нём и понять то, что это – Жизнь.
Я понял, что это пчела жужжит, отыскивая мёд; муравей несёт иглу от ели и птица поёт потому, что Ты так хотел.
Я понял, что всё это – нескончаемый гимн Тебе – победителю небытия. Я услышал, что Ты сам везде здесь.
Кто бы выточил крылья этому жуку; кто научил бы трудиться этого муравья; кто выткал бы этот бархатный мох и заставил деревья тянуться вверх, блестя своей одеждой?
Кто мог бы создавать солнца и не забыть это мелкое существо, которое лежит на пределе моего зрения? Кто, кроме Тебя?
Я смотрел на деревья и думал, что они стоят неподвижно.
Я смотрел на гору и думал, что всегда она будет стоять так; смотрел на солнце и думал, что оно вечно.
Но теперь я понял, что всё течёт и всё говорит, как тонкая восковая свеча, и Ты один неизменен.
Где тот, кто хотел снять покрывало Тайны с лица Твоего? Разве не пронеслись они все, как облако несётся по кристальному небу?
И понял я, что это всё – облако, которое несется по воле Твоей, и Ты только вечен.
Срубят лес, красоту дивную, и убьют птиц и зверей, но зазеленеет новый, и новые птицы запоют в нём, и новые звери закопошатся в нём.
Вот умер старец, но рядом с безобразным черепом этим тихо светится Жизнь младенца.
Умрёт солнце, но засияет новое; оживет Красота, и Истина, и Благо, ибо Ты – жизнь бесконечная.
И снова окинул взором я лес великий и увидел, что на нём крупно написано: Жизнь. И поклонился я до земли и припал в благоговении.
Псалом второй
И ударил я по струнам своим, и слышна была грусть.
Тысячи стрел вошли в сердце моё, и не нашёл я врача, который бы исцелил его.