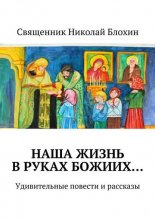Русская философия смерти. Антология Коллектив авторов

Спиритуалист. Мне кажется, это вполне понятно; вопрос, о котором идет речь, чисто теоретический вопрос метафизики, и приплелетать к нему психологию умирания значило бы, что называется, «хватить из другой оперы», представляло бы, как говорят ученые, «metabasis eis allo genos»2.
Материалист. Речь идет не о смешении психологии с метафизикой, а о сближении проблем метафизических с психологическими. Я думаю, ведь вы, Спиритуалист, всего менее склонны исключать психологию как естественную науку из сферы философии.
С. В таком случае я ничего не имею против подобного сближения.
М. Я замечу со своей стороны, что чрезвычайно важно прислушаться к голосам и тех людей, которые хотя и размышляют над философскими проблемами и усваивают себе определенную точку зрения на данный вопрос, но все же не являются философами. Ведь между ними встречаются и такие, которые склонны к материализму, и такие, которых привлекает спиритуализм, наконец, встречаются часто и тяготеющие к пантеизму (то есть монистическому идеализму), предполагающие, что индивидуальная душа, умирая, сливается с Богом, Мировым Духом, «Абсолютным Я», Сознанием Вообще3 и т. п. Скорбь и страх, внушаемые мыслью о смерти, не следует смешивать с патологическим страхом смерти, присущим некоторым людям вроде Андреевского4, написавшего по этому поводу два тома. Подобный страх смерти имеет характер каких-то припадков, постигающих человека не только на смертном одре, а также в известные моменты расстройства его нервной системы. Но печаль и тревога человека, думающего: «Venit mors velociter, rapit nos atrociter, nemini pacetur»5, – касается не только его личной судьбы, внушаема не одним эгоизмом, но и любовью к близким, и горьким сознанием гибели всего человечества. Мы, материалисты, так же мучительно сознаем трагизм гибели творческой неповторимой индивидуальности человека, носительницы порой великих ценностей, как и вы, спиритуалисты, верующие в личное бессмертие души. Позвольте привести вам слова одного материалиста. По поводу смерти своего друга, архитектора Гартмана6, Мусоргский пишет: «Нас, дураков, обыкновенно утешают в таких случаях мудрые: «его не существует, но то, что он успел сделать, существует и будет существовать, а, мол, многие ли люди имеют такую счастливую долю – не быть забытыми»». Опять биток (с хреном для слезы) из человеческого самолюбьица. Да чёрт с твоей мудростью! Если он не попусту жил, то каким же негодяем надо быть, чтобы с наслаждением утешения примиряться с тем, что он «перестал творить». Нет и не может быть покоя, нет и не может быть утешения – это дрябло… Вот дурак, к чему злоба, если она бессильна? Да, бишь, вспомнил:
- Спящий в гробе, мирно спи,
- Жизнью пользуйся, живущий!
Скверно, но искренне!» (1873 г., 2 авг. Письмо к Стасову № 124. Письма Мусоргского, изд. под ред. А. Н. Римского-Корсакова с примечаниями)7.
С. Однако вы не назовете ни пошляком, ни глупцом великого поэта Лукреция Кара, который, по примеру Эпикура, опираясь на жалкий софизм, пишет следующее: «Смерть есть ничто и нисколько нас не касается, ибо природа у духа смертная, и, как в бывшее до нас время мы не чувствовали никакой боли, когда все стихии, потрясенные страшным шумом борьбы, сталкивались под высокими сводами неба, так и когда нас не будет: когда произойдет разделение между телом и душой, с нами, переставшими существовать, ничего не может случиться, ничто не пробудит в нас чувства, хотя бы земля слилась с морем, а море – с небом. Надо поэтому знать, что нечего бояться смерти; тот, кого больше нет, не может быть несчастным, и никакой разницы у того, у кого бессмертная смерть отняла смертную жизнь, как если бы он совсем не родился. Поэтому, когда ты видишь человека, который жалуется на то, что с ним будет после смерти… знай, он не совсем выбрасывает себя из жизни и бессознательно заставляет существовать еще кого-то после себя, он недостаточно отодвигает себя от лежащего трупа, но представляет его собою и, стоя возле него, заражает его своим же чувством. А потому и негодует, что рожден смертным, и не видит, что в действительной-то смерти у него не будет другого «Я», которое могло бы жить и оплакивать свою гибель, и стоять над лежащим, и терзаться и гореть от скорби. <…> Но, усыпленный смертью, ты в течение всех грядущих веков останешься чужд всех страданий» («De rerum natura»8, III, 842–918, passim.)
Майков в своей поэме «Три смерти»9 вложил в уста эпикурейца следующие стихи, повторяющие мысль Лукреция:
- Но, смертный, знай: твой тщетен страх.
- Ведь на твоих похоронах
- Не будешь зритель ты!
- Ведь вместе с дружеской толпой
- не будешь плакать над собой
- и класть на гроб цветы;
- По смерти стал ты вне тревог,
- Ты стал загадкою, как Бог,
- И вдруг душа твоя,
- Как радость, встретила покой,
- Какого в жизни нет земной, —
- Покой небытия!
М. Вы, почтеннейший, не чувствуете той безысходной печали, которою обвеяна поэма Лукреция, эту печаль он лишь прикрывает своими якобы легкомысленными рассуждениями о смерти. Так и пессимист Байрон писал в письме к Лонгу10: «Ridens moriar»11.
К. Для материалиста абсолютное прекращение индивидуального существования человеческого духа представляется до такой степени очевидным, простым, как и возникновение личности человека из мертвой материи – или для психоматериалистов (гилозоистов) из слияния атомных «душонок» в высшее духовное единство, – что некоторые из материалистов склонны считать веру в бессмертие души исключительно злостной выдумкой, а между тем именно среди вас, материалистов, очень многие не только склонны верить в личное бессмертие, но придумывают такие теории, которые оправдывают бессмертие именно с материалистической точки зрения. Заметьте, ведь я имею в виду при этом не тех, кто механически совмещают в своем сознании материализм с церковным спиритуализмом, но тех, которые верят в личное бессмертие, не покидая почвы чистого материализма или психоматериализма.
М. Кого же вы имеете в виду?
К. Во-первых, спиритов и антропософов, которые выдумали учение о материальной душе, состоящей из особого утонченного «астрального» вещества; душа при смерти покидает свое тело, как какой-нибудь футляр, и сохраняет все свои душевные способности, в том числе и память на личное прошлое. Эту теорию разделяли и развивали не какие-нибудь шарлатанские медиумы, но такие великие умы, как Крукс12, Уоллес13, Цельнер14, Бутлеров15 и Остроградский16. Во-вторых, я имею в виду учение о вечном повторении истории мира – die Ewige wiederkunft17. Оно было популярно уже у древних греков, индусов и вавилонян – annus magnus18, – до нее додумался просидевший в тюрьме 27 лет Бланки, до этой страшной, хотя и фантастической теории; ее проповедовал и психоматериалист Ницше, и к ней благосклонны некоторые физики, поклонники Эйнштейна.
М. Спиритизм и учение о вечном круговороте – редкие разновидности материализма?
С. Вы ошибаетесь, таких материалистов очень много.
П. Но этого мало. Множество материалистов сбиваются в своих взглядах на судьбу человеческой души на спинозизм, на учение пантеистов.
П. Позвольте добавить, что это часто делается материалистами, поклонниками Спинозы, системе которого они придают характер психоматериализма или гилозоизма, отбрасывая понятие Бога, как natura naturans19 и создавая из его учения об атрибутах «монизм» в духе Гегеля. Между тем вся суть пантеизма заключается именно в том, что он делает для нас понятным, почему все разумные существа носят в себе общую печать их божественного источника – одинаковые законы и формы познания, с которыми тесно связаны общие нормы добра и красоты. Недаром Шуппе20 называет Бога «Сознанием вообще», а Шпир21 – «нормальною природою вещей». Умирая, человек погружается в бесконечное Всеединство, источник безусловных ценностей. Мы, умирая, живо ощущаем свою причастность Богу, частицу которого мы составляем, мы чувствуем себя вечными – «sentimus nos aeternus esse»22. Пантеизм раскрывает ту интимную связь, которая заключается в Боге, «in eo enim omnes vivimus, movemus et sumus»23, как говорит ап. Павел. Спиноза особенно дал нам почувствовать божественную основу науки, философии, математики – вообще интеллектуальных ценностей, Шеллинг – эстетических, а Шопенгауэр и буддисты – моральных ценностей, в актах самопожертвования и деятельной любви, в которых мы, обособленные души, подлинно сливаемся с Божеством – «insencй qui crois que je ne suis pas toi»24 (Гюго). В моменты эстетического вчувствования мы также подлинно сливаемся с божественной красотой.
К. Однородность наших интеллектуальных практических норм, я думаю, не отрицает и М., хотя он дает им чисто эмпирическое объяснение, но если у материалистов известная цельность их «метафизического стиля» нарушается тем, что они все же то сбиваются на ваш пантеизм, то склоняются к посмертному сохранению духовных индивидуальностей, то есть спиритуализму. Но ведь та же сбивчивость наблюдается и у пантеистов: и они вводят идею переселения душ, кармы, палингенезии, метемпсихоза, – буддизм, Шопенгауэр. Человек после смерти, перевоплотившись, продолжает жить и расплачивается за грехи своего предшественника. С другой стороны, если материалисты сбиваются на пантеизм, но и спинозисты сбиваются на материализм.
С. Зато мы, спиритуалисты, исповедуем чистое учение: мы считаем душу субстанциональным деятелем25, вневременным и внепространственным. Человек, умирая, сохраняет в памяти свое прошлое и всю полноту своего морального сознания. Мы – плюралистические идеалисты, признаем рядом с Богом существование множества бессмертных духов. От монистического идеализма или пантеизма мы отталкиваемся самым решительным образом, а в материализме упрекать нас было бы просто смешно.
К. Дорогой мой, я склонен думать, что ваш спиритуализм в наиболее распространенной форме христианской метафизики представляет смесь именно материализма с пантеизмом и плюралистическим идеализмом. Во-первых, душа, по-вашему, субстанция нетленная, вечная, лишь как terminus ad quem26, то есть будущее время, однако в прошлом ее не было, она сотворена из ничего божественным чудесным актом. Объяснять происхождение души из движения материальных частиц или ссылкой на сверхъестественное происхождение, не чудо – согласитесь, одно стоит другого: в обоих случаях мы находим одинаковый, ничем не мотивированный отказ от всякого понятного объяснения. Затем, у вас душа, «монада», с одной стороны, вневременна и внепространственна, – образует, так сказать, метафизический пункт, а, с другой стороны, она имеет тело, является очень маленьким зародышем, который, что называется, в «огне не горит и в воде не тонет», после смерти человека благополучно сохраняется в мире при всех геологических и астрономических пертурбациях, при самых высоких и низких температурах до нового вселения в человека. Выражение «будущая жизнь», которое вы любите употреблять, не может иметь в ваших же глазах никакого смысла, ибо, по-вашему, «там» времени нет, время есть следствие нашего грехопадения. Далее, то, что вы называете сверхвременным и сверхпространственным, то есть общепринятые истины и ценности, на самом деле всевременны и всепространственны. Затем, ваши мистики пишут о слиянии с Богом, о покое в Боге так, что отличить их идеи от пантеизма (или монистического идеализма) совершенно нельзя. Недаром церковь постоянно преследовала мистиков, заподозривая в них не без основания замаскированных пантеистов.
Любопытно наблюдать, как такие спиритуалисты, как Фехнер27, Джемс28, Байрон и Достоевский, беспомощно ломают голову над своего рода квадратурой круга, как примирить полное слияние человеческих душ в Боге с их полной индивидуальной обособленностью. Наконец, когда вы описываете будущую жизнь душ с астральными телами (soma en dinamoi)29, прозрачными и проникающими друг в друга, ваш пансоматизм есть не что иное, как утонченный материализм, причем слова Священного Писания, предназначенные для мистического постижения верующими, вы толкуете в научном смысле слова, в плане рационального познания, создавая новую, совершенно фантастическую физику, которая не только никакой опоры в нашем опыте не имеет, но и заключает в себе логические противоречия, ибо стушевывает всякую границу между телом физическим и телом геометрическим, или дает повод к вопросам, над которыми в своем «Венце веры католической» схоластик Симеон Полоцкий30 ломал голову: «Будут ли в преображенном теле кишки и будут ли они чем-нибудь заполнены?» Но я говорю все это не для того, чтобы спорить с вами по существу, а хочу обратить внимание всех вас трех, мои любезные друзья, что вы все трое ломаете голову над невозможными задачами в плане рационального познания и вовсе не так противоположны друг другу. Каждый из вас, выбирая одно из трех решений, кажущихся возможными, не брезгает и остальными двумя. Удивительно, что многие историки философии не замечали до сих пор этого поразительного факта.
С. Вы несправедливы ко мне. Я вовсе не имею в виду строить какую-то новую псевдофизику астральных тел, я высказываю лишь скромную догадку о том, что мы можем лишь смутно прозревать, яко зерцалом в гадании, и что вполне раскрывается лишь в мистическом опыте. Вообще идея бессмертия требует для своего полного достижения металогической интуиции. Я имел случай показать, что и наше рациональное познание заключает в себе сверхрациональные элементы, ибо конечное мы постигаем лишь через бесконечное. Соприкасаясь «мирам иным» в бессмертии, мы делаемся причастными чему-то сверхрациональному. Это великолепно понимал Лермонтов, полагавший, что без бессмертия души человек был бы только комом грязи:
- Когда б в покорности незнанья
- Нас жить Создатель осудил,
- Неисполнимые желанья
- Он в нашу душу б не вложил.
- Он не позволил бы стремиться
- К тому, что не должно свершиться,
- Он не позволил бы искать
- В себе и в мире совершенства,
- Когда б нам полного блаженства
- Не должно вечно было знать31.
Бог вложил в самый наш разум тягу, «Sehnsucht»32 к сверхлогическому, абсолютному. Этого вам, почтеннейший, не понять, ибо вы склонны ко всему на свете прикладывать «деревянный аршин вашего разума», по великолепному выражению Владимира Соловьева.
Хотя мы собрались сюда сегодня, как вы уже заметили, не для того, чтобы обсуждать проблему смерти, все же выясните нам, почему вы находите идею личного бессмертия самопротиворечивой?
М. Я, со своей стороны, был бы рад услышать от почтенного Критика, почему он воображает, что идея полного уничтожения человеческой личности для него не самоочевидна.
П. А я желал бы знать, что нелепого находите вы в идее слияния индивидуума со сверхличным единством Божества. Представьте себе источник электрической энергии в 100 000 лампочек, соединенных с ним. Не так ли и духовная энергия Единого сверхличного Божества индивидуализируется в миллиардах одушевленных существ?
К. Милый друг, сравнение – особенно в данном случае – не доказательство. Вы высказали не более как красивую метафору.
С. Вы сами знаете, признаете, что мозг нельзя рассматривать как полную причину сознания, в таком случае мы должны бы были согласиться с Бергсоном, который писал в «Energie spirituelle»33: «Если духовная жизнь выходит за пределы мозга, если мозг ограничивается тем, что переводит в движение лишь малую часть того, что происходит в сознании, то в таком случае переживание (посмертное) становится столь правдоподобным, что обязанность доказывать падает скорее на того, кто его отрицает, а не на того, кто его признает, ибо единственным основанием верить в угасание сознания после смерти является тот факт, что мы видим разложение тела».
К. Мысль о том, что тело есть лишь орудие, инструмент для прославления деятельности духа, высказывается многими христианскими писателями до Бергсона, но последний забывает, что душа, отделенная от тела, есть «вещь в себе», а не явление, и мы не знаем, можно ли применять вероятные умозаключения к вещам в себе, поэтому он переносит наши законы мышления на вещи в себе, – законность же такого переноса не может быть установлена ни в положительном, ни в отрицательном смысле.
С. Ваш излюбленный refrain «Metaphysicam esse delendam»34, потому что мы не можем постигнуть природу вещей в себе. Этот refrain нам порядочно надоел. Противоположение явлений и вещей в себе падает само собой для того, кто понял, что металогическое, сверхрациональное является необходимым условием самого разума.
К. Чем более мы проникаемся чувством причастности к высшим ценностям, тем более мы уподобляемся Богу, и это приближение к идеалу, когда оно делается для нас привычным, и презирает ничтожество, груду праха в героя, творца, святого. Но приближение еще не означает слияния, отождествления.
П. Нет, именно слияние имеет место в высокие, патетические минуты человеческого существования.
К. Пантеизм проявляется в трех формах – эстетической, интеллектуальной и морально-религиозной. Страстная погруженность в отвлеченную мысль, в радости научного творчества – все те amor Dei intellectualis35, которую проповедовал Спиноза и реально осуществляли герои науки. Когда римский солдат с мечом в руках набросился на Архимеда, чертившего фигуры на песке, тот проявил только испуг, как бы солдат не стер его чертеж. Amor Dei intellectualis выше страха смерти. Таков же и религиозный пафос поэта. Творец «причастный бытию блажен». Вспомним Vermchtnis36 – завет Гёте:
- Кто жил – в ничто не обратится.
- Повсюду вечность шевелится,
- Причастный бытию блажен.
И дальше:
- В ничто прошедшее не канет,
- Грядущее досрочно манит,
- И вечностью наполнен миг.
- …
- Лишь плодотворное цени:
- Кто создает толпе незримой
- Своею волей мир родимый,
- И созерцатель, и поэт.
- Так ты, причастный благодатям,
- Высокий дар доверишь братьям,
- А лучшей доли смертным нет.
Наконец, в актах самопожертвования в полной мере осуществляется отождествление душ героя и жертвы в Боге.
В пантеистическом понимании Бога и бессмертия надо заменить идею слияния идеей вживания, приобщения, участия, потому что, во-первых, два сознания сливаться не могут по самому понятию сознания, как совершенно замкнутого единства, а во-вторых, потому что понятие божественной субстанции в духе Спинозы, как абсолютной законченной бесконечности, само себе противоречит.
П. Ну, об этом у вас недавно были споры со спиритуалистом и со мной. (Диалог: «Проблема индивидуального».)37
К. Я добавлю только, что пантеизм, может быть, был бы приемлем только в том случае, если бы наверное знали, что вещи в себе не подлежат власти закона противоречия. Тогда нас не смущала бы наличность вопиющего противоречия в понятиях слияния сознаний и в идее трансцинитной субстанции. Вот почему при всей ценности идеи слияния с Богом, с идеалом, она ценна лишь как метафора. Для умирающего при желании понять ее буквально она оказывается неубедительною. Это гениально подметил Лев Толстой, который сам был близок пантеизму. Умирающий Андрей Болконский нашел на минуту успокоение при мысли, что, умирая, он сольется с Высшим Источником всех ценностей, Богом, который для Андрея Болконского, как и для Левина, есть Любовь, вдруг остро чувствует неубедительность этой идеи. Правда, она, вероятно, и как символ воспринималась им холодно. Пантеисты и мистики, быть может, глубже других поняли ценность того Вселенского Чувства, которое присуще человеку как самая высшая эмоция, сопровождающая божественную жажду всезнания и проявляющаяся как вселенская любовь и жалость, или как восторг при созерцании высшей Красоты, особенно тех, которые не только постиают душой высшие ценности, но и активно участвуют в их созидании, укреплении и усовершенствовании.
М. Во имя справедливости вы должны были бы заметить, что вселенское чувство доступно и материалистам, – укажу на Дюринга, которому именно и принадлежит выражение «универсальный аффект».
К. Именно я и обратил первый на это внимание мистиков и пантеистов.
М. Скажите, но что же заставляет вас так решительно осуждать материализм? Ведь и материальному не чуждо постижение великих ценностей?
К. Я никогда этого не оспаривал, как этого никогда не оспаривал и Вл. Соловьев, находивший, что многие между ними «имени Христова суть», но мне кажется, это бывает почти всегда плодом счастливой непоследовательности. Гюго рассказывает об одном атеисте, который героически спас двух утопавших женщин и потонул, спасая третью. Бальзак сообщает об атеисте, профессоре медицины, который по просьбе одного сапожника, выручившего его в дни его студенческой юности, ежегодно заказывал служить по нем мессу и сам всегда на ней присутствовал. Я думаю, что пафос материалиста лежит главным образом в культе науки и пантехникализма. Но в области чистой мысли он неприемлем для меня потому, что он дает иррациональное толкование самой природе познания и сознания. Сознание, его волевая и умственная структура является первичной предпосылкой всякого разумного объяснения, и потому, когда материалист хочет объяснить происхождение мышления и сознания из движения частиц материи, то он пытается, по выражению профессора Каринского, перешагнуть через самого себя – он уподобляет сознание египетскому богу Гору, которого рождает его собственная мать, а потом он, ее собственный сын, порождает собственную мать.
М. Очевидно, для вас эволюция сознания из материи и из простейших форм духа, а с нею и вся зоопсихология совершенно не имеют никакой цены.
К. Наоборот, я ее высоко ценю, но полагаю, что мы можем постигать низшие формы духа лишь в свете высших форм, то есть не путем сложения элементов низшей психики получаются начала разумности, но путем мысленного вычитания из высших ступеней разумности мы можем получить первичные начала разумности, тождественные у нас с животными, – таковы элементарное отождествление, различение, узнавание, влечение и отталкивание в области воли. Из чистых ощущений нельзя вывести разума. Выводить самые ощущения из движений материи имело бы смысл, может быть, лишь тогда, если бы мы могли быть уверены, что законы мышления не распространяются на вещь в себе, то есть на материю.
Сама вера в человеческий разум у материалистов подрывается интеллектуальным скептицизмом и моральным релятивизмом, лежащим у корня их системы. Вот почему материализм часто порождает безысходное отчаяние. В. В. Стасов38, бывший материалистом, писал незадолго до смерти: «Вся эта штука – жизнь и смерть – вещь ужасная, нестерпимая, словно безумие бреда, фантазия какого-то сумасшедшего. <…> А что это за нелепость, вздор и глупость вся эта природа, красивая, чудесная, прелестная, со всеми своими красотами и совершенствами, с миллионами гибнущих созданий и тварей – и принужденных все-таки потом еще раз воскреснуть! На что, на что, на что все эти безумия и глупости! Я себя все утешаю тем, что против пакостного устройства всемирной природы, в том числе нашего тела, всех наших похотей, вкусов и побуждений (телесных, физических), ничего нельзя поделать, а только посылать их ко всем чертям, что я и делаю теперь с утра до вечера. Кто способен что-нибудь думать и понимать в наше время, не может быть чем-нибудь иным, кроме как анархистом, пессимистом по всем, по всем частям, а не по одной политической!»
С. Молодец, Стасов! Ведь он был на волосок от душевного переворота, ведь именно такое отчаянное душевное состояние ведет или к самоубийству (вспомните героя «Приговора» у Достоевского), или к принятию веры в Бога, потусторонний мир и бессмертие души. Ведь и Достоевский пережил душевный мрак материалиста из подполья, как и великий его испанский единомышленник Унамуно, что и описано в его «Трагическом чувстве жизни»39.
М. Нельзя минутное проявление отчаяния истолковывать как общее выражение философского мировоззрения. Стасов не нуждался ни в каком обращении – он всю жизнь радостно служил добру, творя и пробуждая к творчеству своим энтузиазмом других. Он писал однажды Балакиреву40: «Мы все рождены только на то, чтобы рожать из себя новые создания, новые мысли, новую жизнь, как женщины, чтобы рожать новых детей. Я твердо убежден, что от самого малого человека и до самого большого <…> все только тогда счастливы и спокойны, когда могут сказать себе: «Я сделал все, что мог». Все остальное в жизни – ничто. <…> По счастью, это наслаждение неиссякаемое, потому что в каждого человека вложен большой запас способности рожать».
С. Прекрасные слова, но они написаны Стасовым в 1858 году, когда ему было 34 года, почти mezzo di cammin di nostra vita41, а перед смертью в восемьдесят лет он думал иначе. Я знаю только одного великого материалиста оптимиста – это, по преданию, всегда жизнерадостный Демокрит. Другой великий материалист, Вольтер42, верил в Бога и в безусловность нравственного закона, что, впрочем, не помешало ему сказать аббату, предложившему ему перед смертью миропомазание: «Вы хотите подмазать старую тележку маслицем перед отправлением ее в далекое путешествие». Я возвращаюсь к моему вопросу, достопочтенный Критик, оставляя в стороне метафизические доказательства и рассуждения, не находите ли вы, что тайна веры в бессмертие лежит в любви, доступной всем людям, по крайней мере, очень многим. От Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны до Пушкина, Грановского43 и Байрона в ней именно лежит тайна бессмертия. Вспомните пушкинское «Заклинание» и «Для берегов отчизны дальней», «Euthanasia»44 Байрона, «Выхожу один я на дорогу» Лермонтова. Вспомните умирающего Грановского, держащего в своей холодеющей руке руку горячо любимой жены. Равным образом и тайна зарождения жизни связана с любовью, и сама половая любовь в высоком смысле этого слова связана со стремлением к бессмертию. Знаменитый анатом Пирогов45 рассказывает по поводу своего второго брака, что, получив согласие горячо любимой невесты, он живо почувствовал жажду бессмертия, и это не было простой сентиментальностью в устах такого реалиста, каким был Пирогов.
К. Любовь есть живое чувство ценности индивидуума, неповторимого, единственного в своем роде, и нам естественно желать навеки сохранить эту ценность. Но в индивидууме подлинно ценным является нечто типически индивидуальное, а не все решительно, образующее эту индивидуальность, но типически индивидуальное, неотделимо от остального, и мы поневоле желаем сохранения в вечности всего человека, его психофизического Я целиком; что так же невозможно, как обособленное от индивидуальных сознаний существования Наиобщего. Bewusstsein berhaupt46 – в этом разрыве между общим и индивидуальным заключается мнимая тайна пантеизма и мнимая тайна личного бессмертия, так как ни абсолютно индивидуальное, как вот эта душа, ни абсолютно общее, как Сознание вообще в мире явлений существовать не может, как не может быть чувственность без рассудка и рассудок без чувственности. Замечу, не следует злоупотреблять словом тайна. В философии очень часто это слово появляется у философов на смену Geheimnis, Abenteuer, Mysterium47, когда проблема ложно поставлена и для нее не может быть никакого решения, как нельзя осуществить perpetuum mobile48. Но я отношусь с полным сочувствием к вашим стремлениям. Мы порой именно так любим, как будто имеем дело в лице любимого существа с вечной ценностью; в порывах любви мы живо ощущаем непреходящий характер нашего чувства ценности, но и слова «личное бессмертие», как и «слияние с Божеством» являются все же здес лишь подходящими метафорами. Замечательно, что жизнь обособленной души в потустороннем мире для плюралистического идеалиста нередко кажется какою-то не вполне убедительной, как для монического идеалиста слияние с Богом. В «Илиаде» Ахиллес заявляет, что он предпочел бы быть поденщиком на земле, чем царем в царстве теней, не ясна и для еврея идея посмертного существования, шеола, и бесхитростная верующая крестьянка Анна («На дне» Горького) заявляет, что она предпочла бы еще пострадать на земле, чем найти себе покой и отдых на том свете. Очевидно, в данных случаях замечается какая-то недохватка в чувстве реальности. Конечно, это далеко не всегда имеет место, ибо вера в личное бессмертие, как известно, иногда ведет к героическому самопожертвованию, как и вера в блаженную Нирвану у буддистов-пантеистов.
М. Прибавьте, как и вера материалиста в торжество его идеалов на земле. Ваша точка зрения, Критик, мне все же представляется безнадежным синкретизмом. Я уже говорил вам, что отличительной чертой кантианцев является половинчатость, и я бы сказал, что в данном случае ваш критицизм вынуждает вас сесть между двумя стульями, если бы в данном случае перед вами не было трех возможностей. В отношении к кантианскому идеализму я вполне схожусь с Maritain’ом49 (нужды нет, что он католик), который считает «вторжение идеалистической философии в известную цивилизацию симптомом постарения». Это – sclеrose de l’intelligence50. Подобные же мысли высказывал Stanley Hall и Джемс, который говорит о критицизме: «Старый музей кантовского брик-а-брака»51.
К. Я отнюдь не оспариваю вас. Материалист Герцен когда-то писал спиритуалисту Юрию Самарину52: «История нам указывает, как язычники и христиане, не веровавшие в жизнь за гробом, и веровавшие в нее, умирали за свое убеждение, за то, что они считали благом, истиной, или просто любили, а вы всё будете утверждать, что человек, считающий себя скучением атомов, не может собой пожертвовать». Герцен прав, но что же это доказывает? Это доказывает, что положительной стороной мировоззрения человека, как верующего в личное бессмертие, так и не верующего, так сказать, коэффициентом полезного действия его философской системы служит в обоих случаях степень его причастности высшим духовным ценностям, его действенного участия в их сохранении и приумножении. Но это не исключает того факта, что у одного из них вера в потустороннее является необоснованной, а у другого его неверие опирается на столь же необоснованный отрицательный догмат.
П. Может быть, мы в заключение нашей беседы попросим вас выяснить вопрос о том, как вы смотрите на отношение человека к мысли о смерти, – должен ли, например, философ постоянно думать о ней, есть ли наша жизнь melete thanatu, есть ли философия meditatio mortis53, как думал Платон, или, наоборот, свободный человек, как говорил Спиноза, всего менее думает о смерти, и его мудрость не есть медитация о смерти, но медитация о жизни.
С. Многие мыслители указывают на то, что между жизнью человека и его смертью, если она не внезапна и случайна, должна быть известная органическая связь. В жизни мыслящего человека должна быть, как говорят музыканты, известная форма, известная архитектоническая логика. Говорят, Солон сказал Крезу54: «Никого нельзя назвать счастливым до его смерти». Ту же мысль находим мы у Овидия: (Met. III, 27) и у Сенеки: «Кто не сумеет хорошо умереть, прожил плохо свою жизнь. Недаром родился тот, кто хорошо умирает; кто счастливо ее закончил, не прожил ее бесполезно. Всю жизнь надо учиться, как умирать. Это главная обязанность нашей жизни». Того же мнения и благочестивый Шаррон, и элегантный Лафонтен. Шаррон в своей книге: «De la sagesse» в главе «De l’art de bien mourir»55 пишет: «Чтобы судить о жизни, надо иметь в виду ее завершение, ибо конец венчает дело и добрая смерть воздает честь нашей жизни, а дурная ее позорит <…> последний акт комедии является, без сомнения, самым трудным». А Лафонтен в басне «La mort et le mourant» замечает:
- Se vondrais qu’а cet age
- On sortit de la vie que d’un banquet
- Remerciant son ht et qu’on fit son paquet56.
К. В этих мыслях справедливо, что жизнь в известной мере творится нами, но мы должны к этому творчеству относиться сознательно, внося в него разумную планомерность. Но творчество никогда не может быть умышленно планомерным – план как-то слагается сам собой во время работы, а осуществляя план своей жизни, сообразуясь со своими дарованиями, эстетическими вкусами, нравственными идеалами, человек должен не терять времени, творить, родить непрестанно, не упуская, конечно, из виду и возможность смерти. Но быть придавленным идеей смерти, как idеe fixe57, тупо, бессмысленно ждать ее, как монах на картине Сурбарана58, вечно уныло созерцающий человеческий череп, – поистине отвратительное занятие, как фантазия юного Лермонтова, созерцающего свой собственный разлагающийся труп59. Наоборот, тысячу раз прав Спиноза: «Мудрость философа есть медитация о жизни, а не о смерти – пусть мертвые погребают мертвых». Вживание в жизнь, безмерная любовь ко «клейким листочкам», к высшим сверхличным ценностям жизни ставит нас лицом к лицу с вечностью. В экстазах творчества, в созерцании красоты, в актах деятельной любви мы как бы выключаем себя из временной цепи событий и приобщаемся вечному. Это прекрасно нам описали Тургенев и Толстой. Смерть, где твое жало?60 – для старика, который весь поглощен судьбой любимых внучат, для д-ра Газа61, преисполненного своими добрыми делами, для сестры милосердия и т. д. Гениальный композитор, выдающийся химик, вечно поглощенный общественными делами и крепко любящий окружающих его людей, писал жене: «Если бы ты знала, какой болью мне отзывается скорбь мамы, болезнь Александра, даже положение Маши – всё! – веришь ли, что подчас рад бы умереть, до того тяжело»62. Да, для этого человека, созидателя высших ценностей сразу в трех планах, эстетическом, научном и моральном, мудрость была медитацией жизни, а не смерти. Его ждала непостыдная кончина живота – он умер свято, мирно и безгрешно. Упал мертвый на балу студентов-медиков. Его сердце не выдержало того напряжения в творческой работе и жертвенной любви, которые составляли всю сущность его жизни.
Когда однажды Конфуция63 спросили, что он думает о смерти, он отвечал: «Я еще не понял, что такое жизнь; когда пойму, я займусь смертью». Будучи при смерти, он получил от окружающих предложение читать отходную. Он сказал: «Вы думаете, что это полезно, ну так читайте, – надо исполнять установленное нашими предками». «В минуту опасности надо обращаться к духам неба и земли», – сказали ему. «О, духов неба и земли я всю жизнь почитал и умалял в глубине меня самого».
1925–1929
Г. В. Флоровский. О воскресении мертвых
1. Вечный залог и опору надежда христианская имеет для себя в пасхальном благовестии. Это есть благая весть о разрушении смерти. «Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечного начало» (из пасхального канона)… От начала апостольское проповедание было о Воскресшем. Первыми благовестниками были «свидетели воскресения», самовидцы Слова. Свидетельствовали они о том, что сбылось и совершилось, что было явлено и показано в мире, чего очевидцами были… Возвещали об Иисусе воскресение мертвых… И в том вся спасительная радость Воскресения Христова, что есть оно уже залог и начаток вселенского воскресения… Воскресший Христос со-воскрешает «всеродного Адама», открывает и обновляет воскресный путь всякой плоти. И «как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (I Кор. XV. 22)… Это одна из первых тем древнего правила веры. Достаточно перечесть уже всю эту ослепительную «воскресную» главу в Первом послании ап. Павла к оринфянам, это подлинное Евангелие воскресения… И апостол настаивает здесь со всей силой. «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес… Ибо, если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес» (ст. 13, 16). Апостол хочет сказать: самое воскресение Христово обессмысливается, если не было оно вселенским событием и сбытием, если с Главою нераздельно не предвоскресает уже и все Тело… Вне воскресного упования обессмысливается и обессиливается всякая проповедь о Христе. И самая вера в него теряет смысл, становится пустой и напрасной, – не во что было бы веровать… «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших» (ст. 17)… Вне воскресного упования веровать во Христа было бы всуе и вотще, было бы только суеверием… «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (ст. 20)… И в этом – победа жизни…
2. Все первохристианство живет в этой преисполненной радости о Воскресении, в этом светлом предчувствии последнего исцеления и восстановления всей твари. Пусть яд смерти, взошедший в мир через грех, и обращается еще в тканях и составах человеческого бытия, – безнадежность смерти уже сокрушена, сила смерти уже истощилась, власть тления уже отменена. И дарована человеческому роду благодать воскресения… Новая жизнь уже струится в тканях преображенного мира. Открывается уже таинственная весна благодати, невечерняя весна истины и нетления. «Правда, мы и теперь умираем прежней смертью, – говорит Златоуст, – но не остаемся в ней, и это не значит умирать. Сила смерти в том, что умерший уже не имеет возможности вернуться к жизни… Если же он после смерти оживет, и при том лучшей жизнью, то это уже не смерть, но успение»1*… И не только веруем или чаем воскресения мертвых, но «отчасти» уже и участвуем в нем, предвкушаем его в святых таинствах. В Святейшей Евхаристии подается верующим это священное «врачевство бессмертия», как говорил св. Игнатий Антиохийский, – «противоядие, чтобы не умирать» (Ефес. XX. 2 – , – ). Евхаристия есть залог и обручение вечной жизни… В христианском опыте впервые смерть открывается во всей глубине своего трагизма, как жуткая метафизическая катастрофа, как таинственная неудача человеческой судьбы… Человеческая смерть не есть только некий «естественный» предел или удел всего преходящего и временного. Напротив, смерть человека вполне противна естеству. «Бог смерти не сотворил» (Прем. 1. 13), – творит Бог для пребывания, а не только для бывания, – не для умирания, но «во еже быти»… Смерть человека есть «оброк греха» (Рим. VI. 23), есть некий изъян и порча в мире. И ныне тайна жизни раскрывается лишь в таинстве смерти… Что же значит для человека умирать?. Умирает тело, именно тело и смертно, – говорим о «бессмертии души». Прекращается в смерти эта внешняя, видимая и земная, телесная жизнь. Но по некоему вещему инстинкту уверенно говорим всегда, что умирает человек… Смерть разбивает человеческое существование, хотя личность человека неразложима и душа его «бессмертна»… Вопрос о смерти есть вопрос о человеческом теле, – о телесности человека… И вот, христианство учит не только об этом загробном бессмертии души, но именно о воскресении тела. В христианском благовестии отелесности человека открывается, что это есть изначальный и вечный образ человеческого бытия, – а вовсе не какой-то случайный и придаточный элемент или приражение в человеческом составе… И это было очень трудной новизной в христианском учении. Не только «слово Крестное», не меньше и «слово Воскресное» бывало для эллинов безумием и соблазном. Ибо эллинский мир телом всегда, скорее, гнушался1. И проповедь воскресения могла только смущать и пугать античного человека. Он грезил и мечтал скорее о конечном и полном развоплощении. Мировоззрение среднего «эллина» времен первохристианских слагалось под преобладающим влиянием платонических и орфических представлений, и было почти общепринятым и самоочевидным суждение о теле как о «темнице», в которой пленен и заточен павший дух, – орфическое « – ». Не пророчит ли христианство, напротив, что этот плен будет вечным, нерасторжимым… Ожидание телесного воскресения больше подобало бы земляным червям, издевался над христианами известный Цельс2, – издевался от лица именно среднего человека и во имя здравого смысла. Греза о будущем воскресении представлялась ему нечестивой, отвратительной, невозможной. И Бог не творит никогда деяний столь безумных и нечестивых. Он не станет исполнять преступных прихотей и мечтаний, внушенных жалким и заблудшим людям их нечистой любовью к плоти. Цельс так и обзывает христиан – «филосарками», любителями плоти. С сочувствием упоминает Цельс о докетах…2* Именно таким и было общее отношение к Воскресному благовестию. Уже апостола Павла афинские философы прозвали «суесловом» именно потому, что он проповедовал им «Иисуса и воскресение» (Деян. XVII. 18, 32)… В тогдашнем языческом мироощущении часто сказывается почти физическая брезгливость к телу, очень поддержанная влияниями с Востока, – достаточно вспомнить и о более позднем манихейском наводнении, захватившем ведь и весь Запад. От блаж. Августина знаем, как трудно было и ему от этого «гнушения телом» освободиться… О Плотине его биограф, известный Порфирий, рассказывает, что «он, казалось, стыдился быть в теле», – с этого он и начинает его жизнеописание. «И при таком расположении духа он отказывался говорить что-либо о своих предках, или родителях, или о своем отечестве. Он не пускал к себе ни ваятеля, ни живописца». К чему закреплять надолго этот бренный облик, – и того уже достаточно, что мы его теперь носим! (Порфирий. О жизни Плотина, I). Не следует говорить об этом «гнушении телом», как о «спиритуализме». И самая склонность к «докетизму» еще совсем не означает спиритуалистической установки в эллинистическом опыте. Несводимое своеобразие «духовного» еще не было опознано вне христианства. Для стоиков казалось таким простым и вполне естественным приравнивать или отождествлять «Логос» и «огонь» и говорить об «огненном Слове». В манихействе все существующее мыслится в вещественных категориях, свет и тьма в равном смысле, – и тем не менее силен здесь этот брезгливый пафос воздержания. И то же следует сказать и о всем гностицизме, со всей этой так для него характерной игрой чувственного воображения. И снова на примере блаж. Августина, по его собственным признаниям, можно убедиться, как тогда трудно давалось понимание, что есть бытие невещественное. Даже в неоплатонизме есть какой-то непрерывный переход от света умного к свету вещественному… Философский аскетизм Плотина нужно отличать от восточного, гностического или манихейского, и сам Плотин «против гностиков» выступал очень резко. И все-таки то было различие только в методах и мотивах. Практический вывод в обоих случаях один и тот же – «бегство» из этого мира, исход или «освобождение от тела»… Плотин предлагает такое уподобление. Два человека живут в одном и том же доме. И вот один из них бранит строителя и самое строение, ибо воздвигнуто оно ведь из бездушного дерева и камней. Другой же хвалит мудрого архитектора, ибо здание сооружено с великим искусством… Для Плотина этот мир не есть зло, этот мир есть «образ» или отражение высшего, и лучший из образов. Однако от образа следует стремиться к первообразу, стремиться в высший мир из низшего. И славословил Плотин не подражание, но образец… «Он знает, что настанет время, и он уйдет, и уже не будет нуждаться в доме»… Именно это и характерно. Душа освободится от связи с телом, разоблачится от него, и взойдет тогда в свою подлинную отчизну…3* В античном мировоззрении речь идет всегда о ступенях в непрерывности единого космоса. Но в этой непрерывности очень строго исчисляется иерархия ступеней. И, как бы ни были они между собой «единосущны», «высшие» из них решительно и твердо противополагаются «низшим». Низшее считается нечистым и низменным. И у античного человека страх нечистоты многосильнее, чем боязнь греха. Источником и седалищем зла обычно представляется эта «низкая природа», тело и плоть, дебелое и грубое вещество. Зло – от осквернения, не от извращения воли. От этой скверны нужно освободиться, внешне очиститься… И вот христианство приносит новую и благую весть и о теле также… От начала был отвергнут всякий докетизм, как самый разрушительный соблазн, как некое темное противоблаговестие, от Антихриста, от «духа лестча» (ср. I Ин. IV. 2 и 3). Это так живо чувствуется у ранних христианских писателей, у св. Игнатия, у св. Иринея3. Тертуллиан поднимается и до подлинного «оправдания плоти», при всей напряженности своего аскетического пафоса, почти до исступления и надрыва (см. его очень интересное рассуждение «О воскресении плоти», отчасти и в его «Апологетике»)… Соблазн развоплощения отведен и отвергнут с полной решительностью уже у ап. Павла. «Ибо… не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью» (2 Кор. V. 4)… «Здесь он наносит смертельный удар тем, которые унижают телесное естество и порицают нашу плоть», – объясняет Златоуст. «Смысл его слов следующий. Не плоть, как бы так говорит он, хотим сложить с себя, но тление; не тело, но смерть. Иное тело и иное смерть; иное тело и иное тление. Ни тело не тление, ни тление не тело. Правда, тело тленно, – но не есть тление. Тело смертно, – но не есть смерть. И тело было делом Божиим, а тление и смерть введены грехом. Итак, я хочу, говорит, снять с себя чуждое, не свое. И чуждое – не тело, но тление… Грядущая жизнь уничтожает и истребляет не тело, но приставшее к нему тление и смерть»4*… Златоуст верно передает здесь неизменное самочувствие древних христиан. «Мы ожидаем весны и для нашего тела», – говорил латинский апологет II-го века. Expectandum nobis etiam et corporis ver est5*… Эти слова удачно припоминает и приводит В. Ф. Эрн в своих письмах из Рима, говоря о катакомбах. «Нет слов, которые бы лучше передавали впечатление от ликующей тишины, от умопостигаемого покоя, от беспредельной умиренности первохристианского кладбища. Здесь тела лежат, как пшеница под зимним саваном, ожидая, предваряя, пророчествуя нездешнюю, внемирную весну Вечности»6*. И это ведь только повторение апостольских слов, применение или раскрытие апостольского образа или подобия. «Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении» (I Кор. XV. 42)… Земля как бы засеменена человеческим прахом, чтобы силой Божьей произрастить его в великий и последний день. «Наподобие семян, ввергаемых в землю, мы не погибаем разрушаясь, но посеянные воскреснем»7*. И каждый гроб уже ковчег нетления, – «и мертвый ни един в гробу»… Самая смерть уже озаряется и предозаряется светом победной надежды, – оттого так много радости в чинах христианского погребения… И то радость снова не о разрешении, но об уповаемом воскресении… Ибо имеем упование (ср. I Сол. IV. 13)… С этим связано и своеобразие христианского аскетизма, в его отличии от нехристианского аскетического пессимизма. Об этом различии хорошо говорит о. П. Флоренский. «То подвижничество основывается на худой вести о зле, царящем над миром; это – на благой вести о победе, победившей зло мира… То дает превосходство, это – святость… Тот подвижник уходит, чтобы уходить, прячется; этот уходит, чтобы стать чистым, побеждает»8*… Воздержание может быть разным подсказано, обосновано или внушено. И при всем видимом сходстве между платоническим аскетизмом и христианским (что и создает всегдашнюю опасность смешений, самообманов и подмен), между ними есть коренное различие и в начальных замыслах, и в конечных упованиях… В платонизме о теле господствует именно эта «худая весть», весть о смерти и тлении, – с этим и связаны все эти гадания о «странствиях» или «переселениях» душ. И отсюда – жажда развоплощения. С «чувствами» ведется борьба ради полного высвобождения из этого вещественного мира событий… Но в христианском откровении о теле принесена «благая весть», – о грядущем нетлении, преображении и славе, о грядущем преображении всего мира, о вселенском обновлении. И с «чувственностью» борьба ведется здесь не ради освобождения, но чтобы и тело становилось духовным. С этим согласуется надежда воскресения. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное» (I Кор. XV, 44)… Здесь все та же антитеза эсхатологических чаяний и пожеланий: «совлечься» или «приоблечься»…
3. Истина о человеке словно двоится. И некая антиномия таинственно вписана в самое его эмпирическое существование… О человеке сразу приходится свидетельствовать двоякое… Изображать единство человека в самой эмпирической сложности и двойстве (и не только «из души и тела», но еще и «в душе и теле»), во-первых. И показывать самобытность души, как начала творческого и разумного, самодеятельного и самосознательного, во-вторых. И обе эти истины не так легко смыкаются или совмещаются в едином органическом синтезе… В современной психологии всего менее учитывается именно эта органическая воплощенность души, это единство воплощенной жизни. И слишком часто все «учение о душе» строится с таким именно расчетом, чтобы сделать всякое иное «учение о человеке» ненужным и излишним. «Самобытность» души, как бытия простого и сверхчувственного, изображается обычно с такой чрезмерностью, что становится загадочным и совсем непонятным самое ее «пребывание» в теле, самая возможность ее «воплощения». С этим связана вся эта очень характерная проблематика так называемого «психофизического параллелизма»4. Приходится как бы складывать настолько независимые величины, что взаимодействие между ними почти что неправдоподобно… Этот «психологизм» в учении о человеке платонического происхождения. Он связан с молчаливой или замолчанной предпосылкой: человек есть душа, и быть в теле для него даже и неестественно… В современной психологии точно замалчивается катастрофа смерти. Смерть в этих схемах теряет свою метафизическую значительность и важность. Так много говорят о «бессмертии души», что забывают о «смертности человека»… Есть несомненная правда в том «платоническом» (или орфическом) наблюдении, что тело – «темница». И, действительно, слишком часто душа бывает в плену у собственного тела, в плену и во власти всех этих чувственных впечатлений, вожделений, пристрастий. Из этого плена нужно освобождаться. Душа должна становиться и быть «господственным» в человеке. Она должна опознать и осознать самое себя, утвердить свое первородство. Есть «иной» мир «неменяющегося» бытия, и там – подлинная родина и обитель души, а не здесь, в этой юдоли и вихре бывания. В этой борьбе с чувственностью была правда платонизма. И многие мотивы этой естественной платонической аскетики были вобраны в христианский синтез, как некое предварение и предвосхищение благодатного опыта… И, однако, остается бесспорным одно: единственный опыт о самих себе, который нам доступен и доступен испытующей поверке, есть опыт воплощенной жизни… Человек не есть душа, – во всяком случае, в том современном или эмпирическом своем состоянии, которое одно только мы и знаем по опыту. Человек есть некая «амфибия», то есть двойное существо… И вот с христианской точки зрения, в этом общем суждении о человеке Аристотель прав против Платона… В философском истолковании своего эсхатологического упования христианская мысль, во всяком случае, от начала примыкает к Аристотелю. В этом вопросе он, этот прозаик в сонме поэтов, трезвый среди вдохновенных, оказывается ближе «божественного» Платона… Такое предпочтение со стороны должно казаться совсем неожиданным и странным. Ведь, строго говоря, по Аристотелю, у человека нет и не может быть никакой загробной судьбы. Человек, в его понимании, есть вполне и всецело существо земное. За гробом уже нет человека. Человек смертен насквозь, как и все земное, – и умирает безвозвратно… Но именно в этой слабости Аристотеля и его сила. Ибо ему удается показать единство эмпирического человека… Человек есть для Аристотеля, прежде всего, некое естественное «существо» или особь, некое «единое живое». И единое именно из двух и в двух, – оба существуют только вместе, в некоем изначальном и неразделимом сопроникновении. В «тело» вещество «образуется» именно душой, и душа только в теле находит свою «действительность». В своей книге «О душе» Аристотель с большой настойчивостью разъясняет, что в раздельности и разделении «души» и «тела» уже не будет человека… Душа есть «форма» тела и его «пределы» (), – есть «первая энтелехия естественного тела». И Аристотель утверждает совершенную единичность каждого человеческого существования, данного вот «здесь» и «теперь». Именно поэтому для Аристотеля было вполне недопустимым любое предположение о «переселениях» или «перевоплощениях» душ, – каждое тело имеет свою собственную душу, – свой «облик» и «форму»9*… Это антропологическое учение Аристотеля двузначно и двусмысленно. И легко оно поддается самому вульгарному опрощению и превращению в грубый натурализм, когда человек уже вполне приравнивается к прочим животным. Так и заключали о нем иные из древних последователей Стагирита (ср. учение о душе, как о «гармонии» тела). Но сам Аристотель в таком лжеучении не виновен. Для него, во всяком случае, человек есть животное разумное, и о Разуме он сказал немало важного и проникновенного… Подлинная слабость Аристотеля не в том, что он недостаточно разграничивает или отрешает «душевное» от «телесного», но в том, что все индивидуальное он признает тем самым преходящим… Но это есть общее заблуждение эллинской мысли, общее лжеучение всей древней философии. И в этом вопросе Аристотель не отличается от Платона. В вечности эллинская мысль созерцает и усматривает только типическое, и ничего личного. С этим связан своеобразный скульптурный характер древних философских воззрений. Вечным вся эллинская мысль почитает только этот мир застывших видений. В этом смысле А. Ф. Лосев с основанием обозначает всю древнегреческую философию, как скульптурный символизм. Об этой «скульптурности» античного мировоззрения говорил в свое время еще Гегель (в «Эстетике»)… «На темном фоне, в результате игры и борьбы света и тени, вырастает бесцветное, безглазое, холодное, мраморное и божественно-прекрасное, гордое и величавое тело – статуя. И мир есть такая статуя, и божества суть такие статуи; и города-государства, и герои, и мифы, и идеи, – все таит под собой эту первичную скульптурную интуицию… Тут нет личности, нет глаз, нет духовной индивидуальности. Тут что-то, а не кто-то, индивидуализированное Оно, а не живая личность со своим собственным именем… И нет вообще никого. Есть тела, и есть идеи. Духовность идеи убита телом, а теплота тела умерена отвлеченной идеей. Есть прекрасные, но холодные и блаженно-равнодушные статуи»10*… И вот в общих рамках такого безличного мировоззрения Аристотель больше других чувствовал и понимал индивидуальное… Как то не раз бывало, христианский мыслитель большего мог достигнуть с теми средствами, которые он получал или заимствовал у «внешних философов», – ибо он больше и большее видел… Основной замысел Аристотеля в его учении о душе глубоко преображается в христианском истолковании, ибо все понятия начинают больше означать, и за ними раскрываются новые перспективы… Такое преображение аристотелизма мы находим у Оригена, отчасти и у Мефодия Олимпского5, а позже у Григория Нисского… Самое понятие «энтелехии», как оно было введено в учение о душе Аристотелем, неузнаваемо преображается в новом опыте духовной жизни. Разрыв между Разумом, безликим и вечным, и «душой», индивидуальной, но смертной, ибо нераздельно связанной с умирающим телом, был снят и залечен в новом самосознании духовной личности… И к этому присоединяется еще обостренное чувство смерти и смертности, – именно как некой страшной язвы, уже исцеленной Воскресшим Христом… В середине II века христианской эры был написан первый философский опыт о воскресении, книга «О воскресении мертвых» Афинагора Афинянина, философа христианского. Из многих доводов, которые он здесь приводит, особенного внимания заслуживает именно эта ссылка на единство и целостность человеческого состава. Будущее воскресение Афинагор заключает именно от этого факта единства: «Ни природе души, самой по себе, ни природе тела отдельно не даровал Бог самостоятельного бытия и жизни, но только людям, состоящим из души и тела, чтобы с теми же частями, из которых они состоят, когда рождаются и живут, по окончании сей жизни достигали общего конца; душа и тело в человеке составляют одно существо»… Человека уже не будет больше, подчеркивает Афинагор, если нарушится полнота этого состава, – тем самым нарушится и тождество индивида. Неразрушимость души должна соответствовать устойчивости тела (пребывание его в его собственной природе). «Существо, получившее ум и рассудок, есть человек, а не душа сама по себе. Следовательно, человек всегда должен оставаться и состоять из души и тела. И это невозможно, если не воскреснет. Ведь если нет воскресения, то не останется природа человеков, как человеков»11*… В этом расссуждении важна уже эта спокойная отчетливость в противоположении двух терминов-символов: «человек» и «душа сама по себе»… И вместе с тем все время оттеняется момент тождества… Здесь именно и заложена наибольшая философская трудность…12*
Воскресение никак не означает простого возврата или повторения – «о вечном возвращении» учили, напротив, некоторые стоики (об этом ниже). Воскресение есть вместе и преображение, – не только возврат или восстановление, но и возвышение, переход к лучшему и совершенному. «И еже сееши, не тело будущее сееши, но голо зерно… Сеется тело душевное, восстает тело духовное» (I Кор. XV. 37, 44). Тем самым предполагается известное изменение в воскрешаемых или воскресающих. Как мыслить это «изменение», чтобы им не было затронуто или умалено вот это «тожество»?. У ранних писателей мы встречаем простое свидетельство о тождестве без каких бы то ни было философских подробностей. Различение у апостола тела «душевного» ( ) и тела «духовного» ( ) нуждалось в дальнейшем раскрытии и объяснении (срв. сопоставление «тела смирения» и «тела славы» – Фил. III, 21). И в эпоху обострившихся споров с докетами и гностиками обстоятельный и отчетливый ответ стал неотложным. Его попытался дать Ориген. Этот ответ не всеми был принят. И был резко поставлен вопрос, насколько верен Ориген учению и преданию Церкви. Впрочем, и он сам предлагал свое объяснение не как «учение» Церкви, но как личное богословское «мнение». Ориген подчеркивает, что и в смерти остается нетронутым и неповрежденным «облик» человека. Он употребляет при этом многозначное греческое: . И разумеет при этом: душа как жизненный образующий принцип тела, – как «энтелехия» и «предел» его. Это есть как бы построяющая сила тела, некоторое семя, способное к прорастанию, – Ориген и сам употребляет эти термины: ratio seminalis, . Тело, погребенное в земле, распадается, как и семя посеянное. Но в нем не погасает эта растительная сила, и она в подобающее время, по слову Божию, восстановит и все тело, как и из зерна произрастает колос… Есть некая потенциальная телесность, сопринадлежащая каждой душе, и каждому по особому… Во всеобщем воскресении она раскроется и осуществится в актуальном теле славы… Это единство жизненного начала или «семенного слова» Ориген считает достаточным для сохранения индивидуального тождества и непрерывности человеческого существования. Все же свойства теперешних тел изменятся, и будущее тело будет построено из другого, из «лучшего», из «одухотворенного» вещества13*…
В эсхатологических воззрениях Оригена много спорного, но в данном случае его мысль вполне ясна. Ориген настаивает, что непрерывность индивидуального существования достаточно обеспечивается тождеством оживотворяющей силы. Стало быть, нумерическое тождество материльного состава еще и не необходимо… Острота вопроса не в том, что Ориген отвергает вещественность «духовных» тел воскресения, но в том, как он представляет себе самое строение телесного организма. И вот для него «самое тело» есть именно этот «облик», или «семенное слово» тела, его растящая и строительная сила. В данном случае он твердо держится именно Аристотеля. Его «облик» вполне соответствует «энтелехии» у Аристотеля, и ново здесь только это признание неразрушимости индивидуального облика или начала, то есть самого «начала индивидуации». Это и дает возможность строить учение о воскресении. Principium individuationis и есть «principium surgendi». В данное определенное или «собственное» тело и вещественные частицы сочетаются и построяются именно душой, которая их и «образует». Потому, из каких бы частиц ни построялось тело воскресения, самое тожество психофизической индивидуальности не нарушится и не ослабеет, ибо неизменной останется эта производящая его сила. Это именно вполне по Аристотелю: душа и не может быть не в своем теле14*… Такое мнение повторялось не раз и позже, именно под влиянием Аристотеля; и в современном римско-католическом богословии остается приоткрытым вопрос, насколько признание вещественного тождества тела воскресения с телом умирания принадлежит к существу воскресного догмата15*… И здесь не столько вопрос веры, сколько метафизического толкования. Можно даже думать, что в данном случае Ориген и передает не свое, но принятое или приемлемое мнение. Более того, эта «аристотелическая» теория воскресения с трудом сочетается с допущением так наз<ываемого> «предсуществования душ», и с этой приспособленной от стоиков схемой сменяющихся и возвращающихся миров. Нет полного соответствия и между этим учением о воскресении и учением о «всеобщем восстановлении» или апокатастазисе. У св. Григория Нисского это расхождение отдельных оригеновских идей становится вполне очевидным… Возражения главного противника Оригена в данном вопросе, св. Мефодия Олимпского, сводятся к критике самого понятия «облика». В понимании Мефодия тождество «облика» еще не обеспечивает личной непрерывности, если материальный субстрат будет совсем иной. Этим предполагается другое представление о соотношении «образа» и «материи», чем у Оригена16*. К Мефодию в данном случае примыкает и св. Григорий Нисский. Св. Григорий Нисский в своем эсхатологическом синтезе старается соединить оба воззрения, совместить «правду» Оригена с «правдой» Мефодия. И его построение имеет исключительный интерес и важность…17* Григорий Нисский исходит от эмпирического единства или соприкосновения «души» и «тела», его распадение есть смерть. И оставленное душой, лишенное своей «жизненной силы», тело распадается, нисходит и вовлекается в общий круговорот веществ. Вещество же вообще не уничтожается, умирают только тела, но не самые элементы. И мало того, в самом распадении частицы распавшегося тела сохраняют на себе некие знаки или следы своей былой принадлежности к определенному телу, своей сопринадлежности данной душе. В самой душе также сохраняются некие «знаки соединения», некие «телесные признаки», или отметы. И душа своей «познавательной силой» остается и в смертном разлучении при элементах своего разложившегося тела. В день воскресения каждая душа распознает свои элементы по этим признакам и отметам. Это и есть «облик» тела, его «внутренний образ» или «тип». Процесс этого восстановления тела св. Григорий сравнивает с прорастанием семени и с развитием самого человеческого зародыша. От Оригена он решительно отступает в вопросе о том, из какого вещества будут построены тела воскресения. Если бы они построялись из новых элементов, то «было бы уже не воскресение, но создание нового человека». Воскресающее тело перестраивается именно из прежних элементов, ознаменованных или запечатленных душой во дни плоти ее, – иначе будет попросту другой человек… Тем не менее воскресение не есть только возврат и не есть вовсе какое-нибудь повторение нынешнего существования. Такое «повторение» было бы, действительно, «каким-то нескончаемым бедствием». В воскресении какой-то человеческий состав восстанавливается не в нынешнем, но в «изначальном» или «древнем» состоянии. О каждом отдельном человеке было бы точнее даже и не говорить вовсе, что «восстанавливается». Скорее – впервые только и приводится в то состояние, в каком быть ему надлежит, в каком был бы, если бы не стряслось в мире греха и падения, – но в каком, однако, не бывал и не был в этой тленной, превратной и преходящей жизни здесь. И все в человеческом составе, что связано с этой нестойкостью, с возрастами, и сменой, и дряхлением, восстановлению никак не подлежит. Воскресение есть, таким образом, не только и не столько возврат, сколько исполнение. Это есть некий новый образ существования или пребывания человека, – именно пребывания. Человек воскресает для вечности, самая форма времени отпадает. Потому и в воскресающей телесности упраздняется текучесть и изменчивость, и вся полнота ее как-то стягивается или «сокращается». Это не только апокатастазис, но и рекапитуляция… Отпадает лукавый излишек – то, что приразилось и наросло от греха. Полноты личности это отпадение не ущербляет, ибо этот излишек к строю личности и не принадлежит. Восстанавливается в человеческом составе, во всяком случае, не все. И материальное тождество тел воскресающих и умирающих для св. Григория Нисского означает скорее только реальность прожитой жизни, которая стяженно должна быть вобрана и в загробное существование. В этом он расходится с Оригеном, для которого эмпирическая жизнь на земле представлялась только преходящим эпизодом… Но и для св. Григория основным в воскресении было именно это тождество облика (или вида), то есть единство и непрерывность индивидуального существования. Он применяет все ту же мысль Аристотеля о единичной и неповторимой связи души и тела… Загробный путь человека, в понимании св. Григория Нисского, есть путь очищения, и, в частности, телесный состав человека очищается и обновляется – в этом круговращении природы, точно в некоем плавительном горне. И уже поэтому восстановится обновленное тело… Св. Григорий называет смерть «благодетельной», и это есть общая и постоянная святоотеческая мысль… Смерть есть оброк греха, но сразу же – и врачевание… Бог в смерти как бы переплавляет сосуд нашего тела. Свободным движением согрешившей воли человек вступил в общение со злом, и к нашему составу примешалась некая отрава порока. И вот теперь, подобно некоему скудельному сосуду, человек в смерти снова распадается, и тело его разлагается, чтобы по очищении от воспринятой скверны снова быть возведенным в первоначальный состав, через воскресение. Так самая смерть оказывается органически сопринадлежной к воскресению – это есть некий таинственный и пламенный закал ослабевшего человеческого состава. Через грех эта психофизическая двойственность человека оказалась нестойкой и неустойчивой – это и значит, что человек стал смертен, омертвел и умер. В смертности, однако, он уже отчасти врачуется от этой нестойкости. Но только Воскресение Христово вновь оживотворяет человеческую природу и делает всеобщее воскресение возможным18*… Основная и первохристианская интуиция в учении о человеке есть именно интуиция его воплощенного единства. Потому судьба человека исполниться может только в воскресении, и в воскресении всеобщем…
4. Самое понятие единичности в христианском опыте существенно изменяется по сравнению с античным. Эту перемену можно было бы так описать или обозначить. В античном мировоззрении то есть скульптурная единичность – неприкосновенное и неповторимое овеществление застывшего лика. И в христианском опыте то есть единичность прежитой жизни. Различие это важнее и глубже, чем может показаться со стороны. Ибо в одном случае – единичность вневременная, и в другом – единичность временная… И это связано с тем, что античный мир не знал и не признавал никакого вхождения из времени в вечность, – временное есть неизбежно и уходящее. Бывающее никак не может стать пребывающим, – что рождается, то и умирает. Не умирает только то, что и не рождается, что и не начинается, что и не «бывает» вообще, но «есть», то есть именно стоит вне времени… В античном понимании, строго говоря, допускать будущее бессмертие означало, тем самым, и предполагать прошлую нерожденность. И весь смысл эмпирического процесса полагается именно в каком-то символическом нисхождении из вечности во время… Судьба человека решается и исполняется в развитии – не в подвиге. Основным остается здесь натуралистическое понятие врожденного задатка – не творческого задания. И это связано именно с дефективным чувством времени у античного человека… Время есть некая низшая или упадочная область существования. Во времени ничто не совершается. Во времени только открываются (или, вернее сказать, только приоткрываются) вечные и недвижные реальности. В этом смысле и назвал Платон время «неким подвижным образом вечности» (Тимей. 37 d – ). Платон имеет в виду астрономическое время, то есть круговращение небес, счисляемый образ пребывающего единства. Всякое поступание здесь исключается. Напротив, время «подражает вечности» и «круговращается по законам числа», чтобы «уподобиться» вечному сколь возможно (38 а, b)… Здесь характерны эти оттенки – «отражение», «уподобление»… В античном понимании основная категория временного существования есть именно отражение, но не сбытие19*… Ибо все, чему достойно «быть», воистину уже и «есть» наилучшим и завершенным образом вне всякого движения, в пребывающей недвижности вневременного, и нечего прибавить или присоединить к этой самодовлеющей полноте. И потому все происходящее есть тем самым и преходящее… Все завершено, и нечему совершаться… Потому и становится часто таким нестерпимым и тягостным бремя времени для античного человека, именно этот «круг» возникновений и концов. В античном сознании нет чувства – творческого долга. И высшим объявляется, напротив, это «бесстрастие» или даже «равнодушие» мудреца, которого не занимают и не тревожат перипетии временного процесса. Он знает, что все совершается по вечным и божественным «законам» и мерам, учится сквозь смуту бывания созерцать недвижную и вечную гармонию или красоту целого. Античный человек во времени мечтает о вечности – мечтает о «бегстве» из этого мира – в мир недвижный, в мире недвижных созерцаний. Отсюда так часто в античности это чувство обреченности, чувство бессилия и бесцельности. Дальше добродетели терпения античная этика не простирается, и слишком редко и слабо пробивалось тогда подлинное чувство ответственности… Дальше и выше понятия судьбы античная мысль не продвинулась20*… Многие и до сих пор продолжают жить в таком античном и дохристианском чувстве времени, принимая и выдавая платонизм или стоицизм за христианство. Именно с этим дефективным чувством времени связано одно очень и очень навязчивое недоразумение. Кажется невероятным, что судьба человека может окончательно решиться в «этой жизни», что он может сам ее навеки решить в этих своих повседневных и прозаических поступках и преступлениях. Все эти и здешние дела или деяния ведь так ничтожны и малы «по сравнению с вечностью». Не есть ли это только некое «бесконечно малое» по сравнению с бесконечностью вечной судьбы? Именно отсюда так часто делается догадка к другим существованиям человека, когда и где открывается больше для него возможностей и просторов… Все такие рассуждения следует назвать попросту наивными. Они отстают от нашего повседневного опыта. Значимость «событий» нашей жизни определяется ведь не столько их формальной и мерной длительностью или продолжительностью, сколько их внутренним смыслом и содержанием. Поэтому в своем внутреннем и творческом самоопределении мы и не связаны формальной схемой времени. В познании и любви мы выходим за пределы времени, осуществляя сверхвременное во временном. Тогда и самые события во времени оказываются воистину «неким подвижным образом пребывающей вечности», – но не в том смысле, что у Платона… Во временном не только обнаруживаются какие-то просветы в вечное, и явлением вечного обличается ничтожество или мнимость временного… Бывающее существенно причащается сущему, и не в порядке проявления, но в порядке осуществления, и осуществления навеки… И есть у нас это мужественное и обязывающее, трезвое и вещее чувство творчество необратимости. Доступна каждому и эта прозорливая скорбь о невозвратном прошлом, и прямо – о потерянном мгновении. Все это свидетельствует о том, что эти «мгновения» не так ничтожны, что они таинственно соизмеримы с вечностью. Грубо говоря, «одной жизни» вполне достаточно, чтобы творчески решить свою судьбу, чтобы сделать свой выбор. И, во всяком случае, никакое сложение мгновений не приблизит этот всегда конечный итог к бесконечному мерилу, если только уже и отдельное мгновение не восприимчиво к сверхвременному наполнению, не соизмеримо с вечной полнотой. Во всяком случае, не через сложение конечных моментов можно преодолеть эту связанность конечностью. Есть у каждого человека только одна жизнь, непрерывная в тождестве воли и сознания, именно – в тождестве личности. Эта таинственная полупрямая человеческой жизни и судьбы уходит от рождения именно в вечность. Есть в ней разные этапы: «внешняя» и воплощенная жизнь; период загробного разлучения и ожидания, который есть период ожидания и для прославленных святых, ибо и они все еще только «чают воскресения мертвых»21*; таинство последнего воскресения и суда: «жизнь будущего века»… Но в смене этих этапов раскрывается именно единая судьба, слагается и растет единая личность, – к чему бы она ни росла, «в воскресении живота» или «в воскресении суда»… Это кажется и теперь многим из нас невероятным и неправдоподобным просто потому, что наше чувство времени еще не достаточно окрещено в родниках христианского опыта, и в нем слишком часто мы остаемся неисправимыми эллинами… Временная перспектива для древнего человека всегда замкнута и ограничена, и высший символ для него есть к себе возвращающийся круг. И потому поток времени в его представлении как-то разделяется в смену замкнутых циклов. Именно с этим связана идея вечных возвращений. Под этой причудливой формой и античный мир предчувствовал тайну воскресения… О повторяющихся циклах впервые учили, кажется, пифагорейцы. «Если верить пифагорейцам, то, по прошествии некоторого времени, я опять с этой палочкой в руках буду вам читать, а вы все так же, как теперь, будете сидеть передо мной, и не иначе будет обстоять со всем остальным». Так впоследствии передавал пифагорейское учение Евдем22*… Здесь характерна именно эта точность повторения. Самое повторение связано с круговым характером мировых движений. В таком же смысле говорит о последовательных воплощениях и «круговращениях» и Платон в своем «Федре». Но полное развитие эта схема получает только позже, у стоиков. Стоики учили о такой всеобъемлющей «периодической палингенесии всяческих», в которой и индивидуальное в точности воспроизводится, – еще Зенон учил, что не только мир вновь вернется в том же образе, но вернется и тот же Сократ, как сын того же Софрониска и той же Фенареты и т. д. Это повторяют впоследствии и Марк Аврелий, и Посидоний6. Это повторение происходит именно в космическом объеме и размахе, «возвращается» весь мир, стоики так и говорили – о «восстановлении всяческих», . Впрочем, полного совпадения не достигается – есть ведь нумерическое различие. Однако никакого движения вперед все-таки нет – все возвращается «в том же образе», . Получается, действительно, некое жуткое космическое perpetuum mobile, – точно карикатура какая-то на воскресение… Индивидуальное существование здесь без остатка включено в космическую схему, человек отдан и оставен во власти космических ритмов и «звездного течения» (что греки именно и называли «судьбой», )… Страшна здесь и пугает именно безысходность, невозможность подлинной новизны, кошмар извечной определенности, эта замкнутость каждого существа, кто в чем рожден и как кто начал быть. Страшит именно это отсутствие действительной истории, отсутствие поступательных перспектив23*…
«Круговращение и переселение душ ведь не есть история», – остроумно замечает Лосев. «Это – история, построенная по типу астрономии, это – вид астрономии»24*… В христианстве меняется самое чувство времени, самочувствие человека во времени. Время начинается и кончается, но в нем совершается творческая и необратимая судьба. И самое время существенно единично. Всеобщее воскресение и есть последний предел этого единого времени, этой единой судьбы всего тварного мира – вселенская полнота сроков – кафолическое исполнение времен25*… Не в том только отличие христианского чувства от античного или эллинского, что замкнутой схемой круговращения теперь противопоставляется символ прямой линии, луча или стрелы, простирающейся в неопределенную и неограниченную даль. Временный ряд в христианском понимании не есть эта «дурная бесконечность» не достигающего поступания или движения. Это не античное противопоставленное античной же мере или «пределу», . В христианском чувстве времени это античное натяжение между «пределом» и «беспредельном» снимается и преодолевается. Ибо самый вопрос стоит иначе. Диалектика «беспредельного» и «предела» есть, в сущности, диалектика «материи» и «формы». Это есть «проявление» вечных форм, отпечатывающихся в бескачественном и потому вполне страдательном «подлежащем», в «материи». И этой диалектике в христианском опыте противопоставляется нечто большее. Открываются просторы подвига и новотворчества. И конкретность задачи вносит изнутри определенность и оформленность во временный ряд, сообщает ему некую внутреннюю меру и стройность. И именно конкретность исторической темы изнутри связывает текучее время в живое и органическое целое. И это не анатомическое единство, не единство схемы или скелета. Это есть именно единство жизненное, органическое или физиологическое… Об этом очень отчетливо говорил св. Григорий Нисский. «Когда человечество достигнет своей полноты, тогда непременно остановится текучее это движение естества, достигнув необходимого предела, и место сей жизни заступит другое некое состояние, определенное от нынешнего, протекающего в разрушении и рождении… Когда естество наше в соответственном порядке и связи совершит полный оборот времени, тогда непременно остановится и сие текучее движение, создаваемое преемством рождаемых. Наполнение вселенной сделает уже невозможным дальнейшее возрастание в большее число, и вся полнота душ из состояния невидимого и рассеянного возвратится тогда в собранное и видимое, и те же стихии вновь сойдутся между собой в ту же связь»… Это и есть воскресение26*… Терминология у св. Григория привычная, язык «внешних философов», но слова звучат по-другому… Время остановится, смена прекратится некогда. Все некогда сбудется и совершится, что может и что должно совершиться или осуществиться вновь. Посев созреет и взойдет… Св. Григорий говорит здесь именно о внутреннем исполнении истории… И весь процесс мыслится, как единый и единичный. Никакое «повторение» или «возвращение» невозможно, ибо нет пустого времени, и нет нескончаемого астрономического времени или круговращения небес. Есть только единый и конкретный процесс становления твари, врастающей в вечность… Воскресение мертвых есть единый и единичный раздел в судьбах всего мира, всего космоса. Единый для всех и последний – вселенский и кафолический итог… И «по ту сторону» простирается уже иное, грядущее Царствие, «жизнь будущего века»… Чаемое остается потому и недоведомым. «Еще не знаем, что будем» (I Иоанн. III, 2). То будет новое Откровение, Воскресением откроется Царство Славы27*. Тогда наступит «Благословенная Суббота» и для всей твари, «сей упокоения день», таинственный «осмый день» Царствия. Тогда «Пасха нетления» распространится на весь мир. «Вся тварь обновится и станет духовной, станет обиталищем невещественным, нетленным, неизменным и вечным. Небо станет несравнимо более блестящим и светлым, чем теперь оно видится, и совсем обновится. Земля воспримет новую неизреченную красоту и оденется в многообразные неувядаемые цветы, светлые и духовные. Солнце будет сиять в семь раз сильнее, чем теперь, и весь мир сделается совершеннейшим паче всякого слова. Станет духовным и божественным, соединится с умным миром, окажется неким мысленным раем, Иерусалимом Небесным, некрадомым наследием сынов Божьих»28*…
И, однако, – за воскресением мертвых следует Страшный Суд… И внутри самого Воскресения сохраняется эта строгая двойственность «жизни» и «осуждения»… В этом новая трудность и «соблазн» для разума… Здесь мы снова на грани ведомого и неведомого. Здесь снова приоткрывается эта тайна двоящейся свободы… Апокатастазис естества не отменяет свободы воли… И воля не может быть склонена принудительно, она должна подвигнуться «причинностью через свободу», подвигнуться изнутри любовью. Это вполне понимал и св. Григорий Нисский. Но именно здесь всего яснее сказывается вся ограниченность эллинского интеллектуализма. Очевидность представляется достаточным условием для склонения или обращении воли. И перед лицом явленной Истины и Правды уже не будет возможным запирательство или противление лукавой воли. Все обличится… За этим стоит именно это типическое эллинское отожествление «греха» и «неведения». В действительности же соотношения много сложнее. И есть темная глубина в падшем духе, которой не разрешает никакая очевидность… Воцерковленное сознание эллинизма должно было пройти еще долгую и трудную школу аскетизма, аскетического самопознания и самоиспытания, чтобы освободиться от этой интеллектуалистической наивности. И у преп. Максима Исповедника мы встречаем уже новое, переработанное и углубленное, истолкование апокатастазиса… Вся природа или естество будет восстановлена. Но потухшие души и в самом созерцании Божества останутся недвижными… Это таинственно и непостижимо и для рассудка вовсе не убедительно… Но убедительно для любящего сердца. Ибо любовь есть только во взаимной свободе29*… В воскресении восстанавливается цельность творения. Но грехи и зло имеют свое седалище в воле. Эллинское сознание отсюда заключало о нестойкости зла, которое должно само собой рассеяться, от внутренней ограниченности и немощи. Напротив, христианский опыт свидетельствует о недомыслимой косности и упорстве воли… С этим и связан таинственный парадокс покаяния. Упорствующий грех и во всеобщем восстановлении останется неисцеленным. Но грех раскаянный оставляется «во едином часе»… И для этого не нужны ни долгие странствия, ни переселения души, весь этот притязаемый путь природных превращений. Не нужны они, но они и бессильны… Больше значит капля слезная, если от сердца, и лепта вдовицы… Ибо грех и зло не от внешней нечистоты, не от природной скверны, но от внутренней неверности, прежде всего от извращения воли… Потому только во внутреннем делании и подвиге разрешается грех… Благодать врачует волю только «в таинстве свободы»…
6. Всеобщее воскресение есть исполнение Церкви… И в Церкви уже действуется и ныне… В духовном опыте Церкви и в общении таинств предоткрывается тайна будущей жизни, и предначинается «отчасти» и самое уповаемое Царствие… И только из глубин этого опыта можем понять, – в смирении можем понять, «что будем»…
1935
Примечания
1* S. Joan. Chrys. in Hebr. hom. XVII. № 2. MG, LXIII. C. 129.
2* Apud Origen. C. Cels. V. 14. Koetschau. S. 15.
3* Плотин. Эннеада II, 9 – «Против гностиков», начиная с 15 и до конца. О Плотине как религиозном мыслителе лучшая работа: abbе R. Arnou. Le dеsir de Dieu dans la philosophi de Plotin. Paris, 1921. Образ бегства уже у Платона: «Нужно стремиться и бежать отсюда туда возможно скорее!» (Феэтет. 176 А). И вся жизнь философа есть «подготовка к смерти» (Федон. 81 А). Воплощенное состояние души есть для Плотина только некий переходящий эпизод в ее судьбе, и об этой земной жизни она вполне забудет, когда вернется и взойдет до блаженного созерцания (см. всю IV Эннеаду). Ср. у П. Блонского (Философия Плотина. М., 1918. С. 146 след.)7.
4* S. Joan Chrys. De ressurrect mortuorum. 6 MG. L. P. 427–428.
5* Minuc. Felic. Octavius, 34. Ed. Haim. Р. 49.
6* Эрн В. Ф. Письма о христианском Риме. Письмо третье – В катакомбах св. Каллиста // Богословский вестник. <Сергиев Посад,> 1913. Январь. С. 1068.
7* S. Athanas. De incarnat. 21. MG. XXV. C. 132.
8* Свящ. П. Флоренский. Столп и утверждение Истины: Опыт православной еодицеи. М., 1914. С. 291–292.
9* Аристотель. О душе. Кн. II, с начала 412 а и дальше (пользуюсь комментированным изданием Тренделенбурга); ср. I, 3, 407 b.
10* Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930. Т. 1. С. 67, 632, 633. Ср. и другую книгу того же автора: Античный космос и современная наука. М., 1927. Здесь собран и вдумчиво проработан громадный материал по истории всей греческой философии вообще, философии Платона и «платонизма» в частности. Автор все время имеет в виду и проблематику «христианского платонизма». В этих книгах привлекает острота и большая смелость мысли9.
11* Athenagor. De resurr., 14, 15.
12* Старая книга L. Atzberger’a (Geschichte der christlichen Eshatologie innerhalb der vornicaenischen Zeit. Fr. i-Br., 1895) еще не заменена лучшей. По-русски см.: Оксиюк М. Ф. Эсхатология св. Григория Нисского. Киев, 1914. В очень обстоятельном введении (составляющем половину книги) дан общий обзор восточной эсхатологии в предшествующий период, многое сказано и о современниках младших. Но западный материал вовсе не затронут (даже и Тертуллиан). И автор ограничивается только сопоставлением текстов, без богословского и историко-философского анализа10.
13* Соответственные тексты собраны и сопоставлены у Оксиюка: С. 162–174 и др. Ср. также основные монографии об Оригене: Redepenning. Bd II. Bonn, 1846; J. Denis. La philosophie d’Origne. Paris, 1884. P. 297 ff.; Ch. Bigg. The christian platonists of Alexandria. Oxford, 1886. P. 225 ff., 265 f.; E. Prat. Origne: Le thеologien et l’exеgte. P., 1907. P. 87 suiv.; C. Ramers. Des Origens Lehre von der Auferstehung des Fleisches. Trier, 1851; J. B. Kraus. Die Lehre des Origens ber die Auferstehung der Toten. Regensburg, 1859; Hans Meyer. Geschichte der Lehre von den Keimkraeften von Stoa bis zum Ausgang der Patristic. Bonn, 1914. Из новейших работ нужно назвать: R. Cadrou. Introduction au systme d’Origne. P., 1932; G. Bardy. Origne // Dict. de la Thеologie cath., fasc. 95–96, P. 1931. Coll 1545 suiv.; ср. и старую статью: Westcott. Sub voce. Smith a Wace Dictionnary. IV. 1887.
14* См. у П. Страхова (Воскресение. I. Идея Воскресения в дохристианском религиозно-философском созерцании. М., 1916. С. 27 сл., 128 сл.). Можно предполагать посредство комментариев Александра Афродизийского. Ср. у Лосева (Античный космос… С. 438 сл.) – «душа как смысловое изваяние жизни» у Аристотеля…
15* Из поздних схоластиков нужно назвать Дуранда, «доктора решительнейшего» (1332 или 1334)11. Он ставит вопрос: «Supposito quod anima Petri fieret in materia quae fuit in corpore Pauli, utrum esset idem Petrus qui prius erat» и отвечает – «Cuicumque materiae uniatur anima Petri in resurrectione ex quo est eadem forma secundum numerum per consequens erit idem Petrus secundum numerum» («Что лежит в основании того, что душа Петра будет сотворенной в материи, что была в теле Павла, который прежде был». <И отвечает>. «Кого бы материю не сочетала бы душа Петра в воскресении из того, что есть ее же форма по числу, в итоге будет же Петр». – Ред.), привожу по: Fr. Segarra. S. J. De identiate corporis mortalis resurgentis. Madrid, 1929. P. 147. Из современных римских богословов такого взгляда придерживается кардинал Л. Билло, – ср. Quaestiones de Novissimis, auctore L. Billot. S. J. Romae, 1902; thesis XIII. P. 148 ff. См. также W. J. Sparrow-Simpson. The Resurrection and Modern Thought. Longmans, 1911.
16* Ср. у Оксиюка – С. 206 сл.; см. также J. Farges. Les idеes marales et religieuses de Methode d’Olympe. P., 1929.
17* Из сочинений св. Григория по данному вопросу особенно важны: диалог «О душе и воскресении», беседы «Об устроении человека» и его «Большое Огласительное слово». Исчерпывающий подбор текстов в названной книге Оксиюка. Сжатый общий очерк см. в моей книге: Восточные отцы IV века. Париж, 1931. С. 130 и след. Ср. тамже очень интересную статью П. Страхова «Атомы жизни» (Богословский вестник. М., 1912. Январь. С. 1–29) и в его сборнике «Наука и религия» (1915).
18* См. подробнее в моей статье «О смерти Крестной» в «Православной мысли» (Париж, 1931. № 2).
19* Ср. и замечания A. E. Taylor. A commentary in Plato’s Timaeus. Oxford, Clarendon Press, 1928; ad locum, p. 184 ff. и отдельный экскурс – IV. The concept of time in the Timaeus. P. 678–691; см. еще A. Rivaud. Le problme du devenir et la notion de matire dans la philosophie grecque depuis les origines jusqu’ Thеophraste. P., 1906 и его же издание и перевод «Тимея», со вступительной статьей, в Collection Budе. P., 1925. Можно назвать еще и книгу J. Baudry. Le problme de l’Origine et de l’еternitе du Monde dans la philosophie grecque, P., 1931.
20* О неисторическом характере античной философии см. у Лосева и еще у Шпенглера, в 1-м томе его известной книги (есть и русский перевод). Ср. интересные сопоставления у L. Laberthonnire (Le rеalisme chrеtien et l’idеalisme grec. Paris, 1904). Нужно указать еще недавнюю и обстоятельную книгу: J. Guitton. Le Temps et l’еternitе chez Plotin et St. -Augustin. P., 1933. См. также и мою статью «Evolution und Epigenesis: Zur Problematik der Geschichte» в журнале: Der Russische Gedanke. Hf. 3.
21* Есть только одно исключение: «В молитвах неусыпающую Богородицу… гроб и умерщвление не удержаста». Воскресение уже осуществилось для Богоматери и Богоневесты, по силе Ее несравненного и несоизмеримого соединения с Родившимся от Нее.
22* Ap. Simpl. Physic. 732, 26; Diels, I (1912), 355.
23* См. обстоятельную статью: Hans Meyer. Zur Lehre von der ewigen Wiederkunft aller Dinge. Festgabe A. Ehrhard, 1922. S. 359 ff.; ср. П. Страхов. Воскресение, 34 сл.
24* Лосев. Очерки античного символизма… С. 43. Ср. Guitton. Р. 359–360: «Les Grecs se rеpresentaient la prеsence de l’еternel dans le temps sous la forme du retour cyclique. Inversement, ils imaginaient volontiers que le temps se poursuivait dans l’еternel et que la vie prеsente n’еtait qu’un еpisode du drame de l’me: ainsi le voulaient les mythes… Ici la pensеe chrеtienne set dеcisive… Les mes n’ont pas d’histoire avant leur venue. Leur origine, c’est leur naissance; aprs la mort, la libertе est abolie avec le temps et l’histoire cesse. Le temps mythique est condamnе. Les destinеes se jouent une fois pour toutes, le Christ s’incarne une fois pour toules. Le temps cyclique est condamnе». («Настоящие греки представляли себе циклично возвращающейся во времени вечностью. Напротив, они охотно думали, что время длится вечно, и настоящая жизнь – только эпизод драмы души: ого хотели мифы… Здесь христианская мысль решительно [противоположна]… У душ, до их воплощения, нет истории. Появление душ – это их рождение; после же смерти вместе с их временем уничтожается свобода и прекращается история. Мифическое время осуждено. Судьбами раз и навсегда пренебрегают, ибо Христос воплотился единожды. Циклическое время отвергнуто». – Ред.).
25* Ср. мою статью: Тварь и тварность // Православная мысль. <Париж,> 1928. № 1 или по-французски: L’idеe de la crеation dans la philosophie chrеtienne // Logos: Revue internationale de la pensеe orthodoxe. Bucarest, 1928. № 1.
26* S. Greg. Nyssen. De anima et ressur. Krab. 1229 124.
27* См. подробнее: А. М. Туберовский. Воскресение Христово: Опыт мистической идеологии пасхального догмата. Серг<иев> Пос<ад>, 1916.
28* Слова преп. Симеона Нового Богослова, в переводе еп. Феофана. Изд. 2-е. М., 1892. Т. I. С. 382. Греческое издание мне осталось недоступно.
29* О различии между врачеванием естества и «врачеванием воли» ср. в моей статье «О смерти крестной», названной выше12. См. также у E. B. Pusey. What is of Faith as to Everlasting Punishment. 1879; здесь дан свод и анализ отеческих мнений и текстов. Тексты из преп. Максима (главным образом, из Ambigua) указаны у С. Л. Епифановича (Преп. Максим Исповедник и византийское богословие. Киев, 1915, с. 82 и 83, в прим.; Ср. в моей книге: Византийские отцы. <Париж>, 1933. С. 225 след.
Н. О. Лосский. О воскресении во плоти
«Мысль о воскресении из мертвых ужасает меня, – говорил Репин как-то. – Идешь по Невскому проспекту, и вдруг навстречу Иоанн Грозный! Здравствуйте. Дрожь пробирает от одной мысли о таком воскресении»а.
Да, конечно, от мысли о таком воскресении, с каменными домами городов и душевнобольным Иоанном, сохранившим власть мучить всех, кого ему вздумается, дрожь пробирает; да это и не воскресение вовсе, а просто бессмысленное повторение, превращение истории в дурную бесконечность. Христианин, говорящий с верою: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века», – ожидает осмысленного завершения истории и надеется, что в Царстве Божием каждая личность достигнет конкретной полноты жизни, дающей предельное блаженство, и осуществит до конца свое положительное (а не отрицательное) индивидуальное своеобразие, как духовное, так и телесное.
Однако попытки понять, как возможно после земной смерти сохранение и даже завершение индивидуального бытия в его не только духовном, но и телесном аспекте, наталкиваются на чрезвычайные затруднения. Поэтому неудивительно, что представления о воскресении у различных лиц крайне разнообразны; многие приходят к явно несостоятельным мнениям о воскресении или совсем отрицают его (например, Лев Толстой).
В своей статье я рассмотрю метафизические стороны проблемы воскресения и постараюсь показать, что этот ценный догмат христианства может быть непротиворечиво включен в систему философски разработанного мировоззрения. Разработка учения о воскресении требует связи с целою системою философии потому, что предполагает определенное учение о материи, душе и духе, о связи их друг с другом, о Боге и Его связи с миром, о Царстве Божием и царстве нашего бытия. В своей статье я буду опираться на учения об этих вопросах в духе мировоззрения, развиваемого мною под именем конкретного органического идеал-реализма (персонализма) в книгах «Мир как органическое целое», «Свобода воли» и «Ценность и бытие», «Бог и Царство Божие как основа ценностей». Изложу здесь вкратце те основные понятия этого мировоззрения, которые необходимы для рассмотрения проблемы воскресения.
Прежде всего необходимо научиться ясно видеть глубокое различие между человеческим я (душою человека, если прибегнуть к популярной терминологии) и проявлениями его, то есть чувствами, мыслями, желаниями и поступками. Чувства, мысли, желания и поступки имеют временную форму: они возникают и исчезают во времени, они могут быть длительными или краткими, прерывистыми или сплошно заполняющими некоторый отрезок времени. Совсем иной характер имеет я человека (душа): я не имеет временной формы; оно не возникает и не исчезает, оно – не длительное и не краткое, не прерывистое и не сплошное во времени; все эти временные формы так же невозможно приписать ему, как немыслимо, чтобы чувства или желания были цветными – желтыми, синими, зелеными.
Чувства, мысли, желания и поступки суть проявления я; чувство, желание и т. п. может возникнуть не иначе как в том случае, если существует я, которое осуществляет их и сознает их как «мои» (моя радость, мое хотение, мой поступок). Я есть носитель и творческий источник этих проявлений; я творит содержание своих проявлений вместе с их временною формою, будучи само выше каждого из своих проявлений и будучи свободно также от времени: я – сверхвременно.
Некоторые проявления я, например, отталкивание рукою отвратительно пахнущей ветки растения, имеют не только временную, но и пространственную форму; но само я пространственной формы не имеет, оно не кубическое, не шарообразное и т. п. Я творит содержание таких действий, как отталкивание, вместе с их пространственною формою, обеспечивая единство бесконечно многих элементов такого действия, внеположных друг другу. Это возможно лишь в том случае, если я господствует над пространством, если я – сверхпространственно.
Сверхвременное и сверхпространственное существо, проявляющееся во времени и пространстве и являющееся носителем этих проявлений, принято называть субстанциею; чтобы подчеркнуть творческую активность такого существа и конкретность его, я буду лучше называть его словом субстанциальный деятель. Согласно изложенному выше, человеческое я есть субстанциальный деятель, способный творить не только психические, но и телесные, материальные проявления (например, действия отталкивания).
Материя (вещество), согласно этому учению, есть не субстанция, а только процесс, именно совокупность действований отталкивания и притяжения, производимых сверхпространственными деятелями. Если субстанциальный деятель производит отталкивания по всем направлениям от определенной точки в пространстве, он создает себе непроницаемый объем, как бы завоевывает себе часть пространства в свое исключительное обладание и создает себе материальное тело.
Если я человека, как субстанциальный деятель, есть творческий источник не только своей душевной жизни, но и своей телесности, то ясно, что само оно, говоря точно, не может быть названо ни словом душа, ни словом материя: я есть существо метапсихофизическое (термин В. Штерна)1, автора замечательной книги «Person und Sache». Я может быть названо душою разве лишь для того, чтобы подчеркнуть, что, производя свои телесные проявления, я подчиняет их своим же душевным проявлениям и придает им таким образом характер осмысленности, одушевленности, например, целесообразно отталкивает гниющую ветку соответственно своему чувству отвращения.
Все существа, входящие в состав природы, даже и стоящие на самой низкой степени развития, имеют свойства, в основных чертах подобные свойствам я. Наиболее элементарное существо, изучаемое современною физикою, электрон есть субстанциальный деятель, производящий действования отталкивания и притяжения в отношении к другим электронам и протонам. Определенность направления этих действий, различие характера их в отношении к протонам и электронам, изменение силы их в зависимости от расстояния (притяжение к одним и отталкивание от других) – все это может быть понято не иначе, как при допущении, что эти действия производятся под руководством если не психических, то все же психоидных (то есть более простых, чем психические, но аналогичых им) стремлений, усилий и переживаний.
Каждый деятель самостоятелен, поскольку обладает своею особою силою действования, которую может использовать даже для противодействия другим деятелям; но в то же время другою стороною существа своего все деятели так интимно спаяны друг с другом, что состояния одних могут быть предметом непосредственного опыта или переживания для других, именно могут быть предметом интуиции, симпатии, антипатии и т. п.: эта непосредственность общения должна быть допущена потому, что она есть условие самых элементарных взаимодействий, даже таких, как отталкивание, а не следствие их. Эту спаянность некоторые стороны всех деятелей в одно целое можно назвать отвлеченным (частичным) единосущием ихб.
Мир, состоящий из деятелей, которые, с одной стороны, самостоятельны в своих проявлениях, но, с другой стороны, частично единосущны, может быть мыслим только как творение единого Сверхмирового начала, Бога. Одна из черт отвлеченного единосущия состоит в том, что деятели осуществляют свои действования согласно тожественным формальным принципам, образуя единый мир в едином пространстве и времени. Формальное единство мира может быть использовано деятелями для осуществления крайне различных деятельностей: они могут свободно вступить на путь любовного единения с Богом и друг с другом, творя лишь такие содержания бытия, которые имеют характер абсолютного добра, например, истины, красоты, нравственного добра, годные для того, чтобы дать удовлетворение всем существам; такие деятели суть члены Царства Божия, Царства Духа. Но свободный деятель может вступить также и на путь удовлетворения эгоистических исключительных стремлений, стесняя жизнь других существ, вступая к ним и даже иногда к Богу в отношение соперничества и вражды. Тогда он становится членом нашего царства психоматериального бытия, царства вражды, в котором деятель совершает акты отталкивания, образующие материальное тело.
Деятель, противопоставляющий свои стремления стремлениям всех других деятелей, находится в состоянии обособления от них и обрекает себя на то, чтобы пользоваться только собственною творческою силою; поэтому он способен производить лишь самые упрощенные действования вроде отталкивания. Выход из этого обнищания жизни достигается путем эволюции, осуществляющей все более и более высокие ступени конкретного единосущия: деятели хотя бы частично прекращают противоборство между собою, вступая в союзы все более и более сложные; в этих союзах деятели низших ступеней развития усваивают стремления более высокоразвитых деятелей, сочетают свои силы для осуществления их под его руководством; они становятся органами единого, более или менее сложного целого; так возникает атом, далее молекула, одноклеточный организм, многоклеточный организм, общество и т. д. Каждая следующая ступень есть изобретение нового более высокого типа бытия, дающего возможность более содержательной и разнообразной, более богатой творческими активностями жизни.
В составе каждого такого сложного существа можно найти: 1) главного субстанциального деятеля с его психическими (или психоидными), материальными и т. п. проявлениями, 2) подчиненных ему субстанциальных деятелей с их психическими (или психоидными), материальными и т. п. проявлениями. Из совокупности материальных проявлений (отталкиваний и притяжений) всех этих деятелей образуется тело каждого сложного существа, тело атома, молекулы, растения, животного, человека, народа, планеты, например Земли, и т. п. В материальном теле сложного существа нужно различать две сферы: 1) центральное тело, то есть тело, состоящее из материальных действований главного деятеля, и 2) периферическое тело, состоящее из материальных действований, осуществляемых сообща главным деятелем и подчиненными низшими деятелями или даже самочинно этими низшими деятелями. Слова центральный и периферический не обозначают здесь, конечно, пространственного положения тел.
Какой бы высокой ступени развития ни достиг деятель, если он сохраняет в себе хотя ничтожный остаток эгоизма, то есть стремления к относительным ценностям, несогласимым с интересами других существ, то между ним и другими деятелями остаются хотя бы в малой степени те или другие распады, стесняющие жизнь или даже разрушающие ту или иную форму ее. И даже в пределах периферического тела такого деятеля, то есть в его связях с подчиненными ему деятелями, нет полной гармонии, нет совершенного единения: сами элементы его тела отчасти противоборствуют ему или подчиняются иногда только под влиянием принуждения, а не полного единодушия со своим хозяином. Поэтому в царстве психоматериального бытия, где нет объединения сил для соборного творчества и нет полного внутреннего единения с Богом, невозможна полнота творчества и полнота бытия, невозможна совершенная реализация индивидуальности деятеля: чем более деятель обособляется, изолирует себя от других деятелей своим эгоизмом, тем более скудны и однообразны его проявления, тем менее он способен проявить свою индивидуальность.
Разъединения и противоборства между существами царства психоматериального бытия, существующие даже и в собственном теле их, неизбежно ведут к болезням и неустранимо влекут за собою такое печальное, но и благодетельное следствие, как смерть.
Смерть в широком смысле слова существует в нашем царстве бытия прежде всего в виде забвения, то есть в виде отпадения наших переживаний в прошлоев.
Далее, в биологическом смысле слова, смерть существует в нашем царстве психоматериального бытия как разрыв союза между главным деятелем и подчиненными ему низшими деятелями. Она есть следствие той вражды и противоборства, которые хотя бы отчасти сохраняются в отношениях друг к другу существ, не отказавшихся начисто от эгоистически исключительных стремлений: рано или поздно их отрывает друг от друга или внешняя сила (например, удар пули), или внутреннее расхождение стремлений (например, когда клетки тела начинают анархически разрастаться при ране или при саркоме). Этот вид смерти, представляющийся нам чуть ли не самым страшным злом, есть на самом деле зло производное, возникающее как естественное следствие первичного основного зла, отказа деятеля от Абсолютного Добра и вступления на путь эгоистической исключительности. Как всякое производное зло, смерть есть не только отрицательное явление, но и положительное благо: она освобождает деятеля от союза (тела) низшего типа и открывает ему путь для построения тела более высокого, под руководством опыта, приобретенного им в предыдущей жизни.
Биологическая смерть есть лишь телесная смерть: деятель утрачивает свое тело, но сам он как сверхвременное и сверхпространственное я не может быть вычеркнут из состава бытия никакими мировыми силами. Утратив тело, то есть связь с одними союзниками, он способен начать созидание для себя нового тела, то есть приобрести новых союзников.
Следует к тому же заметить, что телесная смерть есть только частичная утрата тела: отпадает периферическое тело, а центральное тело, то есть действования в пространстве, производимые самим центральным деятелем, самим человеческим я (отталкивания, притяжения, творение чувственных качеств), продолжаются: центральное тело деятеля не может быть разрушено никакими внешними силами, так как оно есть собственное проявление деятеля. Лейбниц, в системе которого можно найти различение центрального и периферического тела, говорит: «Я близок к мнению, что во всяком теле людей, животных, растений и минералов есть ядро субстанции»; «оно так тонко (subtil), что остается даже в пепле сожженных вещей и может стянуться как бы в невидимый центр». «Это ядро субстанции в человеке не уменьшается и не увеличивается, хотя его одеяние и покров находится в постоянном течении и то уносится, то опять увеличивается из воздуха или пищи. Поэтому если человек съедается другими, ядро каждого остается, кто и как он был, и, следовательно, никогда субстанция одного не питается субстанциею другого. Если у человека отрубают какой-либо член, то ядро субстанции стягивается к своему источнику и сохраняет в известной мере свое движение, как если бы член был налицо»г.
Возможно даже, что наиболее интимно связанные с человеческим я члены союза, составляющие, так сказать, ядро союза, не покидают своего хозяина даже и во время смерти. В таком случае я сохраняет не только центральное тело, но и часть периферического. Народные поверья, согласно которым душа умершего сохраняет телесный облик, оказываются с этой точки зрения заключающими в себе ядро истины. Лейбниц выражает учение части периферического тела следующим образом: «Никогда не бывает также ни полного рождения, ни совершенной смерти, в строгом смысле, состоящей в отделении души. И то, что мы называем рождениями, представляет собою развития (developpements) и увеличения, а то, что мы зовем смертями, есть свертывания (enveloppements) и уменьшениями (Монадология, § 73).
Полное освобождение от телесной смерти возможно не иначе как для деятеля, проникнутого совершенною любовью к Богу и всем тварям Его. Таковы члены Царства Божия, никогда не отпадающие от Бога, а также и те, которые после отпадения, низведшего их на уровень электрона, а может быть, и еще ниже, в длительном процессе нормальной эволюции (то есть эволюции, соответствующей нормам, заповедям Божиим) преодолели свою эгоистическую исключительность и возросли в любви настолько, что удостоились благодати Божией, возводящей их в Царство Его. Эволюция эта, как возрастание в любви, не может быть процессом законосообразным, она есть ряд свободных актов деятеля; поэтому в ней возможны срывы, падения, попадания в тупики; возможна не только нормальная, но и сатанинская эволюция, то есть возрастание в злед.
Члены Царства Божия, не вступая ни к кому в отношение противоборства, не совершают никаких актов отталкивания в пространстве, следовательно, не имеют материального тела; их преображенное тело состоит только из световых, звуковых, тепловых и т. п. проявлений, которые не исключают друг друга, не обособлены эгоистически, но способны к взаимопроникновению. Достигнув конкретного единосущия, то есть усвоив стремления друг друга и задания Божественной Премудрости, они соборно творят Царство совершенной Красоты и всяческого Добра и даже тела свои созидают так, что они, будучи взаимопроникнуты, не находятся в их единоличном обладании, а служат всем, дополняя друг друга и образуя индивидуальные всецелости, которые суть органы всеохватывающей целости Царства Божия. Свободное и любовное единодушие членов Царства Божия так велико, что все они образуют, так сказать, «Едино Тело и Един Дух» (Эфес. 4, 4).
Члены Царства Божия простирают свою любовь также и на деятелей, отпадающих от Бога, образующих царство психоматериального бытия. Будучи причастны жизни Бога, они обладают всеобъемлющею силою внимания, памяти и т. п. и принимают участие в жизни всего мира, так что весь мир, поскольку в нем сохраняется добро, служит для них телом. Следовательно, они, подобно Господу Иисусу Христу, имеют вселенское тело, однако у каждого оно имеет индивидуальный аспект2.
В известном смысле можно утверждать, что даже и каждый из нас, членов психоматериального царства, имеет вселенское тело, но, конечно, связь наша с нашим вселенским телом сохраняется лишь в жалком, ущербленном виде. Подробно развито это учение Карсавиным в его книге «О личности». Карсавин называет биологическое тело человека индивидуальным, а весь остальной мир «внешним телом» человека. «Все, что я познаю, вспоминаю и даже только воображаю, – говорит он, – является моею телесностью, хотя и не только моею, а и еще мне инобытною. Правда, мой биологический организм мне как-то ближе: я «чувствую» его несравнимо более моим, легче и свободнее им распоряжаюсь. Но этого различия не следует преувеличивать». «Я до некоторой степени видоизменяю самое инобытие, не говоря уже о том, что и познание его мною уже является его видоизменением. В сфере общих качествований, куда бы должны были войти все мои качествования, весь мир, оставаясь инобытною мне телесностью, становится и моею»е. Особенно это относится к бывшим частицам нашего биологического тела: опыт, проделанный ими вместе со мною в составе моего биологического тела, навсегда роднит их со мнойж. «Они, – говорит Карсавин, – входили и входят в состав иных организмов и тел, но не перестают в каком-то смысле быть и моим телом» (129). Интимною связью нашею с прежними частицами тела и со всем миром Карсавин объясняет явления экстеоризации чувствительности, ощущения, локализуемые в ампутированных членах, психометрию и т. п. (130). Отсюда же он приходит к мысли, что для нас «не безразличен способ погребения». «Материалист с проклятием убеждается в ошибочности своих взглядов, когда его тело, по последнему слову техники, испепеляют в нечестивом крематории». Различие между личностью ущербленной и совершенной (то есть между деятелем, отпавшим от Бога, и членом Царства Божия) состоит, по Карсавину, в том, что первая имеет индивидуальное и внешнее тело, а у второй все внешнее тело поднимается на степень ее индивидуального тела (134).
Учение о вселенском теле деятеля может стать понятным, полагаю я, не иначе как в связи с признанием сверхпространственности и сверхвременности субстанционального деятеля. Что касается сверхпространственности, значение ее хорошо выяснено в творениях Отца Церкви св. Григория Нисского: душа не протяженна, говорит он, и потому «естеству духовному нет никакого труда быть при каждой из стихий, с которыми однажды вступило оно в сопряжение при страстворении, не делясь на части противоположностью стихий»; «единство духовное и непротяженное не терпит последствий расстояния». Дружеская связь и знакомство с бывшими частями тела навсегда сохраняются в душез.
Вселенское тело члена Царства Божия бессмертно. Небесный аспект его, обусловленный единением преображенных тел, не может быть разрушен внутренними силами Царства Божия, так как любовь членов его друг к другу непоколебима. И для внешних сил психоматериального царства, для вражды, ненависти, для толчков и давлений оно недосягаемо: член Царства Божия не отвечает на вражду враждою и не производит никаких отталкиваний, следовательно, замысел толкнуть его остается бессильною попыткою, взрыв адской машины в соборе св. Недели в Софии пронесся бы сквозь его несопротивляющееся тело, как если бы оно было пустотою.
Даже и тот аспект вселенского тела, который обусловлен связью с психоматериальным царством, неотторжим от члена Царства Божия: в этой области тела его могут происходить глубокие распады и разрывы частей в отношении друг к другу, могут происходить телесные смерти земных деятелей, но деятель Царства Божия не покидает их своею любовью, и, как бы велики ни были раздоры между ними, он остается соединенным со всеми ними; он подобен матери, дети которой ссорятся друг с другом, а она остается в единении со всеми ними.
В Царстве Божием преодолена также и смерть в широком смысле этого слова, смерть в форме забвения, обусловленная разрывами, характерными для царства психоматериального бытия. Член Царства Божия, находясь в тесной связи со всем миром, стоит выше разрывов его, поэтому в памяти его совершается воскресение всего прошлого во всей целости его, а следовательно, и с сознанием абсолютной положительной ценности егои. Это восстановление непрерывности связи есть еще более глубокое воскресение, чем восстановление тела и бессмертие его.
Общение тел членов Царства Божия есть совершенное взаимопроникновение их. В земном бытии наибольшая глубина взаимопроникновения достигается в половом общении; как всякая связь единодушия, оно приводит к повышению творческой силы деятелей. Однако половое общение есть связь деятелей в органическом единстве семьи, сопровождающаяся нередко более или менее пристрастным обособлением от остального мира. Мало того, оно может даже приобрести характер какой-либо формы одностороннего общения двух деятелей, не ведущего к росту семьи; тогда оно становится извращением или развратом, который разрывает целость деятелей, поднимает их положительную творческую силу, а не включает их в более высокую целостность. Ни тени этих недостатков нет в телесном взаимопроникновении членов Царства Божия; поэтому приравнивание его к половому общению было бы кощунством. Именно всесторонность и всеобщность взаимопроникновения указывает на совершенную чистоту всеохватывающей любви от каких бы то ни было исключительных пристрастий, на обращенность ее только к абсолютным ценностям, дающим удовлетворение всем существам, воспринимающим их; в такой любви и в таком общении достигается предельная глубина счастья без отуманения сознания и сужения его; она прямо противоположна всякому беспутству; она проникнута чистотою и свежестью, как невинный поцелуй ребенка.
Члены Царства Божия кроме своего преображенного тела имеют еще связь с телесностью существ, отпадших от Бога; общение их с земною телесностью может быть понято ложно, наподобие того, как это мы находим в некоторых видах пантеизма. Так, можно представить себе существо, которое, владея всем царством психоматериального бытия, как своим телом, участвовало бы во всех чувственных переживаниях этого царства. Титаническая мощь земных наслаждений и страданий такого существа прямо противоположна идеалу чистоты Царства Божия; земная чувственность, как все, что основано на эгоистической односторонности, в состав Царства Божия не входит и не питает его неизбежно связанным с нею злом. В самом деле, небожители вводят в область своей телесности низшее царство мира посредством своей любви ко всем тварям, но такая любовь приобщает непосредственно к Царству Божию лишь добро, осуществленное в земном бытии, имеющее характер хотя бы частичного преображения, а все несовершенное земное остается только предметом видения и попечения, но не сопереживания.
Вселенское тело члена Царства Божия, будучи всеохватывающим, не может иметь известных нам биологических ограниченных форм; оно не может иметь совершенного юношеского вида, как это представляет себе бл. Августин (в «Civitas Dei»), с сохранением всех органов, хотя и без употребления их (без земных потребностей), как думает Тертуллиан («De resurrectione carnis», гл. 60 и 62), с восстановлением волос и ногтей, как говорит св. Фома Аквинский (Summa theologica, supplementum III, partis, Q w. XXX, art. II).
Свободу от этих ограниченных форм, по-видимому, утверждает св. Григорий Нисский. Он говорит, что воскресение есть восстановление человека в первозданном виде («О девственности», гл. XII), осуществление его первичной «формы» «в нетлении, славе, чести и силе»к, реализация природы человека, как образа и подобия Бога. Преображенное тело свободно от всех недостатков и несовершенств, которые были последствием греха. Смело толкуя библейское сказание как аллегорическое, св. Григорий Нисский утверждает, что слова «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их» (Быт. 3, 21) – вовсе не изначают одежду из шкур убитых зверей, а указывают на то, что само тело человека после грехопадения изменилось, оно стало телом животным и смертным (Oratio catechetica, гл. 8). С этой животностью связаны детство, старость, болезни, половые функции, питание, выделения, смерть. В воскресшем теле нет животных органов (звериных шкур) и нет связанных с ними деятельностей и состояний (De an. at res., c. 148–157). Что же это за тело, в котором нет органов животной жизни? В нем не будет тяжести, говорит св. Григорий Нисский, «и остальные его качества, цвет, вид, очертания изменятся в нечто более божественное». О виде этого тела мы теперь не можем даже составить себе понятия, так как совершенный характер его «превышает зрение, слух и мысль». И неудивительно: ведь в этом преображении «все мы станем одним телом Христовым…» (De mortuis. T. 46. C. 532).
Учение о вселенском теле вполне отчетливо развивает Иоанн Скот Эриугена3. Дух Божий, говорит он, стоит выше всяких мест, времен и всего, что есть; точно так же и преображенное тело Христово «выходит за пределы всяких мест, времен и вообще за пределы всякого очертания» (omnia et tempora, et universaliter omnem circonacriptionem excedere). Ссылаясь на учения св. Григория Богослова, св. Амвросия и св. Максима (Исповедника), он говорит, что «бессмертные и худоносные тела не ограничиваются никакими телесными формами, никакими качествами и количествами вследствие несказанного единения их с неограниченными духами и вследствие свободной от дискретности простоты». Таковы тела ангелов; такими же телами будут обладать и люди по воскресениил.
Обладателю всеобъемлющего вселенского тела, стоящего выше ограничений, доступны вместе с тем и всевозможные частичные, ограниченные преображенные формы, сообразно нуждам общения с человеком и мира вообще. Так, Христос является после воскресения ученикам в частном, ограниченном теле; так являлись и являются людям ангелы не phatastice, а veraciter (поистине, то есть реально), говорит Эриугена (V, 38).
В самом деле, можно установить общий принцип: существа, стоящие выше всяких ограничений, свободно подвергают себя любым ограничениям, кроме тех, которые связаны со злом. При этом возможно даже и совершение таких действий, которые сами по себе утрачивают смысл в преображенном теле. Так, Христос по воскрешении воспринимал пищу «не вследствие голода, – говорит св. Иоанн Дамаскин, – а в целях спасения, чтобы подтвердить истину своего Воскресения»м.
Вселенское тело члена Царства Божия глубоко отличается от биологического тела, принадлежащего ему в земном бытии. Возникает поэтому сомнение, можно ли назвать созидание такого тела воскресением во плоти: понятие воскресения требует тождества между утраченным и восстановленным телом, как это признают и подчеркивают все Отцы Церкви, несмотря на трудности, возникающие из этого требования ввиду того, что во время биологической жизни человека частицы тела постоянно заменяются одни другими; мало того, одна и та же частица может принадлежать сначала телу одного человека, потом телу другого вследствие антропофагии (бл. Августин «De Divitate Dei». Кн. XXII. Гл. 12) или в процессе более сложного круговорота веществ (Лев Толстой в своей «Критике догматического богословия» говорит о теле прадеда, частицы которого входят в состав травы и через молоко коровы, съевшей траву, входят в ткани правнука); наконец, особенная трудность заключается в том, что тело ребенка, юноши, взрослого и старца резко отличны друг от друга и выбрать одно из них как то, которому тожественно воскресшее тело, было бы произволом.
Точное и строгое определенное решение этих недоумений с сохранением понятия тождества дается, как это ни неожиданно, именно учением о вселенском теле, признавая динамистическую теорию материи, согласно которой все пространственно-временное в телесности (непроницаемый объем, цвета, звуки и т. п.) есть процесс, говорить о тождестве тел, принадлежащих к разным периодам времени, можно только имея в виду идеальные невременные моменты тел, прежде всего тожество субстанциальных деятелей в их составе и затем тожество идеи их <эйдоса>. Даже Тертуллиан говорит, что в воскресшем теле субстанции те же, а свойства их иные.
Вселенское тело члена Царства Божия заключает в себе всех субстанциальных деятелей всего мира, следовательно, и тех, которые входили в его состав, когда он был ребенком, юношею, взрослым, старцем. Его тело есть синтез всех этих тел в усовершенном преображенном виден. Даже то, что одна и та же частица, точнее, один и тот же субстанциальный деятель находился сначала в теле прадеда, ничему не мешает: этот субстанциальный деятель включается во вселенское тело прадеда и правнука по-разному и вместе с тем не эгоистически исключительно, так как тела небожителей взаимопроникнуты. Таким образом, нам не приходится довольствоваться неполным решением вопроса, какое дал, например, апологет Афинагор4, говоря, что не со всяким телом частица соединяется субстанциально, или какое высказал бл. Августин, утверждающий, что часть тела, съеденная голодным, будет возвращена первому владельцу ее, а второму возвратятся частицы, утраченные при голодании, или же недостающая материя будет замещена Всемогущим Творцом (Кн. XXII, гл. 20). Сторонник учения о вселенском теле членов Царства Божия может определенно утверждать тожество земного и воскресшего тела, состоящее в том, что все субстанциальное, принадлежавшее умаленному земному телу, входит во всецелость небесного тела; конечно, это тожество частичное (тожество целого в части, поскольку в целом есть часть), потому что все земное есть только дробь небесного.
Если всякий член Царства Божия обладает вселенским телом и притом, согласно учению св. Григория Нисского, «все мы станем одним телом Христовым», то отсюда может явиться мысль, что у небожителей нет индивидуальных, отличных друг от друга, тел и что, может быть, они утрачивают даже индивидуальное личное бытие. В действительности, однако, св. Григорий Нисский отстаивает прямо противоположную мысль: он утверждает, что именно в Царстве Божием сохраняется и в теле совершенно реализуется подлинный индивидуальный <Эйдос> всякого человека (Т. 45. С. 157. О душе и воскресении). Прекрасно выразил эту мысль Эриугена, усматривающий завершение истории в том, что «вся тварь соединится с Творцом и будет в Нем и с Ним одно», «однако без гибели или смешения сущностей и субстанций» (Кн. V, 20). В теле небожителей индивидуальный характер их может выражаться в том, что каждый из них есть индивидуальный аспект тела Христова, пронизывающий своеобразно все тело Христа.
Утверждение о том или ином виде вечной жизни индивидуальной личности и тела ее есть необходимая и в высшей степени ценная черта христианского миропонимания; она связана с учением о том, что мир есть творение всемогущего и всеблагого Бога, откуда следует, что первозданные элементы мира – а к числу их принадлежат индивидуальные личности – абсолютно ценны и предназначены к вечной жизни. Настоящая статья содержит в себе одну из возможных попыток понять этот догмат христианства и включить его в состав определенного философского мировоззрения.
Между прочим, развитая здесь система понятий может быть использована для того, чтобы показать несостоятельность натуралистических учений о телесном бессмертии, которое будто бы может быть достигнуто на основе высокоразвитого научного знания путем предотвращения всех болезней и гигиенического усовершенствования условий жизни. Коренное отличие этих учений от христианских можно выразить в следующих двух тезисах. Христианство говорит о вечности преображенного тела, которое по самому понятию своему таково, что нельзя в мире найти и даже помыслить силу, способную разрушать его. Наоборот, натуралист имеет в виду тело, не преображенное, содержащее в себе деятелей, хотя бы отчасти находящихся в отношении эгоистического взаимоисключения в отношении друг к другу и к миру. Такое тело остается доступным разрушению и только фактически не разрушается, пока человеку удается предусмотреть и предотвратить все опасности. Всегда, однако, может произойти какое-либо исключительное событие; такое тело может быть, например, истерто в порошок падением метеора или сожжено грандиозным солнечным протуберанцем, и тогда никакие лабораторные и гигиенические приемы, доступные натуралисту, не соберут частиц его воедино, чтобы восстановить жизнь той же личности.
Во-вторых, и это самое главное, непреображенное тело есть тело, необходимо связанное со злом, с борьбою за существование, направленною если не против других людей, то все же против природы. Поэтому вечное сохранение его, если бы и было достижимо, было бы увековечением зла и низших форм бытия. Вступление на этот путь вместо христианского возрастания в любви, ведущего в вселенскому единству в Боге, есть дьявольский соблазн.
Моя попытка развить в понятиях учение о воскресении во плоти неполна: в ней речь идет о судьбе лишь тех лиц, которые удостаиваются стать членами Царства Божия. Между тем в Писании говорится о двух видах воскресения: «Изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения» (Иоан. 5, 29). Отцы Церкви, писавшие об этом вопросе, говорят, что грешивший в теле должен вместе с этим самым телом получить также и воздаяние за зло. Развивая метафизическую систему в духе персонализма, нельзя не признать ценности этого соображения и можно попытаться понять, как оно осуществимо. Однако вряд ли необходимо ломать голову над тем, как возможен этот низкий тип воскресения в качестве окончательной, вечной судьбы грешника. Слова о вечных муках грешника могут быть поняты как угроза, как указание на печальную возможность, которая не станет действительностью ни для кого, если все существа рано или поздно отступятся бесповоротно от зла. Тогда можно надеяться на всеобщий апокатастазис, то есть всеобщее спасение. В форме, не осужденной Церковью, эта мысль высказана св. Григорием Нисским. В трактате «Об устроении человека» (гл. 21) св. Григорий исходит из мысли, что добро способно к беспредельному развитию, тогда как зло ограничено необходимыми пределами; поэтому существа, вступившие на путь зла, докатившись до крайних ступеней его и нигде не найдя покоя, рано или поздно откажутся от зла и обратятся к добруп, так что Бог будет «всяческая во всех» (1 Кор. 15, 28).
Обсуждения вопроса о вечных муках в сколько-нибудь многочисленном собрании вызывают обыкновенно страстные разногласия и приводят к двум крайностям, резко сталкивающимся друг с другом. Одни лица как-то садистически настаивают на несомненности и необходимости вечных мук, недостаточно обосновывая свое мнение логическими доводами. Другие, наоборот, не сознавая идеи греха или даже отвергая ее и низводя зло на степень лишь неполноты земного бытия, обнаруживают соблазнительное мягкосердечие и оптимизм, граничащий с потворством злу; они утверждают, что вечность мучений недопустима, так как возмущает нравственное чувство своею жестокостью, и убеждены в том, что эволюционный процесс законообразно и необходимо возводит все существа в царство совершенного бытия.
По-видимому, оба крайних мнения далеки от истины, так как не учитывают свободы деятелей и имманентного характера небесного блаженства и адских мучений. В самом деле, добро любви к Богу и всем тварям, вообще добро любви к абсолютным ценностям может быть только свободным актом деятеля, а не законосообразно необходимым продуктом эволюции. Свобода этого акта подразумевает возможность такого же свободного избрания противоположного пути поведения, именно удаления от Бога и, например, гордыни, не терпящей ничьего превосходства над собою. Первый путь сам по себе, в силу своей сущности имманентно заключает величайшее внутреннее удовлетворение и совершенство связей с миром, освобождающее от физических страданий и смерти. Второй путь сам в себе, в силу своей сущности имманентно заключает внутреннюю раздвоенность с самим собою, внутренние мучения, а также несовершенство связей с миром, сопутствуемое физическими страданиями и смертью.
Гордыня существа, отпавшего от Бога и возненавидевшего Его, может быть настолько упорною, что для него мысль о благостном отношении к нему Бога, мысль о прощении Богом есть крайний предел мученияр. Дьявол сам не хочет прощения, говорит Лейбницс. Неудивительно, если бы такое существо оказалось испытывающим вечные мучения, которые вовсе не наложены на него извне, а являются понятным и необходимым элементом самой сущности свободно избранного им пути поведения и потому вполне оправданы нравственно. Но, с другой стороны, в силу этих же условий всегда остается возможным для злого существа свободный акт поворота к добру, глубокое раскаяние, вступление на путь бескорыстного служения ему. В жгучем раскаянии, один миг которого своею интенсивностью равен вечности, грешник может сразу уплатить все «до последнего кодранта» (Мф. 5, 26) и удостоиться прощения. В эту возможность апокатастиса5 естественно верить и надеяться на нее нам, православным, слушающим на каждой Пасхальной Утрени и проповеди св. Иоанна Златоуста благостные слова: «Кто опоздал к девятому часу, пусть приступит, нисколько не сомневаясь, ничего не боясь. Кто достиг одиннадцатого часа, да не устрашится промедления: любвеобилен Владыка – и принимает последнего как первого: успокаивает пришедшего в одиннадцатый час так же, как и делавшего с первого часа».
Примечания
а. Поссе В. Мой жизненный путь. Гл. XXVIII. С. 465.
б. См. об этом мои книги «Мир как органическое целое» и пр.
в. См. об этом виде смерти, о неизбежности и даже благодетельности ее для несовершенных существ мою книгу «Мир как органическое целое». Гл. VII.
г. Письмо Лейбница к герцогу Иоганну Фридриху 21 мая 1671 // Собр. филос. соч. Лейбница. Изд. Gerhard’а, Т. 1. 6. 53; также письмо к Арно <1687 г. С. 124. > Позже, когда Лейбниц выработал понятие монады, он выражает эти мысли в форме, более разработанной философски, см., напр., письмо к des Bosses 16. X. 1706:
«Entelechia corpus suum organicum mutat seu materiam, et sum peopriam materiam peimam non mutat» < Т. II. С. 324>.
д. См. мою статью «Что не может быть создано эволюциею?»: Совр. зап. <Париж> 1927. Вып. XXXIII <С. 255–269>.
е. Карсавин <Л. П. > О личности. Ковно, 1929. С. 128. <Далее в сносках на это издание страница указана в скобках>.
ж. См. мою статью «Современный витализм» в брошюре «Материя и жизнь». Берлин, 1923.
з. Свт. Григорий Нисский. «О душе и о воскресении» // Твор. в русск. перев. Ч. IV. С. 229, 230; «Об устроении человека». Ч. I. С. 186.
и. См.: «Мир как органическое целое» о положительном времени, гл. VII.
к. Migne. Patrologia graece. T. 46. De anima et resurrectione. C. 157.
л. I. Eriugena. De divisione naturae, кн. V, гл. 36.
м. Точное изложение Православной веры. IV кн., 1-ая гл.
н. См. о синтезе тел в книге <П. А. > Флоренского «Смысл идеализма». С. 56 сл.
о. См. об этих учениях статью д-ра Липеровского «Вопросы жизни и смерти в науке и религии»: Вестник русского студенческого христианского движения. <Париж,> 1930, янв. и апр.
п. См. подробности этого учения в книге: Оксиюк М. Ф. Эсхатология св. Григория Нисского. Киев, 1914. С. 499–546. Это же учение развито Эриугеною в «De divisione naturae».
р. См. мою статью «О природе сатанинской (по Достоевскому)» в сборнике «Ф. М. Достоевский» под ред. А. Долинина. СПб. Т. 1. С. 67.
с. Leibniz. Confessio philosophi.
Г. П. Федотов. О смерти, культуре и «числах»
Когда вышла первая книжка «Чисел», в широких кругах читателей смотрели на новый журнал, как на воскресший «Аполлон»1. В этом убеждали и имена многих авторов, связанных с петербургским акмеизмом, и внимание, уделяемое вопросам искусства, прекрасные иллюстрации и совершенство типографской техники. Казалось, что новое предприятие рождается под знаком Кузмина и Гумилёва. Вторая-третья книга «Чисел» делает окончательно невозможным такое представление о новом журнале. Перед нами не акмеисты, не «Аполлон», не Парнас, а нечто совершенно иное, может быть, прямо противоположное.
Если хотите, генеалогическая линия несомненна. Но дитя акмеизма не может повторять своего отца. Более того, как все русские дети, оно от него отрекается. Двадцать лет – и каких лет! – только для мертвого проходит бесследно. А в «Числах», слава Богу, люди еще живые, хотя и много говорят о смерти. Но вот в этом-то все дело: свою жизненность «числовцы» доказывают волей к смерти, свое рождение на Парнасе – отрицанием культуры.
Признаюсь, последнее мне кажется всего более удивительным. Мы привыкли к тому, что люди, живущие искусством, пресыщенные им, кокетничают со смертью.
В старое время это приблизительно называлось декадентством или, по крайней мере, входило в него прямым ингредиентом. Но культура? Стоит ли столько трудиться над «красой ногтей», когда знаешь, что наступает момент «капитуляции» искусства, что «оно становится недостаточным и ненужным?», или еще лучше: когда «всякая красота зловеще отвратительна в своем совершенстве» и отвратительна даже «дивная музыка Баха»? Я, может быть, не вправе выдавать парадоксы Б. Поплавского за голос ответственной группы, но слова о «ненужном искусстве» принадлежат редактору. Столь непохожие, идущие из разных углов голоса Г. Адамовича, Н. Оцупа – все об одном2. Г. Адамович роет, сверлит, закладывает мины, Б. Поплавский неистово кричит, Н. Оцуп рассудительно, по-хозяйски расставляет вещи по местам, и все эти столь чуждые темпераменты сходятся в одной воле. Воле, которая пока проявляет себя отрицательно: взрывая смысл культуры, а за культурой – чего еще? не всей ли жизни?
Чтобы понять что-нибудь в этом странном предприятии, где корректнейшие западники, утонченные поэты превращаются в динамитчиков, поднимают руку на Пушкина, клянутся Толстым, необходимо одно: отказаться от дешевой гипотезы декадентства или снобизма, поверить им. Даже тот, кто не может, должен сделать вид, что поверил. Без этого ничего не понять. Не понять того огромного впечатления, которое «Числа» произвели на литературную молодежь, сделавшись первым за время эмиграции русским литературным событием.
Декадентство преодолевается с трудом; кто раз вкусил его, до смерти ощущает во рту горький вкус. Но нужно же иметь уважение к человеку. Под визиткой сноба, как и под бюрократическим мундиром, – человеческое сердце. Литература с ее полемикой, стратегией, поножовщиной, убийствами из-за угла – все это есть, было и будет. Но здесь слышнее пульс мира, здесь смертельная рана, нанесенная человечеству, источает свои густые и чистые капли.
Она подстрелена давно, наша культура, давно уже бежит по инерции, пустотой и мраком. Печаль обреченности нависла над творчеством, тупо заглушаемая страной небоскребов и пятьюстами вариантами коктейлей. Мы, потерявшие родину, униженные и обнищавшие вконец (прав Б. Поплавский), оказываемся в лучших условиях, чтобы ловить радиоволны с гибнущего «Титаника»3.
Есть люди, которые давно предвидели, предупреждали о гибели. Многие из них теперь злорадствуют. Эта нота злорадства часто и неприятно слышится в устах христиан, когда они указывают на гибель культуры. Нельзя громоздить тяжести над пустотой. Убив Бога, человечество совершило самоубийство. И в смертном приговоре культуре гора Афон странным образом перекликается с горой Парнасом4.
Эта перекличка в «Числах» налицо. Адамович говорит о Толстом и стоящем за ним Учителе. Поплавский о мистической школе, о жалости и «православии». Сказаны слова, очень обязывающие. Корабли сжигаются. Искатели покидают берег, удаляясь в пустыню. Быть может, их ждет там Синай. Можно ли удерживать их на краю цветущей, обитаемой земли?
Нет, конечно, если они вооружились мужеством и не оглядываются назад. Если они идут, а не отдыхают в пустыне от опостылевших человеческих сел. Что творится в пустыне, нам неведомо, и оценить по справедливости голоса, доносящиеся оттуда, мы не в силах. У нас нет для этого самого главного: меры движения. Мы воспринимаем их лишь в недвижимых отрывах идей и слов. Видим, что не есть истина, но не знаем, куда оно: к истине или от истины? С этими оговорками прошу принять мои замечания и сомнения.
Смерть есть, бесспорно, тот основной факт, из осмысления которого вырастает религия да, вероятно, и вся культура: ибо только смерть дает возможность отделить в мире явлений непреходящее и вечное. Но отношение к смерти, даже религиозное, не тождественно. Я даже готов сказать, что граница между правым и неправым восприятием смерти приходит внутри религиозного круга, что законное, естественное переживание смерти возможно и в атеистическом сознании и что в нем тогда заложено скрытое религиозное зерно. Но сложность смертоощущения лежит в основе ложной религии5.
Право, истинно человечно – отчаяние перед лицом смерти. Видеть или хотя бы предчувствовать гибель любимого человеческого лица, гнусное разложение его плоти, с этим не может, не должно примириться достоинство человека. Это предчувствие может отравить все источники наслаждений, вызвать отвращение к жизни, но прежде всего, непременно – ненависть к смерти, непримиримую, не знающую компромисса или прощения. Здесь верующий Толстой сходится с богоборцем Л. Андреевым6 и – с творцом православной панихиды Иоанном Дамаскиным. Из этого правого отчаяния, при достаточной силе жизни, родится вера в воскресение.
Правда, истинна, хотя и исключительна, мистическая жажда смерти как слияния с Богом, утоления нигде на земле не утолимой любви. Но для мистики смерти нет, смерть лишь максимализация жизни, «вечная жизнь», и счастья свидания не смогут омрачить истлевшие одежды плоти. Эротическое отношение к смерти разрушает ее через бессмертие.
Христианство отрицает смерть и через отчаяние, и через эрос – в воскресении и бессмертии. В преодоление смерти весь смысл христианства, религии «вечной жизни». Христианское отчаяние родится из любви к погибающему миру и человеку. Христианское отчаяние – смерть из любви к Богу.
И здесь и там любовь вступает в войну со смертью и побеждает ее. Смерть – главный враг, и никогда, никогда христианство не может быть истолковано как религия смерти. Смерть лишь путь – жертва, крест – к воскресению7. Поистине, нужно иметь огромную любовь к жизни, чтобы, не довольствуясь одной мучительной жизнью, требовать «вечной жизни».
Эта жизненность христианства становится особенно наглядной, рядом со скромностью языческих представлений о смерти, языческой резиньяцией. Христианству чуждо отношение к смерти как ко сну и покою («покой» панихиды – лишь неполная, отрицательная сторона смерти). Всего ужаснее для христианства рождающаяся от усталости и бессилия тоска по «евфаназии», легкой и блаженной смерти. Смерть как усыпляющая любовница, la belle dame sans mersi8, Петроний, открывающий жилы в благовонной ванне, – вот что максимально противостоит кресту – гораздо более, нежели наивное и радостное упоение жизнью. Не бойтесь: если любить жизнь крепко, любить такую, как она есть, пленительную и тленную, то эта любовь будет непременно распята, и чем сильнее она, тем мучительнее ее крест. Но из ванны до креста Петронию не дотянуться. Отсюда выход к угашению жизни в аскетизму Будды и иных религий Индии, но не христианства. Борьба, которая ведется сейчас в мире за человеческий дух, это и есть борьба между Буддой и Христом, между нирваной и вечной жизнью. Безрелигиозные, даже атеистические силы – лишь резервуары для религиозных энергий, которые разделяют человечество.
И я боюсь – хоть и хотел бы ошибиться, что тема смерти оборачивается в «Числах» темой нирваны. Это доказывает, что старое декадентство еще не преодолено – с его ставкой на усталость, на блеклость, на угашение жизни.
Георгий Адамович (или его корреспондент А.) усваивает себе гностический миф о том, что «мир вырвался к бытию против воли Бога». Отсюда в душу закрадывается соблазн: не надо ли «погасить» мир, то есть на это «работать». Из этого соблазнительного мифа может вытекать и отречение от культуры.
Отрицание культуры в «Числах» не похоже на буйство варваров, которые хотели бы все разрушить до основания, чтобы все вновь построить. Не разрушение здесь, а лишь дрожание над треснутой вазой, – чуткость к омертвению, охватывающему все большие слои культурных тканей. Вполне законна неудовлетворенность классицизмом (в этой связи «развенчание» Пушкина). Но хотелось бы знать: во имя чего этот поход? Не есть ли это процесс саморазложения, распад европейской и, прежде всего, русской культуры, которая не видит своей смены?
Она уже поняла, что не может притязать на значение высшего содержания жизни, она знает даже, что в своем самодовлении может отравлять самые источники жизни (Н. Оцуп о поэзии Некрасова9). Но она бессильна включить себя в иерархический строй бытия, утвердить себя на «тверди», когда земная почва проваливается под ногами.
Адамовичу кажется, что литературу убивает снисхождение к центру жизни, в котором начинается ощущение ее никчемности. Поплавский проклинает искусство во имя единственной реальности – жалости к человеку, даже к отдавленной заячьей лапке. С разных концов здесь Бог и человек (живая тварь) убивает искусство как мнимое и ложное…[32]
Правда в том, что между Богом и человеком светоносная сфера Божьей славы: Космос, произрастающий из царства идей, окруженный скрытой ризой Божества. Вот почему культура, как познание скрытой или «логической» основы мира, есть богопознание. Глубоко человеческая область культуры укоренена другим концом в мире ангельском10. Нельзя забывать об ангелах ради заячьей лапки, как грех забывать и о лапке ради ангельской славы. Искусство есть слава, «осанна», сквозь распятие падшего мира, и жалость бессильна убить его. Сострадание, обнищание, «Кеносис» не исчерпывают христианства. От славы преображения11 Кеносис ведет к небытию, состраданию – к общей и последней гибели. Здесь наше русское (а не православное) искушение. В этом корень и русского народнического нигилизма и разложение Блока, благоговейная память о котором не требует следования его путем.
Хочется сказать: пусть падший, пусть отравленный – мир прекрасен, почти как в первый день творения. Но Божия слава его пронизана вспышками демонических молний. Культура призвана к созерцанию славы, хотя для нее почти неизбежно быть опаленной молниями. В культуре, как в пещере пустынника, человек соучаствует в космической брани. Его призвание трагично, и нет ничего противнее трагическому жизнеощущению, как сомнение, раздумье, элегическая резиньяция. Сквозь хаос, обступающий нас и встающий внутри нас, пронесем нерасплесканным героическое – да: Богу, миру, людям.
1931
Л. П. Карсавин. Поэма о смерти
1. От автора и об авторе
I
1. Поэма о смерти… Почему, в самом деле, этому не быть поэмою? – Оттого и поется, что тяжело.
2. На костре сжигали жидовку. – Палач цепью прикручивает ее к столбу. А она спрашивает: так ли она стала, удобно ли ему… К чему ей заботиться об удобствах палача? Или так он скорее справится со своим делом? Или он – сама судьба, неумолимая, бездушная, – все же последний человек? – Он ничего не ответит и, верно, ничего даже не почувствует. Но, может быть, что-то шевельнется в его душе, отзываясь на ее кроткий вопрос; и рука его на мгновение дрогнет; и неведомое ему самому, никому не ведомое сострадание человека как бы облегчит смертную ее муку. А мука еще впереди, невыносимая, бесконечная. И до последнего мига – уже одна, совсем одна – будет она кричать и корчиться, но не будет звать смерти: смерть сама придет, если только… придет.
3. Не проходит моя смертная тоска и не пройдет, а – придет сильнейшею, невыносимою. Не безумею от нее, не умираю; и не умру: обречен на бессмертие. Мука моя больше той, от которой умирают и сходят с ума. Умрешь – вместе с тобой нет и твоей муки; сойдешь с ума – не будешь знать ни о себе, ни о ней. Здесь же нет ни конца, ни исхода; да и начала нет – потеряно.
4. «Не велика твоя мука, если от нее не безумствуешь и не умираешь. Просто: ты холоден и бесчувствен; мука же твоя самая обыкновенная хандра».
– Но значит же что-нибудь вечность! Вечная хандра стоит кратковременной ужаснейшей муки. —
5. «При чем тут вечность? Да и откуда у тебя привилегия на бессмертие? – Раз ты не умрешь, не умрут и другие. Тогда и та несчастная жидовка будет вечно корчиться и кричать беззвучным уже от крика голосом на своем неугасимом костре. А согласись: телесная мука подействительней душевной».
– Разве я говорю о душевной муке? Ведь она же и телесна – вечная боль (пока: преимущественно в области сердца). А когда она возрастет, не станет ли она мучительней всякого огня? Не предвестие ли она того, что еще будет?. Расширится она и целиком включит в себя и муки жидовки, и все други человеческие страдания… Конечно, и жидовка, умерев, не умерла, и все обречены на бессмертие. Но они этого не знали или не знают. Хоть на земле у них была беззаботная радость. —
6. «У них было и страдание большее, чем твоя хандра. Они умели чувствовать. Впрочем, и ты был ребенком».
– Не помню… Пускай я бесчувствен и холоден. Разве холод не жжет? Не в глубине ли ада ледяная пустыня? Не там ли льдом сковано тело? Слезы, не успевая выступить из глаз, застывают. Легко ли чувствовать, что у тебя вместо сердца острый и жгучий кусок льда, останавливающий всякое чувство и движение? —
7. «Окамененное нечувствие… Какое горделивое одиночество! – Утешение не меньшее, чем смерть и безумие».
– Нет, я не одинок и не героичен. Может быть, боюсь новых страданий не за себя, а за тех, кого люблю. Но люблю ли их? Не своего ли состраданья боюсь, когда трепетно жду их страданья? – Недейственная чувствительность, «периферическая», как называла ее Элените… Да и боюсь-то больше всего каких-то смешных, маленьких неприятностей: не страдать, а видеть слезы, не погибнуть, а опоздать на поезд… Все ничтожно, как у тех, кого Данте увидел в преддверии ада: на небо не попали – не за что, но и адская глубина не принимает – и зла-то настоящего не сделали… Какое уж там величие духа! – Не герой, а самый обыкновенный человек. Вот и сейчас: ношусь со своей тоской, а сам ведь, пожалуй, думаю о том, как бы развлечься. Хорошо бы встретить любовь («блеснет любовь улыбкою прощальной»1). Но за отсутствием любви не повредит и маленькая интрижка, нечто вроде изящной игры в любовь, разумеется – в половую (XVIII sicle). Это – «вечерок любви»; но: если «только утро любви хорошо»2, то, надо полагать, и вечерок не плох… Так: от возвышенной любви к возвышающему обману, от возвышающего обмана к занимательной игре. А дальше?. —
8. «Емли сребреник и гряди ко блуднице».