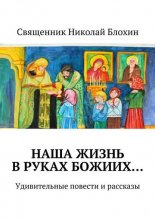Русская философия смерти. Антология Коллектив авторов

<…> Ты пугаешься смерти? Ты желаешь жить бессмертным?
Живи в целом! Когда тебя давно не будет – оно останется!
Этот шиллеровский афоризм есть, в сущности, лишь парафраз и обобщение старого житейского наблюдения, выраженного в пословице: «На людях и смерть красна». Грубо, но в общем правильно, эта пословица дает ответ «позитивистов», а значит, и человечества – ибо человечество по своему существу «позитивно» – на проблему смерти. Мы не знаем, когда человечество приобретет тот инстинкт смерти, о котором мечтает Мечников5. Пока же оно научилось побеждать это явление только в массе, только коллективно. Место разрушаемой цивилизацией – и в особенности городом – связи с универсальным бытием начинает занимать почти исключительная связь с социальным бытием, дозволяющая личности преодолеть (а не разрешить, конечно) трагизм смерти. Если не хорошо быть человеку одному, то особенно это не хорошо лицом к лицу с проблемой смерти и производными от нее вопросами. Только жмясь друг к другу, только живя жизнью коллективности, может личность задержать процесс душевного «лучеиспускания» в космическую пустоту, созданную вокруг нас цивилизацией города. В социальном, так сказать, пантеизме должна личность искать возмещение за утерянный натуральный пантеизм.
Одним из важнейших вариантов мотива страха смерти является столь мучительная и подчас роковая проблема о смысле жизни. За коротким вопросом: для чего жить? – так и слышится недоговоренное: когда все равно придет неумолимая, всеистребляющая смерть и т. д. Нет, может быть, вопроса, который был бы в одно и то же время столь личным по интенсивности и своеобразности переживаний и который мог бы становиться столь общественным по своему характеру и значению, как этот. Для того, кто не переживал особого настроения, создаваемого им – а вернее, создающего его, он является какой-то непонятной причудой, блажью, чем-то болезненным, ненормальным. Для переживающего же его он заменяет собой решительно все; интерес к чему бы то ни было тускнеет перед тем сосредоточенным, упорным вниманием, которое он вызывает к себе в попавшем под его власть, в «одержимом» им субъекте.
В индивидуальной и мягкой, так сказать, форме он существует всегда и везде, легко растворяясь, однако, в потоке социальной жизни. В эпохи подъема общественной энергии, в эпохи цельности настроения, когда перед известной социальной группой стоят определенные, ясно сознанные цели, вопрос этот не может даже подняться до сознания общества, – не потому только, что нет времени для него, а потому что он сам по себе не имеет тогда смысла. Где тут спрашивать, для чего жить, когда сама жизнь дает непререкаемые и бесспорные ответы на это. В одном случае нужно бороться за права человека и гражданина, в другом – за неприкосновенность родины; здесь надо освобождать рабов, там освобождать мысль и т. д.
Разрыв с «народом», отказ от того социального пантеизма, о котором говорилось выше, и влечет за собой обыкновенно острую постановку вопроса о смысле жизни. Прежние ясные, всех удовлетворявшие, формулы теряют свое значение, для беспокойной, ищущей себе приют мысли становится странным, что они когда-то имели власть над умами и сердцами людей. Начинает казаться, что люди как-то нелепо дурачили друг друга, притворяясь, будто в самом деле понимали цель и смысл своего существования. Весь интерес жизни обесценивается, все содержание ее улетучивается в голой схеме: для чего пожирается все то, чем жило предыдущее поколение. Одна формула жизни за другой идет под нож неумолимого анализа. Так, очень распространенная формула гласила: «Жить должно для счастья людей, человечества». Под этим «для счастья» обыкновенно подразумевались весьма определенные и конкретные вещи. Но пробудившаяся потребность анализа приступает к этой чисто практической аксиоме с логической, отвлеченной, операцией и не перестает грызть:
«То, что позитивизм называют человечеством, – есть повторение на неопределенном пространстве и времени и неопределенное количество раз нас самих со всей нашей слабостью и ограниченностью. Имеет наша жизнь абсолютный смысл, цену и задачу, ее имеет и человечество; но если жизнь каждого человека, отдельно взятая, является бессмыслицей, абсолютной случайностью, то также бессмысленны и судьбы человечества. Не веруя в абсолютный смысл жизни личности и думая найти его в жизни целого собрания нам подобных, мы, как испуганные дети, прячемся друг за друга; логическую абстракцию хотим выдать за высшее существо, впадая, таким образом, в логический фетишизм, который не лучше простого идолопоклонства, ибо мертвому, нами созданному объекту приписываем черты живого Бога»6.
Получается, по-видимому, какая-то несуразность, а разрушительная работа мысли продолжается все дальше, все глубже, захватывая все новые и новые сферы, – пока она не найдет себе успокоения в какой-нибудь традиционной или нарочито для того созданной мифологии. Разорванная реальная связь с «народом» заменяется, как и всегда, идеальной и мнимой связью с Богом, в Боге, которою и разрешается проблема о смысле жизни и производные от нее проблемы о смысле истории и смысле мира.
1908
Н. Я. Абрамович. Смерть и художники слова
«Взыскующие Града»…
Перед лицом Смерти мы все страшно вырастаем. Сознание человека, даже утвержденное раньше в мире буден, теперь утверждается перед действительностью иной. Каждого из нас ждет час, когда сознание напряженно станет отыскивать точку опоры перед лицом глядящего в глаза мрака.
Данте от юности носил на своем лице отблеск созерцаний иной действительности. Лицо его казалось всем слишком суровым. Так изобразил его и Джотто1. Выражение его глаз определялось не той жизнью, которая кипела вокруг, а мечтой о бытии, осуществляющем затаенные мистические видения.
По камням флорентийских улиц, под ясным светом солнца он проходил так, словно только что вышел из темных просторов Вечности и, пройдя эту залитую солнцем улицу, снова канет в великий мрак. В маленькой жизни он видел дверь, открываемую в бесконечность. Этим оправдывалась и освящалась жизнь. Для того чтобы сохранить свою суровую верность, свое аскетическое постоянство Истине и Разуму, он должен был принять в душу облик Смерти, возвращающей душе царственную высоту сознания, ясность постижения открытой для нее бесконечности. Дело в том, что в жизни не умещается вся полнота истины, вся глубина ее осознания и осуществления. И в силу этого рамки жизни должны быть раздвинуты Смертью. Философы и поэты, люди зрящей глубокой души, говорят, что духовное содержание человека не пропорционально жизни, превышает ее объем, выходит за ее рамки. За ясностью озаренного дня лежат еще во тьме неисчерпанные богатства постижений, предощущаемые духом крупных людей. И многие еще при жизни, как Дант, погружают свое лицо в сумрак и пронизывают взглядом неозаренные дали и дышат веяниями на этих лежащих во тьме пространствах.
В христианской мистике можно найти утверждение одного из богословов, что душа человека в земном бытии подобна личинке бабочки, завернутой в кокон, лежащей во тьме и безмолвии и ждущей своего часа воскрешения к бытию. Наступит час – и душа, как бабочка, вылетит, освобожденная, из косной оболочки, преображенная для новой жизни. Для человека, лишенного слепой, темной веры и, наоборот, исполненного беспокойного позыва к внутренним исканиям и самоуглублениям, этот тихий сон в темном коконе заменяется непрестанным усилием к прорытию каких-то подземных ходов мысли, непрестанной тревогой и тоской по высвобождению. Он совершенно не может, сложивши руки на груди и недвижимо покоясь, ждать призыва Архангельской трубы, чтобы тогда лишь встать и идти на Суд Бога, на приятие Истины от Высших Сил. Еще бродя по камням флорентийских улиц, по дорогам своего изгнания, Дант из земной жизни обращал свое лицо к Вечности, и каждый фибр его худого, аскетического, одухотворенного тела как бы закостенел в упрямом стремлении к действительности потусторонней. Из жизни, как из решетчатого окна недолгого заключения, строгое лицо Данте на портрете Джотто глядит в сумрак вечных пространств.
Вот предельная вершина мистического индивидуализма: человек в себе самом, во внутреннем своем, создал лестницу, по которой подымается ввысь, освобождаясь от частного, ибо душа его есть частица Единого-Вечного. Учение об экстазе Плотина и Порфирия2 есть уже более строго очерченный в своем содержании мистический индивидуализм. Первый проблеск человеческого творчества, первое ощущение Божества как горней возвышенно-созидательной силы было обнаружением путей мистического индивидуализма. В силу осознанной безусловной общности между человеческим «я» и Первой Волей человек чувствовал своей головой тот священный сияющий нимб – знак святости, небесную корону, – которым на трогательных рисунках Нового Завета наделяют святых в знак того, что их человеческое Я получило Высшую санкцию, отмечено печатью общности с источником священной истины и тайн бытия3.
Ощущение нимба возникает не в силу добродетелей, или покорного ужаса перед всемогущим деспотизмом, или преклонения перед обязательными заповедями. Чувство священного нимба своей увенчанной головой рождается из непреклонной твердыни душевной воли, взывающей к осуществлению своих державных прав, к осуществлению своего «я», которое в земной жизни не осуществлено, не раскрыто и только ждет осуществления в больших просторах, открываемых Смертью. К тому, кто больше всего бунтует во имя своего высшего осуществления, во имя своего требующего и ищущего «я», – к тому обращает свой лик Вечная Мудрость. Ибо это не пустое дерзание во имя мамона гордыни, а это алкание духа и тоска по Истине.
Быть может, исполнится мечта новохристиан, и наша земля приобщится к просторам Вечного, и каждый миг земной жизни даст ощущение Вечного. Но пока что – века за веками – из тесноты кишащей на земле человеческой жизни раздаются крики тоски и алкания. Руки подымаются к небу в надежде на простор, свежесть и свободу. А отъединившиеся в пустынях отшельники страдают пустотой своего одиночества при незаглушаемом душевном голоде. Нет такой безусловной полноты существования, того утоляющего душу жизненного содержания, которое «там» делает вечность одним неощущаемо-длящимся мгновением блаженства.
Люди, «взыскующие Града», бродящие по земле отъединенными, сурово-мечтательными отшельниками, как Дант, подобны пленным царственным птицам. Из их глаз смотрит тоска пленения, и они обвевают душу горячей и непреклонной, упорной мечтой о воле и вечности. Они должны восстановить, осуществить свое «я» – и потому они ждут Смерти. Этим жил Дант; на земле все ценное для него переосмыслилось в вечность; там был источник Истины, которой горела его душа, и Любви; силой своей мечты и своей жажды он еще при жизни отходил в область Вечности, скитался по Аду, Чистилищу и Раю. Так полно была объята его душа идеей Вечности.
О. Уайльд и Смерть
Никто не висел над более ужасной ямой смерти, чем Оскар Уайльд4. Бог избавил его от ужаса умереть в таком позоре, бессилии и отвращении. Он вышел из каторжной тюрьмы полуживой, но все-таки способный петь хвалу ветру, полевым травам и очистить душу свою от всей скверны, окунув ее в голубой бездне неба. А были дни, когда он напрягал все силы своего истощенного тела и изнемогающего духа, чтобы не задохнуться в смрадном кошмаре, чтобы последний час свой встретить лицом к лицу с тем духом красоты и мудрости, которым он жил.
Его путь к Голгофе мук начался с плевков, позорного стояния в беснующейся толпе, унижений и тоски слишком чуткой для этого души. Уайльд стоял и молчал. Он молчал, когда в него плевали, швыряли грязью и оскорблениями и выставили лондонской толпе на позор. Но за железными запорами тюремной кельи, в дни безмолвной казни осужденных, в месяцы однообразного кошмара каторжной жизни в душе его начинаются содрогания ужаса. Душа слабеет. Тянется агония, состояние затравленного животного. Он боится, что не выдержит, что умрет не как Уайльд, не как поэт и философ, а как замученная кляча, тело и душу которой исполосовали кнутами и выточили всю кровь. Слепой ужас подымается от темного ощущения иссякнувших, уничтоженных в организме духовном и телесном сил. Нечего противопоставить наступающему кошмару, нечем отбиваться, нет оружия, нет сил. Из ослабленной души рвется отчаянный крик протеста, но средств для борьбы нет. Так больной в нездоровом сне, в бреду чувствует скованными все члены и не может бежать от чудовищного призрака бед, наваливающегося ему на грудь и сжимающего горло.
Действительность здесь ничем не отличается от самой дикой сказки какого-нибудь исступленного фантаста. В глаза каторжнику-Уайльду смотрит последнее отчаяние. Призрак гибели встает со дна того болота, в которое попал поэт, и очаровывает его гипнозом ужаса и предсмертной тоски.
Осталось смириться, поверить, что душа насмерть убита, что кроме кошмара нет ничего, лечь и задохнуться.
А смерть должна была явиться ему – первому поэту Англии своего времени – иной. Как Петроний5, он слил бы с веянием смерти запах роз и аромат любви. Перед взглядом его, ясным и ничем не омраченным, были бы тихие дали и выси жизни, сад, освещенный догорающим золотым закатом. Душа, не ослабленная страданиями, не опозоренная содроганиями ужаса и тьмою страха, спокойно вдохнула бы последнюю струю жизни и возвратилась к первоисточнику красоты и мудрости, к великому Духу творчества и сил.
Взамен того к решетке тюремного окна Уайльда наклонился облик зловещий, невыносимый. Нет черт, нет красок, с помощью которых можно было бы воссоздать этот облик во всем его отвращении. Все силы души поэта напрягались и кричали: не хочу!. и – не могу!. Ужас здесь был не в том, что Уайльда заперли, что его опозорили, что его мучили. Ужас был в том, что душа его слабела, что она не переставала жить, что она гибла в бессилии, в тоске и позорном страхе, что он терял все путеводительные нити, все светочи своего духа, что он отдавал в конце концов свою жизнь и свою душу во власть началу косному, тупому, будучи бессилен с ним бороться.
Этот-то ужас смерти преследовал Уайльда на каторге, и он отразился в «Балладе Рэдингской тюрьмы» и в «De profundis»6. Спасением Уайльда было Евангелие и облик Христа. Открылась Америка, новый мир, новая земля жизни. Оказалось – можно жить в величайшей муке, превозмогая ее душой и безмолвно властвуя над всем внешним в жизни. Уайльд не видел картины русского художника Ге, где представлен Христос, встающий в истерзанном виде, залитый кровью из-под плетей и глядящий на нее и все и вся теми же глазами мудрости, тишины и любви7. Но Уайльд почувствовал ту же силу и увидел, что можно отогнать безобразный призрак животной смерти тихой волей самоутвердившейся души. Все цветы ее – и самые нежные из них – могли цвести нетронутыми. Свежий ветер повеял в душу Уайльда, и она ожила.
Восторжествовал дух жизни над страшным духом уничтожения. Позднее, выйдя из тюрьмы, выпустив последние книги, Уайльд скитался по Франции, жил в Париже, знал нужду, но бродил по миру спокойно, выпрямленно, смотрел на все спокойными глазами и встретил тихую гостью – смерть без ужаса и отчаянья. Какая бы она ни была – та Смерть, что склонилась над его постелью в скромной комнатке его последнего жилища, но во всяком случае она не была тем призраком, веющим слепым ужасом, какой грозил ему в Рэдингской тюрьме. В этом есть проблеск какой-то стихийной целесообразности, надежда на скрытый и правящий смысл.
Мировая гильотина
Смерть мстит художнику, который в творчестве своем обнимает только земное, только освещенное реальным полуденным светом. Тот, кто не заглядывал в темные аллеи нашего жизненного сада, кто никогда не покидал ясной дневной озаренности ради тайных сумерек, закрывающих обычную определенность и открывающих великую смутность, – тот смерть почувствует, как бессильный и смешанный с отвращением ужас.
Так было с Тургеневым. Он принимал жизнь как сплошной солнечный, простой и знакомый, бесконечно длящийся день. С ночью он не считался, не принимал ее во внимание, не отводил ей ни малейшего места в своих мыслях, в своих планах и представлениях. Несомненность – это золотой дневной блеск, выжигающий красные пятна на яблоках в деревенских огородах и помещичьих садах, румянец на щеках Кати Одинцовой, загар на руках Зинаиды из «Первой любви»… Человеческий муравейник, простые родные леса и поля, молчаливая пустынность природы, с простой и грубой жизнью трав, деревьев, крестьян; очарование женщины, не призрака грез и ясновидений, а как реальности, в плоти и крови; вся музыка плотской, реальной, конкретной жизни, волнующая страстями и влечениями, – этим замыкался жизненный горизонт великолепного художника плоти – Тургенева. Далее смутно реяли черные неведомые сады, на которые он не бросал взгляда.
В его письмах есть драгоценное признание на этот счет:
«Я не могу видеть без волненья, как ветка, покрытая молодыми зеленеющими листьями, отчетливо вырисовывается на голубом небе… Ах, я не выношу неба! Но жизнь, ее реальность, ее капризы, ее случайности – обожаю… Я предпочитаю созерцать торопливые движенья влажной лапки утки, которою она чешет себе затылок на краю лужи, или длинные и блестящие капли воды, медленно падающие с морды неподвижной коровы, только что напившейся воды у пруда, куда она вышла по камню, – всему, что можно видеть на небе!. »
Жизнь захлестывала художника абсолютно; для смерти не оставалось в его сознании места, – оно было заполнено жизнью. Ни одна нить желаний, влечений, отдаленнейших грез не простирается у него за пределы обычно-жизненного. Все, что нужно художнику и его персонажам, – есть в самой жизни. За жизнью – для него нет ничего. Все здесь начинается и здесь кончается. Жизнь есть поистине «полная чаша», представленная для глубочайшего удовлетворения души. Пока ты здесь, пей из этой чаши, ибо за ней – ужасающее, обиднейшее Ничто. Там Ася не встретит уж никогда своего случайного возлюбленного, там ни одной струи холодного ночного воздуха не вдохнет грудь, не будет ни малейшей частицы всей этой милой бесценной реальности, как холм земли, подсолнечник, плеск волны о борт лодки, запах дыма и загар женских рук, очарованье первого поцелуя… Нет, можно ли даже сравнивать жизнь со смертью, когда там ничего этого нет!.
А между тем именно удовлетворения в этой сияющей и радостной жизни найти невозможно. Его никто из героев Тургенева не знает. Положительно никто. Умирает алкающий Базаров, уходит в монастырь Лиза, вдовой остается Елена, гибнет героиня «Фауста», разбивается любовь Аси и Джеммы… В конце концов уже на склоне лет, когда в самый жгучий полдень художник видит зловещую тень, в своем цикле «Senilia» он задумывается над целями и мотивами Природы. Она безжалостна! Поэт видит ее в гигантском облике земной бесцельно-творящей силы, поддерживающей равновесие между живущими и одинаково заботящейся о блохе и о человеке.
Оставаясь один в лесу и прислушиваясь к дикому существованию деревьев, художник содрогается. Душу его пронизывает холод безучастия великой природы к своему венцу творения – человеку. Что за дело ей – этой гигантской женщине с трубным голосом, кормящей у своей груди волчицу и человека, этой плодотворящей Гее, занятой рождением, до наших божеств красоты и музыки, до Венеры Медицейской и сонаты Бетховена, до психики поэта и философа. Умрет Шелли, Гейне8, Пушкин – ни один лист на дереве не содрогнется. И не будет ли «Она» занята в этот самый час работой укрепления мышц задних ног блохи?.
Нет спасения от хаоса. В реальном укрепиться не на чем: его подтачивают две силы: мертвое безучастие Природы к человеческому интеллекту и грозящая провалом в ничто Смерть. А за реальным – для Тургенева, этого исповедника культа красоты, отдавшего первенство Венере перед принципами свободы и равенства, – не было ничего.
И по мере нисхождения к старости все рос черный кошмар приближающейся Смерти. Началась длительная агония. Веяло холодом, сыростью, как из разрытой могилы, и удушающим смрадом тленья. Все в душе художника тоскливо протестовало против черной ямы в земле. Он отмахивался, как ребенок, от этого призрака и, как ребенок, его боялся. Сердце его замирало в тоскливом ужасе во время ночных кошмаров: ему снилось, как он описывал в миниатюре отвратительное жирное насекомое, наводящее отвращение, смешанное с ужасом. Такова была смерть для Тургенева, бессмысленная, наглая и страшная. Жизнь – это бойня! Мы все приготовлены для мировой гильотины. Нас рождают для нее, для этой машины. И величайшего художника тащат под нож, как жертвенного быка. Нет спасения от этой вопиющей бессмыслицы. И уже под ножом художник все еще созерцал, как беллетрист, совершаемое над ним, только уже объективировать последние переживания не мог, Смерть заледенила мозг и пальцы.
Абсолютизм человеческого
В наши дни мечта о вечности как будто навсегда побеждена. Гигантские дома заслонили небо, кишащие городской жизнью улицы закрыли горизонт. Некуда выйти из человеческого. Побежденные художники начинают петь гимны городу, первый пример подает Верхарн. А призывы Рескина, Толстого, Эмерсона и Метерлинка, появление братства прерафаэлитов9 являются показателями того, как велика опасность поглощения развившимся и осложнившимся человеческим хаосом. Эти крики о помощи, призывы к спасению; они порождены страшной силой человеческой топи, поглощающей все вечное, вневременное, абсолютное и возвеличивающей сегодняшние цели мелкого муравейника. Мириады лилипутов обессиливают и связывают спящий дух человечества. Вместе с уничтожением древнего широкого, я бы сказал, «космического» сознания (в противоположность узкочеловеческому) проваливаются в топь и поглощаются ею величайшие ценности: радости жизни, святого праздника жизни, вечного коронования живущей души каждым новым солнечным днем. Исчезает возможность лично-человеческого самоутверждения перед лицом стихий. Натиск их страшен, так страшен, что выбивает из-под ног человека фундамент, его устой, заставляет беспомощно и бессильно дрожать и метаться. Гордый при жизни человеческий дух в смертный час жалок и унизительно слаб.
Немыслимо представить в современности поэта, который обладал бы фанатической убежденностью Данта в существовании бессмертной потусторонней жизни, кто запечатлел бы все свои дни мечтой об этом мире и ожиданием входа в него. Попытка прерафаэлитского братства возродить древнее религиозное жизнеощущение была мечтой, осуществленной не в реальности, а в снах и галлюцинациях поэтов и художников. Протестуя против человеческого абсолютизма, призывая к священной простоте и глубокому смиренномудрию художника дорафаэлевской эпохи, они грезили об утраченной глубине и красоте, о стертой пыльце наивного мистического мироприятия с крыльев души человеческой. И Берн-Джонс, и Россетти, и Гольман Гент10 оставались фантастами-художниками, которые предавались нарочито вызванным мистическим, чувственно-сказочным снам, запираясь для этого в собственном доме, опасаясь высунуть голову за дверь, чтобы нежную паутину их визионерного художества не прорвал камень, брошенный из реально-человеческого.
Редкие одиночки мыслительно утверждаются перед вечной стихией, это люди не горящей души, как Дант, а вдохновенного ума, как Гёте. Но взгляд его охватывал бесконечные пространства за человеческим, и сознание поэта, в противоположность современному, было тоже космическим; он был дальнозорок, как Дант, хотя и не жаждал раствориться в нестерпимом блеске Рая. Из русских поэтов, воспевший смерть Гёте – Баратынский мыслительно утверждался перед лицом этой стихии и воспел ее гимном спокойствию, тишине и мудрости:
- О, дочь верховного эфира,
- О, светозарная краса,
- В твоей руке олива мира,
- А не губящая коса!..11
Пантеистически утвердился перед нею Тютчев, признавая смерть одной из тех сил, которые своим общим гармоническим ладом образуют жизнь вселенной. Все слито и смешано вместе: смерть есть в жизни и жизнь – в смерти; принимая, как красоту, высший расцвет и благоухание жизни, мы принимаем в ней и тонкое дуновение смертного хлада, это —
Во всем различное, таинственное зло…12
Такое же мистико-пантеистическое ощущение слияния жизни и смерти чудесно дал в своем проникновенном «Элизиуме» Щербина13. Личное ощущение смерти, личное отношение к ней в своем художестве есть вообще пробный камень творческих сил человека. Из современных наших поэтов это личное ощущение смерти дал только Ф. Сологуб14.
Идеей вечности всю жизнь был полон Лермонтов15, напрягавшийся в нечеловеческих усилиях раздвинуть колонны жизненного дома, избавиться от тесноты, распутать узлы лилипутов. В нем крайнее проявление индивидуалистического самоутверждения стремилось к своему окончательному завершению, к уничтожению в полноте Всеобщего, к слиянию с мировым Духом. По силе напряжения и нетерпения, по силе неприятия и тоски Лермонтов близок Данту. Начиная от юности, Лермонтов задумывается над огромными полотнами, где жизнь не скована узкими границами человеческого муравейника, а безбрежно разлита в мировом. Позже, художественно созревший, он уже в пределах человеческого могущественно дает чувствовать освежающее дыхание вечных просторов и вечную глубину, в которой созидается и из которой бьет поток стихийной жизни. Это поэма «Мцыри».
Единственный гений, который был весь в земном, который не заглядывал за его пределы, любопытствуя тем, что находил близ себя, – это Пушкин16. Утверждение, что жажда потустороннего и вечного есть некая мера сил поэта, он, автор «Онегина», разрушает вконец. Но кто скажет, что Пушкин не задыхался в узкочеловеческом? Что он не знал от него спасенья?
Здесь есть неожиданный выход на настоящую прямую дорогу, указанную именно здоровым гением Пушкина. Вспомните, что он в целом ряде произведений давал высокоправдивые отзвуки мистических созерцаний и отражений в душе человеческой («Пророк», «Из Беньяна», «Монастырь на Кавказе», «В начале жизни» и т. д.). Вспомните еще, что для свежей и жизненно-страстной души Пушкина отражения потусторонней правды так же действительны, глубоки и истинны, как и радостные проявления близкой реальности. Жизнь есть жизнь. Для гения «сегодня» не отрывается от «вечно», а сливается с ним. Его жизнеощущение таково, что в этом сегодняшнем он дышит вечным. Не потому ли так радостна, мила, так запечатлена какой-то истиной у Пушкина реальность? Она у него какая-то иная, пушкинская реальность, и мы ее ценим и любим, ибо она настоящая, такая, какою ее увидел зоркий проникновенный взгляд гения.
Жизнь – тайна. Она постигается лишь творческой интуицией художника. Без него мы не узнаем, где и в чем мы живем. Реальное, истинное доступно лишь взгляду гения. Миллиарды людей жили и сходили в могилы, столько не зная о жизни, как камни и травы, так же слепо и глухо. Человеческий муравейник поглощал их мысли и устремления. А плоские фотографии побежденных человеческим хаосом так называемых реалистов только увеличивали самообман. Одни отражения гениев правдивы. Весь поглощенный земным, художник земного, Пушкин снимал все ткани сегодняшнего условного с жизненных явлений и представлял их во всей первоначальной свежести. Он не бросался в крайность отрицания временного «сегодня» во имя вечного «завтра». Уже в сегодняшнем есть тайна жизни и радостная игра ее проявлений в красках, звуках, цветах и в сложном хаосе ощущений. Как же художнику пройти мимо этой дивной игры, этой «пляски жизни»?! И этот поэт отдался ей самозабвенно, весь; он не успел поглотить всех впечатлений этой игры, чтобы перейти, быть может, к созерцанию пространств, лежащих за «сегодня». Случайная смерть до времени увела его в эти темные пространства, где живет теперь его бессмертный дух.
1910
И. Е. Репин. Смерть
I
Человек боится смерти и тайно мечтает о своем бессмертии. Какое недомогание!
О, смертный – с трепетным благоговением, во прахе, благодари Творца Зиждителя, – за последний дар Его тебе на земле: смерть.
Желаю тебе быть достойно готовым к великой трагедии твоей души – прощанию с жизнию.
Пусть восторженные слезы твоего последнего момента сольются со слезами глубокой жалости твоих друзей, пришедших проститься с тобою навсегда.
Великая торжественная минута смерти запечатлевается присутствием Самого Бога.
На лицах покойников большею частию застывает выражение неизъяснимого величия вечной тайны по ту сторону жизни. Нет места в жизни на земле такому выражению.
II
Жизнь великое благо, счастливы гармонические натуры, умевшие ценить ее во всех проявлениях и пить полную чашу ее очарований.
Любит этот мир разумный человек и кладет душу на улучшение условий существования для всех живущих. В глубокой юности человек в природе все обожествляет и всему поклоняется с обожанием.
Высшим Разумом и доднесь также воспитываются люди в положительных принципах жизни человечества. Жизнь – святыня. Культурный человек благоговеет перед ее ценностью.
III
Только у животных, у диких да у нас, русских, жизнь не имеет никакой цены.
Особое счастье полудиких – в преступности. Разрушение, истребление всего, что «не наше»; в грабежах, в убийствах дикарь срывает свою злобу на все, что подвертывается ему укором его злодейству.
Как саранча, как смерть проносятся истребители дальше, когда сожрут все кругом себя. И эти чудовищные палачи жизни только для себя желали бы бессмертия… Завладеть всем и загадить все собою… Может ли быть что-нибудь отвратительнее такого бессмертного!!
IV
У меня поднимаются волосы дыбом при одной мысли о возможности бессмертия на Земле.
Мы бы сходили с ума от безобразных пережитков отживших эпох, при встречах с ними… Потерявшие давно образ Божий, трехсот-, пятисот– и восьмисотлетние – старики и старухи стонали бы, метались и валялись без призора; изъеденные проказой и другими ужасными болезнями… А что сказать о живых в пять тысяч лет!!!
Взгляните-ка, вон повезли трехсотлетнего Ивана Грозного… После этого зрелища нельзя уже ни пить, ни есть, ни спать…1
Какое счастие, что человек смертен!2
За все блаженство и несчастье на земле смертный награждается сладким моментом последнего чувства перед вечным покоем…
Все смертно, и все переменно. Особенно быстро погибают и разлетаются пылью абсолютические незыблемости… Бессмертны и вечны только великие идеи. Они посылаются человеку Святым Духом неизъяснимого Бесконечного Единого Бога Вечного.
1910
Е. Н. Трубецкой. Свобода и бессмертие
Во всяком героическом подвиге, во всяком акте самопожертвования есть сознательная или бессознательная вера в какой-то посмертный смысл жизни, который выходит за пределы личного существования. Этим подвигом мы заявляем, что не стоит жить для нашего личного удобства, счастья, эгоизма, что смысл жизни каждого из нас – в каких-то непреходящих мировых целях. И оттого-то самая мысль о бескорыстном подвиге так возвышает душу. Мы чувствуем, что этим подвигом личность перерастает самое себя, ибо врастает в мировое целое и увековечивает себя в нем; ее жизнь вливается в неумирающий поток жизни общей. Пусть мы умрем. Есть ценности, которые не умирают: в них отдельный человек найдет оправдание своего существования.
В обществе утверждается взгляд, что ценностью, ради которой стоит жить и умереть, является свобода. Чем объясняется такая высокая ее оценка?
Как бы ни была велика ценность свободы, ясно, что сама по себе она не может быть последнею окончательною целью нашего существования. Ее ценность не в ней самой, а в человеке, для которого она предназначена служить орудием. Мы не могли бы ценить свободы, если бы не уважали человека, если бы не признавали в нем существа, достойного свободы.
Для нас человек – центр вселенной и не только центр, но владыка и царь. На этом предположении покоится вся наша жизнь и деятельность и все наше понимание свободы. Требуя свободы для человека и только для него одного, мы тем самым заявляем о глубоком коренном различии его от внешней природы и твари; и это отличие делает его существом единственным в своем роде. Мы этим самым показываем, что есть целая бездна, которая отделяет в наших глазах человека от животного царства, что он для нас – перворожденный всей твари.
И это отличие от низшей твари у нас у всех общее, всем одинаковое. Всех людей отделяет от животного царства одна и та же грань, одна и та же пропасть. Вот почему мы требуем для всех людей одинаковых прав. Мысль о свободе у нас не отделяется от мысли о равноправии.
Чтобы располагать собою и властвовать над внешним миром, нужно обладать разумом; лишенные разума животные подвластны природе: царство подобает только разуму. Достойно свободы только такое существо, которое разумно может устроить свою жизнь.
И мы требуем свободы для человека в силу его царственного помазанья. Во всех видах и формах свободы мы уважаем только разум. Мы ценим свободу мысли, потому что мысль в оковах не способна к творчеству: для творчества нужен свободный полет; без свободы исследования невозможна наука.
Мы ценим свободу слова, потому что без нее невозможны передача и усвоение мысли. Мы требуем неприкосновенности личности, потому что уважаем в каждом человеке индивидуального носителя разума. Мы требуем политической свободы, потому что уважаем коллективный разум народа.
Во всех видах свободы мы ценим ту возможность беспрепятственного проявления разума, которая служит залогом его победы. В этой победе наша цель и в ней источник нашего воодушевления. Свобода – это крылья разума.
Но сорвите с человека его царственный венец, развенчайте разум, и знание свободы рухнет, ибо вместе с разумом рушатся все наши человеческие ценности. Упраздните эту грань между человеком и животным царством: тем самым вы ниспровергнете самые основы правового порядка и возвеличите деспотизм. Тогда человек совершенно равноправен животному, его можно обращать в орудие. Если человек – червь, его дозволено раздавить.
Тут мы сталкиваемся с одним из важнейших философских вопросов1. Вера в разум и его грядущую победу возможна только с точки зрения определенного миропонимания – того, которое верит в смысл жизни мировой.
Чтобы верить в эту победу, нужно знать, допускается ли она законами вселенной, не является ли в ней человеческий разум одиноким и чуждым, что значит вообще разум в мироздании.
Отвечая на этот вопрос, нужно считаться с тем философским пессимизмом, который учит, что разуму нет места в строе вселенной. В этом случае в ней не найдется места и для человеческого разума, ибо среди бессмысленной вселенной он может быть лишь частным проявлением всеобщей бессмысленности.
К такому выводу приходит Ницше. Он видит в человеческом разуме некоторого рода дурачество мировой стихии. «Во всем существующем, – говорит его Заратустра, – одно представляется невозможным – разумность. Правда, по планетам рассыпано немного мудрости: эта закваска примешана ко всем вещам. Дурачества ради ко всем вещам примешана мудрость»2.
Иными словами: разум – не более как привилегия ничтожнейшей разновидности органического мира – человека. В мировой жизни вся коллективная работа человеческого разума не имеет значения; в самой жизни человечества область сознательного, разумного – ничтожнейший идеал. И Ницше приходит к безотрадному выводу: разум – это сфера заблуждений, спасительных для человеческого рода.
Для нас в высшей степени важно оценить теоретические основы такого пессимистического воззрения. Если оно верно, то вся наша антропоцентрическая этика рушится. Тут наша этика приходит в конфликт с нашим научным миросозерцанием.
Вся наша жизнь, все наше поведение построены на том предположении, что человек – царь вселенной. А между тем естественные науки как будто указывают, что он ничтожнейшая ее часть, что вся наша цивилизация не более как скоропреходящая песнь земли. Об этом, по-видимому, свидетельствует астрономия. Глядя на небесный свод, невольно спрашиваешь себя: какую роль играет разум среди этих бесчисленных миров? Может ли он сравниться с теми неподвижными созвездиями, которые неведомо откуда появляются во мраке небес и так же быстро исчезают, обставляя за собой скоропреходящий огненный свет. Этот вопрос имеет самое близкое отношение ко всему, что нас здесь, на земле, волнует, ко всем нашим практическим задачам и злобам дня.
Мы знаем, что наступит день, когда наша земля в виде обледенелой глыбы будет носиться вокруг потухшего солнца; и мы хотим дать нашей земле какое-то разумное устройство. Не бессмысленны ли наши попытки? Не представляют ли они собой сплошное «дурачество разума»?
Я не напрасно заговорил о падающих звездах. Это немые свидетели ужасающей мировой драмы. Мы знаем, что это осколки распавшихся миров, развалины планет. Когда-то, быть может, и они были населены разумными существами, которые гордо, как и мы, мечтали о своем достоинстве, боролись с деспотизмом, требовали земли и воли. Зачем они это делали и зачем мы это делаем, раз нам предстоит та же участь? Не все ли равно, случится ли это сегодня, завтра или через несколько тысячелетий? Что значит в мировой жизни время? Разве в ней несколько тысячелетий не то же, что одна секунда? И не есть ли этот неизбежный конец – полное посрамление человеческого разума?
Чтобы видеть это посрамление, не надо обращаться к астрономии: достаточно совершить прогулку на кладбище. Тут мы найдем безобразную, возмутительную пародию на все наши идеалы и формулы: тут и всеобщее равноправие без различения вероисповедания, национальности, пола и даже возраста; и полное осуществление четырехчленной формулы, потому что могильные кресты олицетворяют ожидающий каждого из нас всеобщий, прямой, тайный и равный жребий; наконец, тут же и окончательное разрешение земельного вопроса, ибо, говоря словами Л. Н. Толстого, на кладбище каждый человек получит в надел как раз столько земли, сколько ему нужно. И величайший уравнитель – смерть пошла еще дальше самых смелых наших утопий. Она сорвала с человека его царственный венец и уравняла его с прахом. Неужели же эта республика мертвецов – окончательный венец усилий человеческого разума?
Какую же ценность при этих условиях может иметь для нас разум? Если он посрамлен и одурачен, то с ним вместе ниспровергнуты все наши человеческие ценности – наша вера в прогресс, наша любовь к ближнему и тот бескорыстный подвиг, которым мы думали себя увековечить. Что же нам уважать, пред чем преклоняться в человеке? Что остается от всего нашего ценного, великого, святого? Разве смерть не превращает в недостойный обман все наши святыни? И если торжество смерти будет окончательным, то самое наше негодование утрачивает смысл: тогда нам уже незачем возмущаться.
И прежде всего – разве эта гибель всего существующего, разве это исчезновение разума не возмутительнее всех деспотизмов в мире? Что значат по сравнению с этим безобразием вселенной все наши человеческие безобразия: все наши казни, убийства, издевательства над личностью? Деспотизм сеет смерть. Но ведь он – частное проявление того всеобщего царства смерти, которое лежит в корне вещей того мира, который весь во зле лежит. Чем нам возмущаться, если мы не возмущаемся самым фактом смерти? И что дает нам силу выносить жизнь, столь явным образом неразумную и бессмысленную?.
Ответ на это может быть дан только один: мы просто не верим в смерть и не можем в нее поверить. Несмотря на все то, что мы видим и знаем, вера в смерть не умещается в человеческом сердце. Мы признаем ее умом, мы считаемся с нею в наших рассуждениях, но отрицаем ее всем нашим существом, самою нашею жизнью: ее душа наша не приемлет.
И потому-то и не смущает окружающая бессмыслица. В основе нашей жизни лежит вера в скрытый для нас разум вселенной и в его окончательную победу. Это одно дает нам силу жить и принимать жизнь.
Если бы эта надежда не жила в человеке, если бы она не таилась даже в тех, кто умом ее отрицает, то вскоре ужас смерти заморозил бы всякое воодушевление, убил бы всякую энергию и остановил бы самую жизнь: ибо нет человеческого тела, которое не обесценивалось бы смертью.
Чтобы жить и действовать, нужно верить, что есть над нами солнце, которое не погаснет, что мы работаем не для могильного червя и что человеческое достоинство не есть иллюзия. Нам нужно достоверно знать, что мир идет к цели, что не погибнет человек и не сгинет то дело, в которое мы вкладываем душу. Напрасны попытки доказать эту веру: она предполагается всяким движением нашего ума и сердца, самою нашею жизнью. Но так же невозможно изгнать ее из нашего сердца. Если изгнать ее из сознания, она все-таки будет жить где-то за порогом сознания, в тайниках нашей души: она есть то, чем мы живем и двигаемся…
Теперь понятно то, что я сказал о связи свободы и бессмертия. В бессмертии смысл свободы и ее ценность. Эти крылья нужны человеческому разуму только в том случае, если он действительно способен к тому творческому акту, для которого нужна свобода, если она действительно может создать что-либо великое и прочное, что не уничтожается. Свобода подобает человеку, как сосуду Безусловного. Признание свободы – это та дань уважения, которую мы платим бессмертию.
В наши дни уныния и упадка духа, разброда мысли и всеобщей растерянности есть что-то бодрящее в этом сознании. Унывать не может тот, кто видит смысл над окружающей бессмыслицей, кто сознает величие стоящей перед нами цели. Цель эта дает уверенность к победе: ибо если человек – носитель неумирающей, вечной правды, то нет той власти, которая могла бы лишить его царства, и нет той силы, которая могла бы его раздавить.
Но надо помнить, что правда не в той ненависти, которая сеет смерть, а в той любви, которая созидает жизнь. И когда мы поймем это, мы всем сердцем почувствуем, для чего нужна нам свобода. Она нужна нам для созидания той новой неумирающей формы жизни, провозвестником которой является свободный человек. Она нужна нам для очеловечения России.
1916
Н. А. Бердяев. Метафизика пола и любви
<…> Рождение и смерть – одной природы, имеют один источник. Уже Гераклит учил, что Гадес и Дионис один и тот же бог1. И рождение и смерть одинаково – продукты мирового распада, дети времени, царства временности в мире. Бытие, отпавшее от своего источника и смысла, делается прежде всего временным, вытягивается в хронологический ряд, в котором вечная смена рождения и смерти, плохая бесконечность. Ни одно существо испорченного мира не вечно, все части мира, все состояния мира временны2, тленны. Когда сказано было рожать в муках, то этим было сказано и умирать; плодить в мире несовершенство и смерть по закону природной необходимости. Рождение есть уже начало смерти; истина эта подтверждается опытом всей природы и слишком очевидна. Рождение по самому существу своему есть дробление индивидуальности, распадение ее на части, есть знак того, что индивидуальность не может достигнуть совершенства и вечности и как бы предлагает своей части продолжить за нее дело совершенствования, как бы заменяет достижение единого успеха в вечности множественными успехами во времени. Родовое начало и любовь для продолжения рода – продукты смертности и испорченности природы и вместе с тем укрепление и узаконение смертности, торжество закона тления. Родовая половая любовь есть кажущееся, иллюзорное преодоление разрыва полов; единая и полная, совершенная и вечная индивидуальность в ней не достигается. Половое томление в стихии рода делается игрушкой безличной, природной силы, никогда этого томления не разрешающей, а бесконечно продолжающей во времени, в новых и новых формах. Между полом и любовью и родом и рождением существует коренная, не империческая только, а метафизическая противоположность. Утверждать пол в любви – значит утверждать полноту и совершенство индивидуальности, завоевывать вечность, хорошую бесконечность; утверждать стихию рода в родовом инстинкте – значит дробить индивидуальность, завоевывать несовершенное и смертное во времени, плохую бесконечность. Томление пола и тайна любви – в жажде преодолеть трагический разрыв полов, мистическим слиянием достигнуть вечной, совершенной индивидуальности. Совершенная индивидуальность не рождает и не умирает, не создает никаких последующих мигов. Когда говорят: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» – то этим хотят сказать, что прекрасное в своем совершенстве не должно рождать чего-нибудь иного, должно оставаться навеки таковым, что только недостаточно прекрасное и совершенное мгновение должно замениться другим. Совершенный мир не должен продолжаться в чем-либо ином, не должен ничего рождать, он остается для вечности, остается самим в себе. Все совершенное и безмерно-прекрасное есть достояние вечности, не дробится, не продолжается в рождении из себя совершенных частей. Родовая половая любовь и есть, применяя терминологию Платона, Афродита вульгарная, простонародная, земная Афродита. И, увы! Огромной части человечества знакома только вульгарная Афродита, так как находятся люди во власти рода, природной необходимости, естественного рабства, и сама мечта об Афродите небесной иным кажется почти безнравственной, противоестественной, безумно романтичной. Организовать беспорядочную, половую любовь, хорошо продолжить род человеческий – вот предел желания самых радикальных людей. Люди очень консервативны в вопросе о поле и любви; традиции, старые чувства и инстинкты правят ими, и корень этого консерватизма во власти рода. Позитивисты не знают иной любви, кроме родовой, только пол рождающийся понимают, только об изменении форм семьи заботятся. Теория любви Шопенгауэра, очень близкая к теории Дарвина3, есть только выражение консервативной власти рода, играющего людьми, зло иронизирующего над индивидуальностью.
Пол – это то, что должно быть преодолено, пол – это разрыв. Пока остается этот разрыв – нет индивидуальности, нет цельного человека. Но преодоление пола есть утверждение пола, а не отрицание, есть творческое соединение полов, а не отворачивание от полового томления. Нужно утвердить пол до окончательного его преодоления, до исчезновения полов, до соединения в единый дух, в единую плоть. Это, конечно, нельзя понимать так, что каждая монада, мужская и женская, перестает существовать самостоятельно; ей присуще самостоятельное бытие, и она достигает в слиянии полноты. Пол имеет природу духовную и плотскую, в нем скрывается метафизика духа и метафизика плоти. Пол – не физиологической и не эмпирической природы, в нем скрыты мистические глубины. Ведь мистическую диалектику пола усматривают даже в самой природе Блаженства. Весь мировой процесс коренится в поле; потому мир сотворился и продолжается, что в основе его лежит пол, что мистическая стихия мира расщеплена, разорвана, полярна. Метафизическая, духовно-плотская полярность напоила мир половым томлением, жаждой соединения. Полярность эта сказывается и в учении о вечной женственности, женственности мировой души, учении, столь близком христианской мистике, почувствованном уже Соломоном в «Песни Песней», основанном в символике Апокалипсиса. Очень характерен чувственно-эротический культ Девы Марии у средневековых мужчин и такой же культ Христа у средневековых женщин. Окончательное преодоление пола, соединение полов есть не только слияние противоположных человеческих половин, но также и слияние с Вечной Женственностью и с Божеством. Эрос – есть путь к индивидуальности и путь к вселенкости. Но какой Эрос?
Любовь родовая не есть соединяющее утверждение пола, она продолжает лишь дробление. Только личная половая любовь стремится к преодолению разрыва, к утверждению индивидуальности, к вечности, к бессмертию. Это – Афродита небесная. Только личная, внеродовая любовь, любовь избрания душ, мистическая влюбленность и есть любовь, есть подлинный Эрос, божественная Афродита. Личная любовь, Афродита небесная – сверхприродна, объявляет войну смерти и необходимости, она враждебна роду, дроблению индивидуальности, не рождает в своем совершенстве, жаждет индивидуального слияния и вечности, с ней связана тайна индивидуальности и бессмертия. Вл. Соловьев учит, что мистическая влюбленность в высшем своем подъеме не будет вести к рождению, к дроблению, а приведет к бессмертию индивидуальности, он провидит тут биологическое преображение, изменение «роковых» физиологических законов. По Соловьеву, только любовь нуждается в бессмертии, любовь есть высшее созерцание жизни, окончательная полнота бытия, действительность индивидуальности. Но Афродита небесная, личная, противоположная роду любовь, – не отвлеченно-духовная и бесплотная, она воплощена: полнокровна, конкретно-чувственна в такой же степени, как и духовна. Это признавал и Вл. Соловьев[31].
Но любовь по природе своей трагична, жажда ее эмпирически неутолима, она всегда выводит человека из данного мира на грань бесконечности, обнаруживает существование иных миров. Трагична любовь потому, что дробится в эмпирическом мире объектов любви, и сама любовь дробится на оторванные, временные состояния. Есть болезнь, которая носит название фетишизма в любви. Об этом явлении говорит и Соловьев в своей статье «Смысл любви». Болезнь эта состоит в том, что предметом любви делается не цельный человек, не живая, органическая личность, а часть человека, дробь личности, например волосы, руки, ноги, глаза, губы вызывают безумную влюбленность, отдельная, отвлеченная от сущности часть превращается в фетиш. При фетишизме ощущение личности любимого теряется, индивидуальности человека не видно. Этой болезнью фетишизма в любви больны в большей или меньшей степени все почти люди нашего времени. Любовь, в которой объект любви дробится и сама она распадается на преходящие миги, всегда есть фетишизм в любви, болезнь нашего духа и нашей плоти. Любовь исключительно плотская, физиологическая, столь распространенная в нашем мире есть фетишизм, так как в ней нет ощущения полной личности, всецелой индивидуальности. Любовь к отдельным сторонам духа и плоти, к оторванным частям, к прекрасным глазам и чувственным губам, к духовному аромату отдельных черт характера или обаянию ума – тоже фетишизм, тоже потеря ощущения личности. Единый объект любви, органический идеал, родная душа, мистически предназначенная полярная половина эмпирически раздробляется: в массе женщин для мужчин, в массе мужчин – для женщин видятся разорванные черты органического объекта – там глаза, здесь руки, там душа, здесь ум и т. п. и т. п. Ведь нужно открыто заявить, что мужчины в известной мере влюблены в слишком многих женщин, женщины – в слишком многих мужчин, все почти в известном смысле влюблены, неутолимая жажда мучить людей и любовное томление не имеет предела. В этом нет ничего морально предосудительного, но страшная трагедия скрыта в этой болезни любовного фетишизма, в этом дроблении любви и ее объекта. У каждой души есть своя предназначенная в мире, единственная родная душа, дополнение к цельной индивидуальности, а в здешней жизни душа человека растрачивает свою божественную силу Эолса по миллиону поводов, на неуловимые дробные части ее направляет, практикует фетишизм. Донжуанство и есть потеря личности в любви, сила любви без смысла любви. Ведь смысл любви (не родовой любви) в мистическом ощущении личности, в таинственном слиянии с другим, как своей родной полярной и вместе с тем тождественной индивидуальностью. Любовь решает то, что немцы называют Du Frage4, проблему перехода одного существа к другому и всему миру, выхода из своей ограниченности и оторванности. Этот великий смысл любви разрушается любовным фетишизмом, дроблением, потерей ощущения своей личности и ощущения другой личности. Преодоление фетишизма есть путь к индивидуальному бессмертию, к реально-мистическому ощущению и утверждению личности. Трагически страшна эта уединенность человека от человека, эта пустая бездна между любящими и близкими, это «мы с тобой так страшно близки, и каждый из нас одинок». Современная литература (с особенной силой – Мопассан5) изображает это безумное одиночество человека, этот солипсизм, разрыв с «ты», с реальностью мира. Только сила Эроса может вывести из этого одиночества, но Эроса не дробимого, ощущающего всецелость личности, божественная сила индивидуально-мистической любви. Нужно найти и полюбить свое другое «я», живую, цельную личность, и тогда оторванность от всякой реальности мира уже прекращается. Полюбить нужно не для образования родовой семьи, всегда эгоистически замкнутой, миру противоположной, личность поглощающей, а для мистически-любовного слияния всех существ мира, всех вещей мира.
1907
О рабстве и свободе человека
(Фрагмент)
<…> Прудон, у которых нет особенных углублений, говорит: Любовь есть смерть. Эта тема о связи любви и смерти всегда мучила тех, которые всматривались в глубину жизни1. На вершинах экстаза любви есть соприкосновение с экстазом смерти. Экстаз, в сущности, означает трансцендирование, выход за пределы обыденного мира. Любовь и смерть – самые значительные явления человеческой жизни, и все люди, не наделенные особенными дарами и не способные к творческим подъемам, имеют опыт любви и будут иметь опыт смерти. Да и опыт смерти есть и внутри самой жизни, есть касание тайны смерти. С любовью и смертью связана самая большая напряженность человеческой жизни, выход из принуждающей власти обыденности. Любовь побеждает смерть, она сильнее смерти, и вместе с тем она ведет к смерти, ставит человека на грань смерти. Вот парадокс человеческого существования: любовь есть стремление к полноте, и в ней есть смертное жало, любовь есть борьба за бессмертие, и эрос смертоносен. Обыденность объективированного мира притупляет остроту темы о связи любви и смерти. Любовь, любовь персоналистическая, обращенная к личному бессмертию, не вмещается в обыденности объективированного мира, она им извергается и в этом становится на границу смерти, понимая смерть в более широком смысле, чем смерть физическая. Любовь Тристана и Изольды, Ромео и Джульетты влечет к гибели. Любовь платоническая оказывается трагически безысходной. Социальная обыденность притягивает любовь вниз, обезвреживает ее, создает социальный институт брака и семьи и, в сущности, отрицает право любви как жизненной направленности и экстатичности, негодной для социального устроения. Нет ничего нелепее споров о свободе любви. Социальная обыденность отрицает свободу любви и признает ее безнравственной. И, поскольку религия отрицает свободу любви, она находится во власти социальной обыденности и исполняет ее заказы. Сама постановка вопроса не верна и поверхностна. Никакой другой любви, кроме свободной, не может быть, принудительная, извне детерминированная любовь есть нелепое словосочетание. Отрицать нужно не свободу любви, а рабство любви. Любовь может быть величайшим рабством. Это рабство порождается эротической иллюзией. Но это не имеет никакого отношения к социальным ограничениям свободы любви, хотя бы эти ограничения носили религиозный характер. Невозможно и не должно отказаться от любви во имя долга, социального и религиозного, это рабье требование, отказаться можно только во имя свободы или во имя жалости, то есть другой любви же. В теме о любви общество не имеет никакого суждения, оно не способно даже заметить явление любви и всегда говорит о чем-то другом. Тема любви должна быть совершенно и радикально десоциализирована, она в существе своем изначально десоциализирована. Социализирована семья, а не любовь. Глубокая связь любви и смерти не может быть заменена обществом и теми, кто говорит от лица общества, то есть говорит не о том и невпопад. Общество замечает лишь грубые реальности. И то, что христианские теологи, учители Церкви, официальные представители христианства никогда не могли ничего сказать о любви, кроме пошлостей, и даже не замечали ее, свидетельствует о том, насколько христианство было социализировано в обыденном объективированном мире и приспособлено к его требованиям. Говорили о поле, половом влечении и половом акте, о браке, семье и деторождении, но не о любви; видели исключительно биологическое или социологическое явление. Тема о любви считалась гораздо более неприличной, чем тема о половом акте или о коммерческой стороне брака и семьи. Существует таинственная связь пола и семьи с деньгами, с мистерией денег, но любовь находится вне этого плана. Такой человек, как блаж. Августин2, написал трактат о браке, очень напоминающий систему скотоводства; он даже не подозревает о существовании любви и ничего не может об этом сказать, как и все христианские учителя, которые, по моему глубокому убеждению, всегда высказывали безнравственные мысли в своем морализме, то есть мысли, глубоко противные истине персонализма, рассматривали личность как средство родовой жизни. Может быть, впервые в истории христианской Европы тема о любви была поставлена провансальскими трубадурами, которым принадлежит огромное место в эмоциональной культуре. Брак и семья принадлежат объективации человеческого существования, любовь же принадлежит бесконечной субъективности.
Тремя русскими мыслителями, Вл. Соловьевым, В. Розановым и Н. Федоровым, была глубоко поставлена тема о любви и смерти и очень по-разному разрешена. Вл. Соловьев был платоник, и его собственный эротический опыт связан с платонизмом. Таково его учение о Софии, сталкивающееся с учением о личности. Но в своей статье «Смысл любви», может быть, самой замечательной из всего, им написанного, он преодолевает границы безличного платонизма и впервые в истории христианской мысли связывает любовь-эрос не с родом, а с личностью. Любовь для него связана не с деторождением и с бессмертием рода, а с реализацией полноты жизни личности и с личным бессмертием. Вл. Соловьев устанавливает противоположность между любовью и деторождением, в отличие от всех традиционных учений о смысле брачной любви. Смысл любви – личный, а не родовой. В деторождении происходит распадение личности и раскрывается перспектива дурной бесконечности родовой жизни. Через любовь восстанавливается андрогинная целостность личности, человек перестает быть раздробленным, ущербным существом. Любовь имеет в том смысле связь со смертью, что она есть победа над смертью и достижение бессмертия. Но остается вопрос, в какой мере соловьевский смысл любви реализуем. Его собственный опыт был, в этом смысле, трагически. В. Розанов – полюс, противоположный Вл. Соловьеву. Учение о любви Вл. Соловьева персоналистично. Смерть побеждается личной любовью. Учение о любви Розанова родовое, безличное, смерть побеждается деторождением. В. Розанов имеет огромное значение как критик христианского отношения к полу. Розанов обоготворяет рождающий пол. Он видит в поле не знак грехопадения, а благословение жизни; он исповедует религию рождения и противопоставляет ее христианству как религии смерти. Он требует освящения и благословения полового акта как источника жизни. Источник смерти для него не в поле: в поле источник победы над смертью. Вл. Соловьев чувствовал грех ветхого пола. В. Розанов не чувствовал совсем этого греха. Он хочет вернуться к древнему язычеству, к иудаизму, благословляющему рождение. Христианство создало конфликт между личностью и рождающим полом, и Розанов делается врагом христианства. Для него как будто не существует проблемы личности. Обостренное сознание личности вызывает вражду к рождающему полу. Главной проблемой делается не проблема рождения, а проблема смерти. Но нужно помнить, что учителя исторического христианства всегда оправдывали брачную любовь исключительно деторождением. Пол, половой акт проклинался, как concupiscencia3, но последствие полового акта – деторождение – благословлялось. Розанов справедливо видел в этом лицемерие, которое он и обличал. Во всяком случае, традиционное христианское учение о любви, если только это можно называть любовью, было исключительно учением о родовой, рождающей любви. Любовь не только не имеет личного смысла, но личный смысл любви объявляется безнравственным. Тут путь соприкосновения с Розановым, но Розанов требует последовательности и искренности; если благословляется деторождение, то должен благословляться и источник деторождения. Н. Федоров прежде всего печалуется о смерти, не может примириться со смертью, хотя бы и единого существа, он призывает к титанической борьбе со смертью. В этом ему нет равного. Он хочет победить смерть не личным эросом и личным бессмертием, как Вл. Соловьев, а воскрешением умерших, не пассивным ожиданием воскресения, а активным воскрешением. Он хочет превратить энергию эротическую в энергию воскрешающую, хочет переключения эротической энергии. Он верит в возможность обращения времени, верит во власть человека не над будущим только, но и над прошлым. Воскрешение есть активное изменение прошлого. Н. Федоров не был эротическим философом, какими по-разному были Вл. Соловьев и В. Розанов, он проникнут любовью-жалостью к умершим. Он призывает не к родовому, коллективному рождению, а к родовому, коллективному воскрешению. Но все трое глубоко задумывались над любовью и смертью, над работой пола и работой смерти.
Со стихией пола связаны глубокие противоречия человеческой природы. Человек испытывает унизительное рабство пола. Пол терзает человека и порождает многие несчастья человеческой жизни. Но вместе с тем с полом связана напряженность жизни, энергия пола есть энергия жизни и может быть источником творческого жизненного подъема. Бесполое существо есть существо пожизненной жизненной энергии. Половая энергия может быть источником творчества. С полом, который есть знак ущербности человека, связана особенная тоска. И тоска эта всего сильнее в юности. Вместе с тем, пол поддается ужасной профанации, через него профанируется вся человеческая жизнь. Величайшая пошлость может быть связана с полом. Профанируется не только физическая, но и психическая сторона пола, профанируется эротика, сами слова любви становятся невыносимыми, их уже трудно произносить. Тут рабство пола принимает формы легкости и поверхностности. Пол ужасен в царстве обыденности, он ужасен в буржуазном мире и связан с властью денег над человеческой жизнью. Рабство пола связано с властью женского начала над человеческой жизнью. Женщина необыкновенно склонна к рабству и вместе с тем склонна порабощать. Пол в мужской природе частичен, пол в женской натуре целостен. Поэтому рабство пола в женской не означает отрицания или ослабления самой творческой жизненной энергии пола, но означает победу над рабством пола, сублимацию и трансформацию пола. Совершенная же и окончательная победа над этим рабством означает достижение андрогинной целостности, которая совсем не означает бесполости. Эротика играет огромную роль у творческих натур. Но универсализация эротики, окончательная подмена этики эротикой не благоприятна для принципа личности, для достоинства личности, для свободы духа и может быть утонченным рабством. Защита личности и свободы предполагает этическое начало, активность духа. Эротика не может быть пассивностью духа, господством душевно-телесного начала над духовным…
1939
Самопознание: (Опыт философской автобиографии)
(Фрагмент)
Мир эсхатологии
Мне очень свойственно эсхатологическое чувство, чувство приближающейся катастрофы и конца света. Это связано, вероятно, не только с моим духовным типом, но и с моей психофизиологической организацией, с моей крайней нервностью, со склонностью к беспокойству, с сознанием непрочности мира, непрочности всех вещей, непрочности жизни, с моим нетерпением, которое есть и моя слабость. Мое понимание христианства всегда было эсхатологическим, и всякое другое понимание мне всегда казалось искажением и приспособлением. Это совпадает со взглядами многих научных историков христианства. С конца XIX в., начиная с Вейсса, из школы Ричля1, возобладало эсхатологическое истолкование благой вести о Царстве Божьем. Луази – в качестве историка – защищал эсхатологическое понимание христианства. Но мой эсхатологизм имел метафизический, а не исторический источник. Близок мне был А. Швейцер, а также отчасти Блумгардт и Рагац2. Эсхатологизм связан был для меня с тем, что всё мне казалось хрупким, люди – угрожаемыми смертью, всё в истории – преходящим и висящим над бездной. Я и в личной жизни склонен был ждать катастроф и еще более в исторической жизни народов. И я давно предсказывал исторические катастрофы. До Первой мировой войны, когда о ней никто еще и не думал, я утверждал наступление катастрофической эпохи. Я ясно видел, что в мире происходит не только дехристианизация, но и дегуманизация, потрясение образа человека. Понятным мне это представлялось лишь в перспективе эсхатологического христианства. У меня вообще слабо сознание длительного процесса во времени, процесса развития. Всё мне представляется не переходным, а конечным. Это во мне очень глубокое личное чувство. Я всегда философствовал так, как будто наступает конец мира и нет перспективы времени. В этом я очень русский мыслитель и дитя Достоевского. При этом нужно сказать, что у меня никогда не было особенной любви к Апокалипсису и не было никакой склонности к его толкованию. В апокалиптической литературе, начиная с книги Еноха, меня очень отталкивала мстительная эсхатология, резкое разделение людей на добрых и злых и жестокая расправа над злыми и неверными. Этот элемент мстительной эсхатологии очень силен в книге Еноха, он есть и в христианском Апокалипсисе, он есть у бл<аженного> Августина, у Кальвина3 и мн<огих> др<угих>. Элемент садизма занимает большое место в истории религии, он силен и в истории христианства. Его можно найти в псалмах, и он вошел в систему ортодоксального богословия. Только Ориген4 был вполне свободен от садического элемента, и за это он был осужден представителями ортодоксального садизма. Утверждение человечности христианства вызывает настоящую ненависть у тех многочисленных христиан, которые считают жестокость основным признаком ортодоксальности. Я иду дальше, я склонен думать, что в языке самих Евангелий есть человеческая ограниченность, есть преломленность божественного света в человеческой тьме, в жестоковыйности человека. Жестокий эсхатологический элемент исходит не от самого Иисуса Христа, он приписан Иисусу Христу теми, у кого он соответствует их природе. Судебная теория выкупа есть человеческое привнесение. Я исповедую религию духа и твердо на этом стою. В историческом откровении дух затемнен человеческой ограниченностью, и на откровение налагается печать социоморфизма. Христианство есть откровение иного, духовного мира, и оно не соединимо с законом этого мира. Поэтому эсхатологическое христианство революционно в отношении к христианскому историческому, которое приспособилось к миру и часто рабствовало у мира. Христианство аскетическое было обратной стороной христианства, приспособленного к миру. Эсхатологизм, к которому я пришел, совсем особенный и требует больших разъяснений. Он мало общего имеет с монашески-аскетической эсхатологией и во многом ей противоположен. Монашеский аскетизм был соглашательством с миром, и его эсхатологизм пассивно-послушный. Я же исповедую активно-творческий эсхатологизм, который призывает к преображению мира. Я наиболее выразил это в книгах «Дух и реальность» и «О рабстве и свободе человека». Я пришел к особого рода эсхатологической гносеологии. Эсхатология обозначает символическую объективацию трагедии сознания. Конец есть конец объективации, переход в субъективность царства свободы. Но самое эсхатологическое чувство тесно связано с вопросом о смерти.
Я говорил уже, что никогда не мог примириться ни с чем тленным и преходящим, всегда жаждал вечного и только вечное казалось мне ценным. Я мучительно переживал расставание во времени, расстояние в пространстве. Вопрос о бессмертии и вечной жизни был для меня основным религиозным вопросом. И я никогда не понимал людей, которые осмысливают свою перспективу жизни вне решений этого вопроса. Нет ничего более жалкого, чем утешение, связанное с прогрессом человечества и блаженством грядущих поколений. Утешения мировой гармонии, которые предлагают личности, всегда вызывали во мне возмущение. В этом я ближе всего к Достоевскому и готов встать не только на сторону Ивана Карамазова, но и подпольного человека. Ничто «общее» не может утешить «индивидуальное» существо в его несчастной судьбе. Самый прогресс приемлем в том лишь случае, если он совершается не только для грядущих поколений, но и для меня. У меня никогда не было особенного страха перед собственной смертью, и я мало о ней думал. Я не принадлежу к людям, одержимым страхом смерти, как это было, напр<имер>, у Л. Толстого. Очень мучителен был для меня лишь вопрос о смерти других, близких. Но победа над смертью представлялась мне основной проблемой жизни. Смерть я считал событием более глубоким, более основным для жизни, более метафизическим, чем рождение. Я вспоминаю противоположение Розанова религии рождения и религии смерти и подаю свой голос против Розанова. Исповедовать религию смерти (такой он считал христианство) значит исповедовать религию жизни, – вечной, победившей смерть, жизни. Если представить себе совершенную вечную жизнь, божественную жизнь, но тебя там не будет и любимого тобой человека не будет, ты в ней исчезнешь, то эта совершенная жизнь лишается всякого смысла. Смысл должен быть соизмерим с моей судьбой. Объективированный смысл лишен для меня всякого смысла. Смысл может быть лишь в субъективности, в объективности есть лишь издевательство над смыслом. Поразительно, что люди с такой легкостью подчиняются преподносимому им смыслу, не имеющему, в сущности, никакого отношения к их неповторимой индивидуальной судьбе. Мировая гармония, торжество мирового разума, прогресс, благо и процветание всякого рода коллективов – государств, наций, обществ, – сколько идолов, которым подчиняют человека или он сам себя подчиняет! О, как я ненавижу это рабство! Проблема вечной судьбы стоит перед всяким человеком, всяким живущим, и всякая объективация ее есть ложь. Если нет Бога, то есть если нет высшей сферы свободы, вечной и подлинной жизни, нет избавления от необходимости мира, то нельзя дорожить миром и тленной жизнью в нем. Думая о себе, я прихожу к тому заключению, что мной движет восстание против объективации, объективации смысла, объективации жизни и смерти, объективации религий и ценностей. Предельную же ложь и зло я вижу в объективации ада и понимании ада, как входящего в божественный миропорядок.
Христос победил смерть. Победа эта совершилась в субъекте, то есть в подлинной перво-жизни и перво-реальности. Объективация этой победы есть экзотерическое приспособление к среднему уровню сознания. Всякая объективация есть применение наших категорий и понятий к божественным тайнам. Объективация носит социологический характер и носит на себе печать социоморфизма. К Богу неприменимы наши категории. И их так усердно и так принудительно применяли, что стало стыдно употреблять священное слово Бог. О, Бог совсем, совсем не то, что о нем думают. Но меня совсем не удовлетворяет очищенное спиритуалистическое учение о бессмертии души, как и идеалистическое учение о бессмертии универсального идеального начала5. Эти учения отрицают трагедию смерти и не направлены на конкретную целостную личность. Только христианское понимание направлено на всего человека, на образ личности. У греков бессмертны были боги, человек же был смертен. Достоинство бессмертия было признано сначала за героями, полубогами, сверхчеловеками. Но это значило, что бессмертие признавалось лишь за сверхчеловеческим, божественным, а не за человеческим. Интересно, что Ницше опять возвращается к греческому сознанию, у него бессмертен не человек, человек обречен на исчезновение, у него бессмертен новый бог, сверхчеловек, да и то не по-настоящему. А Заратустра более всего любил вечность. Диалектика Ницше направлена против человека, хотя он патетически переживал судьбу человека. Возможно ли бессмертие, вечная жизнь для человека, для человеческого в человеке? В платонизме тоже нет бессмертия человеческого, в «Федоне» бессмертна не столько индивидуальная душа, сколько душа универсальная. То же в германском идеализме. Только христианство по-настоящему утверждает бессмертие всего человека, всего человеческого в нем, за исключением привнесенной грехом и злом тленности. Есть единственность христианства в его последовательном персонализме. Душа человека дороже царств мира, судьба личности первее всего. Этого персонализма нет, напр<имер>, в теософических учениях, которые разлагают личность на космические элементы и слагают их уже в другую личность. Но христианство не отрицает трагедии смерти, оно признает, что человек проходит через разрыв целостной личности. Это совсем не есть эволюционно-оптимистический взгляд на смерть. Я отрицаю одноплановое перевоплощение, то есть перевоплощение душ в этом земном плане, так как вижу в этом противоречие с идеей целостной личности. Но я признаю многоплановое перевоплощение, перевоплощение в другом духовном плане, как и предсуществование в духовном плане. Окончательная судьба человека не может быть решена лишь этой кратковременной жизнью на земле. В традиционной христианской эсхатологии есть ужасная сторона. Тут я подхожу к теме, которая меня мучит гораздо более, чем тема о смерти. Проблема вечной гибели и вечного ада – самая мучительная из проблем, которые могут возникнуть перед человеческим сознанием. И вот что представлялось мне самым важным. Если допустить существование вечности адских мук, то вся моя духовная и нравственная жизнь лишается всякого смысла и всякой ценности, ибо протекает под знаком террора. Под знаком террора не может быть раскрыта правда. Меня всегда поражали люди, которые рассчитывали попасть в число избранников и причисляли себя к праведным судьям. Я себя к таким избранникам не причислял и скорее рассчитывал попасть в число судимых грешников. Самые существенные мысли на эту тему я изложил в заключительной главе моей книги «О назначении человека», и я это причисляю, может быть, к самому важному из всего, что я написал. Ее очень оценил Н. Лосский. Я не хочу просто повторять этих мыслей. Скажу только, что эти мысли родились у меня из пережитого опыта. Наибольшее противление у меня вызывает всякая объективация ада и всякая попытка построить онтологию ада, что и делают традиционные богословские учения. Я вижу в этом догматизирование древних садических инстинктов человека. У человека есть подлинный опыт адских мук, но это лишь путь человека и лишь пребывание в дурном времени, бессилие войти в вечность, которая может быть лишь божественной. Существование вечного ада означало бы самое сильное опровержение существования Бога, самый сильный аргумент безбожия. Зло и страдание, ад в этом времени и в этом мире обличает недостаточность и неокончательность этого мира и неизбежность существования иного мира и Бога. Отсутствие страдания в этом мире вело бы к довольству этим миром как окончательным. Но страдание есть лишь путь человека к иному, к трансцендированию. Достоевский считал страдание даже единственной причиной возникновения сознания6. И сознание связано со страданием. Ницше видел героизм в победе над страданием, победе, не ждущей награды. Таков путь человека. Таков горький путь познания. По непосредственному своему чувству, предшествующему всякой мысли, я не сомневался в бессмертии. Смерть была для меня скорее исчезновением «не-я», чем исчезновением «я», была мучительным разрывом, расставанием, прохождением через момент уединения («Боже, Боже, почто Ты меня оставил!»7) Но этим не решалась проблема личной судьбы. Всё это связано для меня с основной философской проблемой времени, о которой я более всего писал в книге «Я и мир объектов». Проблема времени, парадокс времени лежит в основе эсхатологической философии истории. Я твердо верю, что суд Божий не походит на суд человеческий. Это суд самого подсудимого, ужас от собственной тьмы вследствие видения света и после этого преображение светом.
1948
М. М. Бахтин. Автор и герой в эстетической деятельности
(Фрагмент)
Временное целое героя:
(Проблема внутреннего человека души)
<…> 2. Активное эмоционально-волевое отношение к внутренней определенности человека. Проблема смерти (смерти изнутри и смерти извне). Принципы оформления души суть принципы оформления внутренней жизни извне, из другого сознания; и здесь работа художника протекает на границах внутренней жизни, там, где душа внутренне повернута (обращена) вне себя. Другой человек вне и против меня не только внешне, но и внутренне. Мы можем говорить, употребляя оксюморон, о внутренней вненаходимости и противонаходимости другого. Каждое внутреннее переживание другого человека: его радость, страдание, желание, стремление, наконец, его смысловая направленность, пусть все это не обнаруживается ни в чем внешнем, не высказывается, не отражается в лице, в выражении глаз, а только улавливается, угадывается мною (из контекста жизни), – все эти переживания находятся мною вне моего собственного внутреннего мира (пусть они и переживаются как-то мною, но ценностно они не относятся ко мне, не вменяются мне как мои), вне моего я-для-себя; они суть для меня в бытии, суть моменты ценностного бытия другого.
Переживаясь вне меня в другом, переживания имеют обращенную ко мне внутреннюю внешность, внутренний лик, который можно и должно любовно созерцать, не забывать так, как мы не забываем лица человека (а не так, как мы помним о своем бывшем переживании), закреплять, оформлять, миловать, ласкать не физическими внешними, а внутренними очами. Эта внешность души другого, как бы тончайшая внутренняя плоть, и есть интуитивно-воззрительная художественная индивидуальность: характер, тип, положение и проч., преломление смысла в бытии, индивидуальное преломление и уплотнение смысла, облечение его во внутреннюю смертную плоть – то, что может быть идеализовано, героизировано, ритмировано и проч. Обычно эту извне идущую активность мою по отношению к внутреннему миру другого называют сочувственным пониманием1. Следует подчеркнуть абсолютно прибыльный, избыточный, продуктивный и обогащающий характер сочувственного понимания. Слово «понимание» в обычном наивно-реалистическом истолковании всегда вводит в заблуждение. Дело вовсе не в точном пассивном отображении, удвоении переживания другого человека во мне (да такое удвоение и невозможно), но в переводе переживания в совершенно иной ценностный план, в новую категорию оценки и оформления. Сопереживаемое мною страдание другого принципиально иное – притом в самом важном и существенном смысле, – чем его страдание для него самого и мое собственное во мне; общим здесь является лишь логически себе тождественное понятие страдания – абстрактный момент, в чистоте нигде и никогда не реализуемый, ведь в жизненном мышлении даже слово «страдание» существенно интонируется. Сопереживаемое страдание другого есть совершенно новое бытийное образование, только мною, с моего единственного места внутренне вне другого осуществляемое. Сочувственное понимание не отображение, а принципиально новая оценка, использование своего архитектонического положения в бытии вне внутренней жизни другого. Сочувственное понимание воссоздает всего внутреннего человека в эстетически милующих категориях для нового бытия в новом плане мира.
Прежде всего необходимо установить характер эмоционально-волевого отношения к моей собственной внутренней определенности и к внутренней определенности другого человека, и прежде всего к самому бытию-существованию этих определенностей, то есть и по отношению к данности души необходимо сделать то феноменологическое описание самопереживания и переживания другого, какое имело место по отношению к телу как ценности.
Внутренняя жизнь, как и внешняя данность человека – его тело, – не есть нечто индифферентное к форме. Внутренняя жизнь – душа – оформляется или в самосознании, или в сознании другого, и в том и в другом случае собственно душевная эмпирика одинаково преодолевается. Душевная эмпирика как нейтральная к этим формам есть лишь абстрактный продукт мышления психологии. Душа есть нечто существенно оформленное. В каком направлении и в каких категориях совершается это оформление внутренней жизни в самосознании (моей внутренней жизни) и в сознании другого (внутренней жизни другого человека)?
Как пространственная форма внешнего человека, так и временная эстетически значимая форма его внутренней жизни развертываются из избытка временного видения другой души, избытка, заключающего в себе все моменты трансгредиентного завершения внутреннего целого душевной жизни. Этими трансгредиентными самосознанию, завершающими его моментами являются границы внутренней жизни, где она обращена вовне и перестает быть активной из себя, и прежде всего временные границы: начало и конец жизни, которые не даны конкретному самосознанию и для овладения которыми у самосознания нет активного ценностного подхода (ценностно осмысливающей эмоционально-волевой установки), – рождение и смерть в их завершающем ценностном значении (сюжетном, лирическом, характерологическом и проч.).
В переживаемой мною изнутри жизни принципиально не могут быть пережиты события моего рождения и смерти; рождение и смерть как мои не могут стать событиями моей собственной жизни. Дело здесь, как и в отношении к наружности, не только в фактической невозможности пережить эти моменты, но прежде всего в совершенном отсутствии существенноо ценностного подхода к ним. Страх своей смерти и влечение к жизни-пребыванию носят существенно иной характер, чем страх смерти другого, близкого мне человека и стремление к убережению его жизни. В первом случае отсутствует самый существенный для второго случая момент: момент потери, утраты качественно определенной единственной личности другого, обеднения мира моей жизни, где он был, где теперь его нет – этого определенного единственного другого (конечно, не эгоистически только пережитая потеря, ибо и вся моя жизнь может потерять свою цену после отошедшего из нее другого). Но и помимо этого основного момента утраты, нравственный коэффициент страха смерти своей и другого глубоко различны, подобно самосохранению и убережению другого, и этого различия уничтожить нельзя. Потеря себя не есть разлука с собою – качественно определенным и любимым человеком, ибо и моя жизнь-пребывание не есть радостное пребывание с самим собою как качественно определенною и любимою личностью. Не может быть мною пережита и ценностная картина мира, где я жил и где меня уже нет. Помыслить мир после моей смерти я могу, конечно, но пережить его эмоционально окрашенным фактом моей смерти, моего небытия уже я не могу изнутри себя самого, я должен для этого вжиться в другого или других, для которых моя смерть, мое отсутствие будет событием их жизни; совершая попытку эмоционально (ценностно) воспринять событие моей смерти в мире, я становлюсь одержимым душой возможного другого, я уже не один, пытаясь созерцать целое своей жизни в зеркале истории, как я бываю не один, созерцая в зеркале свою наружность. Целое моей жизни не имеет значимости в ценностном контексте моей жизни. События моего рождения, ценностного пребывания в мире и, наконец, моей смерти совершаются не во мне и не для меня. Эмоциональный вес моей жизни в ее целом не существует для меня самого.
Ценности бытия качественно определенной личности присущи только другому. Только с ним возможна для меня радость свидания, пребывания с ним, печаль разлуки, скорбь утраты, во времени я могу с ним встретиться и во времени же расстаться, только он может быть и не быть для меня. Я всегда с собою, не может быть жизни для меня без меня. Все эти эмоционально-волевые тона, возможные только по отношению к бытию-существованию другого, и создают особый событийный вес его жизни для меня, какой моя жизнь не имеет. Здесь речь не о степени, а о характере качества ценности. Эти тона как бы уплотняют другого и создают своеобразие переживания целого его жизни, ценностно окрашивают это целое. В моей жизни рождаются, проходят и умирают люди, и жизнь – смерть их часто является важнейшим событием моей жизни, определяющим ее содержание (важнейшие сюжетные моменты мировой литературы). Этого сюжетного значения термины моей собственной жизни иметь не могут, моя жизнь – временно объемлющее существования других.
Когда бытие другого непререкаемо определит раз и навсегда основной сюжет моей жизни, когда границы ценного существования – несуществования другого целиком будут объяты моими никогда не данными и принципиально не переживаемыми границами, когда другой будет пережит (временно объят) мною от natus est anno Domini до mortuus est anno Domini, становится отчетливо ясно, что, поскольку эти natus – mortuus2 во всей своей конкретности и силе принципиально не переживаемы по отношению к собственному моему существованию, поскольку моя жизнь не может стать таким событием, моя собственная жизнь совершенно иначе звучит для меня самого, чем жизнь другого, становится отчетливо ясной эстетическая сюжетная невесомость моей жизни в ее собственном контексте – что ее ценность и смысл лежат в совершенно ином ценностном плане. Я сам – условие возможности моей жизни, но не ценный герой ее. Я не могу пережить объемлющего мою жизнь и эмоционально уплотненного времени, как я не могу пережить и объемлющего меня пространства. Мое время и мое пространство – время и пространство автора, а не героя, в них можно быть только эстетически активным по отношению другого, которого они объемлют, но не эстетически пассивным, эстетически оправдывать и завершать другого, но не себя самого.
Этим нисколько не преуменьшается, конечно, значение нравственного сознания своей смертности и биологической функции страха смерти и уклонения от нее, но эта изнутри предвосхищаемая смертность в корне отлична от переживания извне события смерти другого и мира, где его как качественно определенной единственной индивидуальности нет, и от моей активной ценностной установки по отношению к этому событию; и только эта установка эстетически продуктивна.
Моя активность продолжается и после смерти другого, и эстетические моменты начинают преобладать в ней (сравнительно с нравственными и практическими): мне предлежит целое его жизни, освобожденное от моментов временного будущего, целей и долженствования. За погребением и памятником следует память. Я имею всю жизнь другого вне себя, и здесь начинается эстетизация его личности: закрепление и завершение ее в эстетически значимом образе. Из эмоционально-волевой установки поминовения отошедшего существенно рождаются эстетические категории оформления внутреннего человека (да и внешнего), ибо только эта установка по отношению к другому владеет ценностным подходом к временному и уже законченному целому внешней и внутренней жизни человека; и повторяем еще раз, что дело здесь не в наличности всего материала жизни (всех фактов биографии), но прежде всего в наличии такого ценностного подхода, который может эстетически оформить данный материал (событийность, сюжетность данной личности). Память о другом и его жизни в корне отлична от созерцания и воспоминания своей собственной жизни: память видит жизнь и ее содержание формально иначе, и только она эстетически продуктивна (содержательный момент может, конечно, доставить наблюдение и воспоминание своей собственной жизни, но не формирующую и завершающую активность). Память о законченной жизни другого (но возможна и антиципация конца) владеет золотым ключом эстетического завершения личности. Эстетический подход к живому человеку как бы упреждает его смерть, предопределяет будущее и делает его как бы ненужным, всякой душевной определенности имманентен рок. Память есть подход с точки зрения ценностной завершенности; в известном смысле память безнадежна, но зато только она умеет ценить помимо цели и смысла уже законченную, сплошь наличную жизнь.
Данность временных границ жизни другого, хотя бы в возможности, данность самого ценностного подхода к законченной жизни другого, пусть фактически определенный другой и переживет меня, восприятие его под знаком смерти, возможного отсутствия, – эта данность обусловливает уплотнение и формальное изменение жизни, всего ее течения временного внутри этих границ (моральное и биологическое предвосхищение этих границ изнутри не имеет этого формально преобразующего значения, и уж подавно не имеет его теоретическое знание своей временной ограниченности). Когда границы даны, то совершенно иначе может быть расположена и оформлена в них жизнь, подобно тому как изложение хода нашего мышления иначе может быть построено, когда вывод уже найден и дан (дана догма), чем когда он еще ищется. Детерминированная жизнь, освобожденная от когтей предстоящего, будущего, цели и смысла, становится эмоционально измеримой, музыкально выразительной, довлеет себе, своей сплошной наличности; уже-определенность ее становится ценной определенностью. Смысл не рождается и не умирает; не может быть начат и не может быть завершен смысловой ряд жизни, то есть познавательно-этическое напряжение жизни изнутри ее самое. Смерть не может быть завершением этого смыслового ряда, то есть не может получить значения завершения положительного; изнутри себя этот ряд не знает положительного завершения и не может обратиться на себя, чтобы успокоенно совпасть со своею уже-наличностью; там только, где он обращен вовне себя, где его нет для себя самого, может снизойти на него завершающее приятие.
Подобно пространственным границам, и временные границы моей жизни не имеют для меня самого формально организующего значения, какое они имеют для жизни другого. Я живу – мыслю, чувствую, поступаю – в смысловом ряду своей жизни, а не в возможном завершимом временном целом жизненной наличности. Это последнее не может определять и организовывать мысли и поступки изнутри меня самого, ибо они познавательно и этически значимы (вневременны). Можно сказать: я не знаю, как извне выглядит моя душа в бытии, в мире, а если бы и знал, то ее образ не мог бы обосновать и организовать ни одного акта моей жизни изнутри меня самого, ибо ценностная значимость (эстетическая) этого образа трансгредиентна мне (возможна фальшь, но и она выходит за пределы образа, не обосновывается им и разрушает его). Всякое завершение – deus ex machina3 для изнутри направленного на смысловую значимость жизненного ряда.
Существует почти полная аналогия между значением временных границ и границ пространственных в сознании другого и в самосознании. Феноменологическое рассмотрение и описание самопереживания и переживания другого, поскольку чистота этого описания не замутняется внесением теоретических обобщений и закономерностей (человек вообще, уравнение я и другого, отвлечение от ценностных значимостей), явно обнаруживает принципиальное отличие в значении времени в организации самопереживания и переживания мною другого. Другой интимнее связан с временем (конечно, здесь не математически и не естественнонаучно обработанное время, это ведь предполагало бы и соответствующее обобщение человека), он весь сплошь во времени, как он весь и в пространстве, ничто в переживании его мною не нарушает непрерывной временности его существования. Сам для себя я не весь во времени, «но часть меня большая» интуитивно, воочию переживается мною вне времени, у меня есть непосредственно данная опора в смысле. Эта опора непосредственно не дана мне в другом; его я сплошь помещаю во времени, себя я переживаю в акте объемлющим время. Я как субъект акта, полагающего время, вневременен. Другой мне всегда противостоит как объект, его внешний образ – в пространстве, его внутренняя жизнь – во времени. Я как субъект никогда не совпадаю с самим собою: я – субъект акта самосознания – выхожу за пределы содержания этого акта; и это не отвлеченное усмотрение, а интуитивно переживаемая мною, обеспеченно владеемая мною лазейка прочь из времени, из всего данного, конечно-наличного – я воочию не переживаю себя всего в нем. Ясно, далее, что я не располагаю и не организую свою жизнь, свои мысли, свои поступки во времени (в некое временное целое) – расписание дня не организует, конечно, жизни, – но скорее систематически, во всяком случае организация смысловая (мы отвлекаемся здесь от специальной психологии познания внутренней жизни и от психологии самонаблюдения; внутреннюю жизнь как предмет теоретического познания имел в виду Кант); я живу не временною стороною своей жизни, не она является управляющим началом даже в элементарном практическом поступке, время технично для меня, как технично и пространство (я овладеваю техникой времени и пространства). Жизнь конкретного, определенного другого существенно организуется мною во времени – там, конечно, где я не отвлекаю его дела или его мысли от его личности, – не в хронологическом и не в математическом времени, а в эмоционально-ценностно весомом времени жизни, могущем стать музыкально-ритмическим. Мое единство – смысловое единство (трансцендентность дана в моем духовном опыте), единство другого – временно-пространственное. И здесь мы можем сказать, что идеализм интуитивно убедителен в самопереживании; идеализм есть феноменология самопереживания, но не переживания другого, натуралистическая концепция сознания и человека в мире есть феноменология другого. Мы, конечно, не касаемся философской значимости этих концепций, а лишь феноменологического опыта, лежащего в их основе; они же являются теоретической переработкой этого опыта.
Внутреннюю жизнь другого я переживаю как душу, в себе самом я живу в духе. Душа – это образ совокупности всего действительно пережитого, всего наличного в душе во времени, дух же – совокупность всех смысловых значимостей, направленностей жизни, актов исхождения из себя (без отвлечения от я). С точки зрения самопереживания интуитивно убедительно смысловое бессмертие духа, с точки зрения переживания мною другого становится убедительным постулат бессмертия души, то есть внутренней определенности другого – внутреннего лика его (память), – любимой помимо смысла (равно как и постулат бессмертия любимой плоти – Данте)4.
Душа, переживаемая изнутри, есть дух, а он внеэстетичен (как внеэстетично и изнутри переживаемое тело); дух не может быть носителем сюжета, ибо его вообще нет, в каждый данный момент он задан, предстоит еще, успокоение изнутри его самого для него невозможно: нет точки, нет границы, периода, нет опоры для ритма и абсолютного эмоционально-положительного измерения, он не может быть и носителем ритма (и изложения, вообще эстетического порядка). Душа – не осуществивший себя дух, отраженный в любящем сознании другого (человека, Бога); это то, с чем мне самому нечего делать, в чем я пассивен, рецептивен (изнутри душа может только стыдиться себя, извне она может быть прекрасной и наивной).
Рождаемая и умирающая в мире и для мира внутренняя определенность – смертная плоть смысла, – сплошь в мире данная и в мире завершимая, собранная вся в конечный предмет, может иметь сюжетное значение, быть героем.
Подобно тому как сюжет моей личной жизни создают другие люди – герои ее (только в жизни своей, изложенной для другого, в его глазах и в его эмоционально-волевых тонах я становлюсь героем ее), так и эстетическое видение мира, образ мира, создается лишь завершенной и завершимой жизнью других людей – героев его. Понять этот мир как мир других людей, свершивших в нем свою жизнь, – мир Христа, Сократа, Наполеона, Пушкина и проч., – первое условие для эстетического подхода к нему. Нужно почувствовать себя дома в мире других людей, чтобы перейти от исповеди к объективному эстетическому созерцанию, от вопросов о смысле и от смысловых исканий к прекрасной данности мира. Нужно понять, что все положительно ценные определения данности мира, все самоценные закрепления мирской наличности имеют оправданно-завершимого другого своим героем: о другом сложены все сюжеты, написаны все произведения, пролиты все слезы, ему поставлены все памятники, только другими наполнены все кладбища, только его знает, помнит и воссоздает продуктивная память, чтобы и моя память предмета, мира и жизни стала художественной. Только в мире других возможно эстетическое, сюжетное, самоценное движение – движение в прошлом, которое ценно помимо будущего, в котором прощены все обязательства и долги и все надежды оставлены. Художественный интерес – внесмысловой интерес к принципиально завершенной жизни. Нужно отойти от себя, чтобы освободить героя для свободного сюжетного движения в мире.
<…> Там, где другой и его смысловое напряжение внутренне авторитетны для нас, где мы соучаствуем его смысловой направленности, затруднено его эстетическое одоление и завершение, авторитетный смысл разлагает его внешнюю и внутреннюю плоть, разрушает его значимую наивно-непосредственную форму. (Его трудно перевести в категорию бытия, ибо я в нем.) Существенное значение имеет антиципация смерти для эстетического завершения человека. Эта антиципация смерти и заложена как необходимый элемент в эстетически значимую форму внутреннего бытия человека, в форму души. Мы предвосхищаем смерть другого как неизбежную смысловую неосуществленность, как смысловую неудачу всей жизни, создавая такие формы оправдания ее, которые он сам со своего места принципиально найти не может. В каждый данный момент эстетического подхода к нему (с самого начала) он должен положительно совпадать с самим собою, в каждый данный момент мы должны его всего видеть, хотя бы в потенции всего. Художественный подход к внутреннему бытию человека предопределяет его: душа всегда предопределена (в противоположность духу). Увидеть свой внутренний портрет – то же самое, что увидеть свой портрет внеший; это заглядывание в мир, где меня принципиально нет и где мне, оставаясь самим собой, нечего делать; мой эстетически значимый внутренний лик – это своего рода гороскоп (с которым тоже нечего делать; человек, который действительно знал бы свой гороскоп, оказался бы во внутренне противоречивом и нелепом положении: невозможны серьезность и риск жизни, невозможна правильная установка поступка).
Эстетический подход к внутреннему бытию другого требует прежде всего, чтобы мы не верили и не надеялись на него, а ценностно принимали его помимо веры и надежды, чтобы мы были не с ним и не в нем, а вне его (ибо в нем изнутри его, вне веры и надежды, не может быть никакого ценностного движения). Память начинает действовать как сила собирающая и завершающая с первого же момента явления героя, он рождается в этой памяти (смерти), процесс оформления есть процесс поминовения. Эстетическое воплощение внутреннего человека с самого начала предвосхищает смысловую безнадежность героя; художественное видение дает нам всего героя, исчисленного и измеренного до конца; в нем не должно быть для нас смысловой тайны, вера и надежда наши должны молчать. С самого начала мы должны нащупывать его смысловые границы, любоваться им как формально завершенным, но не ждать от него смысловых откровений, с самого начала мы должны переживать его всего, иметь дело со всем им, с целым, в смысле он должен быть мертв для нас, формально мертв. В этом смысле мы можем сказать, что смерть – форма эстетического завершения личности. Смерть как смысловая неудача и неоправданность подводит смысловой итог и ставит задачу и дает методы несмыслового эстетического оправдания. Чем глубже и совершеннее воплощение, тем острее слышатся в нем завершение смерти и в то же время эстетическая победа над смертью, борьба памяти со смертью (памяти в смысле определенного ценностного напряжения, фиксации и приятия помимо смысла). Тона реквиема звучат на протяжении всего жизненного пути воплощенного героя. Отсюда своеобразная безнадежность ритма и его скорбно-радостная легкость, улегченность от безысходной смысловой серьезности. Ритм охватывает пережитую жизнь, уже в колыбельной песне начали звучать тона реквиема конца5. Но эта пережитая жизнь в искусстве убережена, оправдана и завершена в памяти вечной; отсюда милующая, добрая безнадежность ритма.
Если же движущий смысл жизни героя увлекает нас как смысл, стороной своей заданности, а не индивидуальной данности в его внутреннем бытии, то это затрудняет форму и ритм; жизнь героя начинает стремиться пробиться через форму и ритм, получить авторитетное смысловое значение, с точки зрения которого индивидуальное преломление смысла в бытии души, наличность воплощенного смысла, представляется его искажением; художественно убедительное завершение становится невозможным; душа героя из категории другого переводится в категорию я, разлагается и теряет себя в духе. <…>
Первая половина 1920-х годов
К переработке книги о Достоевском
<…> Изображение смерти у Достоевского и у Толстого. У Достоевского вообще гораздо меньше смертей, чем у Толстого, притом в большинстве случаев убийства и самоубийства. У Толстого очень много смертей. Можно говорит о его пристрастии к изображению смерти. Причем – и это очень характерно – смерть он изображает не только извне, но и изнутри, то есть из самого сознания умирающего человека, почти как факт этого сознания. Его интересует смерть для себя, то есть для самого умирающего, а не для других, для тех, которые остаются. Он, в сущности, глубоко равнодушен к своей смерти для других. «Мне надо одному самому жить и одному самому умереть». Чтобы изобразить смерть изнутри, Толстой не боится резко нарушать жизненное правдоподобие позиции рассказчика (точно умерший сам рассказал ему о своей смерти, как Агамемнон Одиссею). Как гаснет сознание для самого сознающего. Это возможно только благодаря известному овеществлению сознания. Сознание здесь дано как нечто объективное (объектное) и почти нейтральное по отношению непроходимой (абсолютной) границы я и другого. Он переходит из одного сознания в другое, как из комнаты в комнату, он не знает абсолютного порога.
Достоевский никогда не изображает смерть изнутри. Агонию и смерть наблюдают другие. Смерть не может быть фактом самого сознания. Дело, конечно, не в правдоподобии позиции рассказчика (Достоевский вовсе не боится фантастичности этой позиции, когда это ему нужно). Сознание по самой природе своей не может иметь осознанного же (то есть завершающего сознание) начала и конца, находящегося в ряду сознания как последний его член, сделанный из того же материала, что и остальные моменты сознания. Начало и конец, рождение и смерть имеют человек, жизнь, судьба, но не сознание, которое по природе своей, раскрывающейся только изнутри, то есть только для самого сознания, бесконечно. Начало и конец лежат в объективном (и объектном) мире для других, а не для самого сознающего. Дело не в том, что смерть изнутри нельзя подсмотреть, нельзя увидеть, как нельзя увидеть своего затылка, не прибегая к помощи зеркал. Затылок существует объективно, и его видят другие. Смерти же изнутри, то есть осознанной своей смерти, не существует ни для кого – ни для самого умирающего, ни для других, – не существует вообще. Именно это сознание для себя, не знающее и не имеющее последнего слова, и является предметом изображения в мире Достоевского. Вот почему смерть изнутри и не может войти в этот мир, она чужда его внутренней логике. Смерть здесь всегда объективный факт для других сознаний; здесь выступают привилегии другого. В мире Толстого изображается другое сознание, обладающее известным минимумом овеществленности (объектности), поэтому между смертью изнутри (для самого умирающего) и смертью извне (для другого) нет непроходимой бездны: они сближаются друг с другом.
В мире Достоевского смерть ничего не завершает, потому что она не задевает самого главного в этом мире – сознания для себя. В мире же Толстого смерть обладает известной завершающей и разрешающей силой.
Достоевский дает всему этому идеалистическое освещение, делает онтологические и метафизические выводы (бессмертие души и т. п.). Но раскрытие внутреннего своеобразия сознания не противоречит материализму. Сознание вторично, оно рождается на определенной стадии развития материального организма, рождается объективно, и оно умирает (объективно же) вместе с материальным организмом (иногда и раньше его), умирает объективно. Но сознание обладает своеобразием, субъективной стороной; для себя самого, в терминах самого сознания, оно не может иметь ни начала, ни конца. Эта субъективная сторона объективна (но не объектна, не вещна). Отсутствие осознанной смерти (смерти для себя) – такой же объективный факт, как и отсутствие осознанного рождения. В этом – своеобразие сознания.
<…> В мире Достоевского, строго говоря, нет смертей как объектно-органического факта, в котором ответственно активное сознание человека не участвует, – в мире Достоевского есть только убийства, самоубийства и безумия, то есть только смерти-поступки, ответственно сознательные. Особое место занимают смерти-уходы праведников (Макар, Зосима, его брат-юноша, таинственный посетитель). За смерть сознания (органическая смерть, то есть смерть тела, Достоевского не интересует) человек отвечает сам (или другой человек – убийца, в том числе казнящий). Органически умирают лишь объектные персонажи, в большом диалоге не участвующие (служащие лишь материалом или парадигмой для диалога). Смерти как органического процесса, совершающегося с человеком без участия его ответственного сознания, Достоевский не знает. Личность не умирает. Смерть есть уход. Человек сам уходит. Только такая смерть-уход может стать предметом (фактом) существенного художественного видения в мире Достоевского. Человек ушел, сказав свое слово, но самое слово остается в незавершимом диалоге. <…>
1961–1962
Н. М. Бахтин. Похвала Смерти
1-й гость. Прошло немного дней с тех пор, как мы собирались здесь в последний раз, и вот – одно место за нашим столом навсегда опустело. Веселой соучастницы наших пиров, мудрой и сладостной Каллинои, не стало… Не надлежит ли нам, сложив венки, молча разойтись? Или наша веселая мудрость1 нам не изменила, и, как всегда, мы последуем нашему давнему обычаю: поочередно произнести похвалу одной из божественных сил, владеющих миром? Если так, то сегодня право на нашу хвалу по справедливости принадлежит Той, что благостно коснулась нашего круга.
Итак, друзья, нам надлежит восхвалить Смерть. Но не рабыню-привратницу, покорно открывающую дверь в иную жизнь, а Смерть-завершительницу2, неотвратимо и навеки полагающую предел бытию.
Это значит: оправдать ушедшую Каллиною, – показать, что ее мудрость, ее радость не обессмыслена, не унижена, не завершена смертью.
Это значит: оправдать и нас, живущих, – показать, что все биения нашего сердца, преходящего и тленного, до конца приемлют смерть и утверждаются ею.
И это значит еще: оправдать самое жизнь в ее божественной ограниченности, о которой говорит и которую славит каждое дыхание живого.
Ибо у обеих сестер3 – одно оправдание, и хвала смерти – есть хвала жизни.
2-й гость. Смерть Каллинои – как всякая смерть, с которой я подлинно соприкасался, – пробудила во мне двойственное чувство: скорбь и вместе – глубокую, торжественную радость. Скорбь о том, что ее нет с нами, и еще о том, что лишь связано с нею, но что не она сама: не осуществленный ею замысел, не исчерпанное ею счастье. Словом, скорбь – о себе самом или о вещах, о внешнем. Радость же – о самой Каллиное.
Но откуда эта радость? От смутного, но властного ощущения, что здесь, в этой смерти, что-то осуществилось, до конца завершило себя. Я знал, что когда говорят о бессмысленности смерти, то говорят не о самом умершем, но о вещах: о том, что он мог бы еще сделать, достигнуть, и чего не сделал, не достиг.
И вот в те мгновения, когда у меня хватило силы прорваться сквозь внешнюю случайность и бессмысленность события, я ощущал, что смерть не есть нечто чуждое, внешнее, насильственное; что только для вещей существует конец, – случайно, извне приходящее уничтожение. Для живого смерть не просто конец, но всегда – завершение. Она не приходит для него извне, но вырастает изнутри4; всю жизнь зреет в нем самом, питается и крепнет его радостью, его мудростью, его болью и медленно, как солнце, восходит из его собственной глубины.
Я понял тогда, что на какой-то высоте (мне еще недоступной) скорбь может и должна быть до конца побеждена радостью; и что, подлинно любя, я должен принимать и любить не только жизнь любимой, но нераздельно слитую с нею – ее смерть.
3-й гость. Но ведь ты видел и знал только смерть тела Каллинои. И может быть, то, что казалось последним завершением ее жизни, было на самом деле началом нового и высшего бытия ее духа? Сам не понимая, ты всем существом ощутил это, и отсюда – твоя непонятная радость.
2-й гость. То, что ты говоришь теперь, я уже говорил самому себе. Но кощунственность этой старой и простой мысли открылась мне, как только с легкого пути отвлеченности я перевел ее в мой конкретный опыт. Я понял тогда – осязательно понял – неразрывность того живого и божественно-цельного единства, в котором – я знал – движение ресниц и мудрость, легчайшая улыбка и сокровеннейшая мысль о мире – неразделимо и вовеки одно!
Я увидел, что единство это может быть уничтожено, но не расколото, может погибнуть, но не распасться. Оно не может выделить, отбросить часть себя, как нечто чуждое, внешнее, случайное, – и остаться собою, продолжать быть. Нужна вся слепота отвлеченной мысли, чтобы различить в этом единстве тело и дух и оторвать их друг от друга, обрекая одно – на гниение, другое – на пустое, бесплотное бессмертие.
Тогда я вернулся к себе самому и, прислушиваясь к медленному восхождению смерти в моей глубине, спросил: если только части меня, моему духу, суждено избежать уничтожения, то имею ли я право принять такое бессмертие? И все во мне отвечало: нет! Все во мне говорило, что я един; что самая тупая боль и самая высокая радость нераздельно принадлежать всему мне, а не только моему телу или моему духу; что плоть не темница духа, не случайная оболочка, извне облекающая его, но плоть самого духа; что только в ней он впервые находит и осознает себя как дух; что только в ее ограниченности и связанности рождается его единство и свобода. Я знаю, что не могу распасться, и умру, как жил, – цельный и всецело!..
4-й гость. «Жизнь – смерть», «противоположны и нераздельно», «приемля и любя одну, – приемлешь и любишь другую»… Как легко принять все это за пустую и праздную диалектическую игру.
Но это не игра, не сопоставление пустых понятий; это то, к чему неизменно приводит конкретное вживание в реальную жизнь и в реальную смерть.
Я не только отвлеченно мыслю, но опытно знаю, что жить – это значит выделить себя из безразличной и неограниченной стихии мира как ограниченного, конечного, качественно-единственного и неповторимого. То, что делает меня – мною, что делает меня живым, это и есть моя конечность – в пространстве, во времени, во всем. Все во мне – каждая мысль и каждое хотение – утверждает себя как особое, как мое; противопоставляет себя безмерному и вечному миру… И за это радостное дерзновенное противопоставление себя всему я должен и я хочу полностью заплатить: своим уничтожением. Вот почему все живое изначала несет и лелеет в себе свою гибель и, утверждая свою жизнь, утверждает свою смерть. Вот почему в каждом властно-изживаемом мгновении мы прикасаемся к смерти и узнаем, что она не отрицает, но утверждает и возвеличивает жизнь. А если это не так, то откуда именно в моменты высшего напряжения жизни (в любви или познании, в творчестве или в борьбе с собою) это преодоление страха и готовности к гибели? Почему страх смерти возможен лишь при оскудении и обмелении жизни, при отрыве от ее полноты? Почему он судорожно цепляется уже не за самое жизнь (которая от него ускользнула вместе с радостной готовностью встретить смерть), но за вещи, за мертвую шелуху жизни?
Есть простое правило проверить подлинность своей жизни. Спросить себя: то, что я чувствую и думаю теперь, осталось бы оно в силе, если бы я знал, что сегодня наступит смерть? Продолжал бы я делать то, что делаю? И так спрашивать – всегда, во всем.
Я называю это: мерить верною мерою смерти.
Лишь то во мне имеет право на бытие, что выдерживает это испытание, что выходит из него нетронутым и по-новому оправданным. А то, что от этого прикосновения блекнет, выцветает, свертывается, – то лишь выдает себя за жизнь; оно должно быть вырвано и отброшено.
Очищенная от этого сора жизнь становится божественно-напряженной.
Пусть христиане и философы кощунственно называют смерть рабыней-привратницей иного бытия. Но тот, кто умеет подлинно жить и целостно хотеть, найдет в ней верную меру и высшее оправдание своей жизни – этой жизни, сладостной, трудной, единственной.
1928
Л. Шестов. Откровения Смерти
(Фрагменты)
Преодоление самоочевидностей:
(К столетию рождения Ф. М. Достоевского)
Кто знает, быть может, жить значит умереть, а умереть – жить
«Кто знает, может, жизнь есть смерть, а смерть есть жизнь», – говорит Эврипид1. Платон в одном из своих диалогов заставляет самого Сократа, мудрейшего из людей и как раз того, кто создал теорию о понятиях и первый увидел в отчетливости и ясности наших суждений основной признак их истинности, повторить эти слова. Вообще у Платона Сократ почти всегда, когда заходит речь о смерти, говорит то же или почти то же, что Эврипид: никто не знает, не есть ли жизнь – смерть и не есть ли смерть – жизнь. Мудрейшие из людей еще с древнейших времен живут в таком загадочном безумии незнания. Только посредственные люди твердо знают, что такое жизнь, что такое смерть…
Как случилось, как могло случиться, что мудрейшие теряются там, где обыкновенные люди не находят никаких трудностей? И почему трудности – мучительнейшие, невыносимейшие трудности – выпадают на долю наиболее одаренных людей? Что может быть ужаснее, чем не знать, жив ли ты или мертв! «Справедливость» требовала бы, чтоб такое знание или незнание было бы уделом равно всех людей. Да что справедливость! Сама логика того требует: бессмысленно и нелепо, чтобы одним людям было дано, а другим не было дано отличать жизнь от смерти. Ибо отличающие и не отличающие – уже совершенно различные существа, которых мы не вправе объединять в одном понятии – «человек». Кто твердо знает, что такое жизнь, что такое смерть, – тот человек. Кто этого не знает, кто хоть изредка, на мгновение теряет из виду грань, отделяющую жизнь от смерти, тот уже перестал быть человеком и превратился… во что он превратился? Где тот Эдип, которому суждено разгадать эту загадку из загадок, проникнуть в эту великую тайну?
Нужно, однако, прибавить: «по природе» все люди умеют отличать жизнь от смерти, и отличают легко, безошибочно. Неуменье приходит – к тем, кто на это обречен, – лишь с течением времени и, если не всё обманывает, всегда вдруг, внезапно, неизвестно откуда. А потом вот еще: это «неуменье» отнюдь не всегда присуще и тем, кому оно дано. Оно является только иногда, на время, и так же внезапно и неожиданно исчезает, как и появляется. И Эврипид, и Сократ, и все те, на которых было возложено священное бремя последнего незнания, обычно, подобно всем другим людям, твердо знали, что такое жизнь и что такое смерть. Но в исключительные минуты они чувствовали, что их обычное знание, то знание, которое роднило и сближало их с остальными, столь похожими на них существами и таким образом связывало их со всем миром, покидает их. То, что все знают, что все признают, что и они сами не так давно знали и что во всеобщем признании находило себе подтверждение и последнее оправдание, – этого они не могут назвать своим знанием. У них есть другое знание, не признанное, не оправданное, не могущее быть оправданным. И точно, разве можно надеяться добыть когда-нибудь общее признание для утверждения Эврипида? Разве не ясно всякому, что жизнь есть жизнь, а смерть есть смерть и что смешивать жизнь со смертью и смерть с жизнью может либо безумие, либо злая воля, поставившая себе задачей во что бы то ни стало опрокинуть все очевидности и внести смятение и смуту в умы?..
Как же посмел Эврипид произнести, а Платон повторить пред лицом всего мира эти вызывающие слова? И почему история, истребляющая все бесполезное и бессмысленное, сохранила нам их? Скажут, простая случайность: иной раз рыбья кость и ничтожная раковина сохраняются тысячелетиями. Сущность в том, что хоть упомянутые слова и сохранились, но они не сыграли никакой роли в истории духовного развития человечества. История превратила их в окаменелости, свидетельствующие о прошлом, но мертвые для будущего, – и этим навсегда и бесповоротно осудила их. Такое заключение как бы само собой напрашивается. И в самом деле: не разрушать же из-за одного или нескольких изречений поэтов и философов общие законы человеческого развития и даже основные принципы нашего мышления!..
Может быть, представят и другое «возражение». Может быть, напомнят, что в одной мудрой древней книге сказано: кто хочет знать, что было и что будет, что под землей и что над небом, тому бы лучше совсем на свет не рождаться2. Но я отвечу, что в той же книге рассказано, что ангел смерти, слетающий к человеку, чтоб разлучить его душу с телом, весь сплошь покрыт глазами3. Почему так, зачем понадобилось ангелу столько глаз – ему, который все видел на небе и которому на земле и разглядывать нечего? И вот я думаю, что эти глаза у него не для себя. Бывает так, что ангел смерти, явившись за душой, убеждается, что он пришел слишком рано, что не наступил еще человеку срок покинуть землю. Он не трогает его души, даже не показывается ей, но прежде, чем удалиться, незаметно оставляет человеку еще два глаза из бесчисленных собственных глаз. И тогда человек внезапно начинает видеть сверх того, что видят все и что он сам видит своими старыми глазами, что-то совсем новое. И видит новое по-новому, как видят не люди, а существа «иных миров», так, что оно не «необходимо», а «свободно» есть, то есть одновременно есть и его тут же нет, что оно является, когда исчезает, и исчезает, когда является. Прежние, природные, «как у всех», глаза свидетельствуют об этом «новом» прямо противоположное тому, что видят глаза, оставленные ангелом4. А так как остальные органы восприятия и даже сам разум наш согласован с обычным зрением, и весь, личный и коллективный, «опыт» человека тоже согласован с обычным зрением, то новые видения кажутся незаконными, нелепыми, фантастическими, просто призраками или галлюцинациями расстроенного воображения. Кажется, что еще немного и уже наступит безумие: не то поэтическое, вдохновенное безумие, о котором трактуют даже в учебниках по эстетике и философии и которое под именем эроса, мании или экстаза уже описано и оправдано кем нужно и где нужно, а то безумие, за которое сажают в желтый дом. И тогда начинается борьба между двумя зрениями – естественным и неестественным, – борьба, исход которой так же кажется проблематичен и таинствен, как и ее начало…
Одним из таких людей, обладавших двойным зрением, и был, без сомнения, Достоевский. Когда слетел к нему ангел смерти? Естественнее всего предположить, что это произошло тогда, когда его с товарищами привели на эшафот и прочли ему смертный приговор. Но естественные предположения едва ли здесь уместны. Мы попали в область неестественного, вечно фантастического par excellence5, и, если хотим что-нибудь здесь разглядеть6, нам прежде всего нужно отказаться от тех методологических приемов, которые до сих пор нам обеспечивали достоверность наших истин и нашего познания. Пожалуй, от нас потребуется и еще большая жертва: готовность признать, что достоверность вовсе и не есть предикат истины или, лучше сказать, что достоверность никакого отношения к истине не имеет. Об этом еще придется говорить, но уже из приведенных слов Эврипида мы можем убедиться, что достоверность сама по себе, а истина сама по себе. Ибо если Эврипид прав и точно никто не знает, что смерть не есть жизнь, а жизнь не есть смерть, то разве этой истине суждено стать когда-нибудь достоверной? Пусть все до одного люди, отходя ко сну и вставая, повторяют слова Эврипида – они останутся таким же загадочными и проблематическими, какими они были для него самого, когда он впервые услышал их в сокровенной глубине своей души. Он принял их потому, что они чем-то пленили его. Он высказал их, хотя знал, что никто не поверит им, если даже и все услышат. Но сделать их достоверными он не мог, не пытался и, позволю себе думать, не хотел. Может быть, вся пленительность и притягательная сила таких истин в том, что они освобождают нас от достоверности, что они подают нам надежду на возможность преодоления того, что именуется самоочевидностями.
Итак, не в тот момент, когда Достоевский стоял на эшафоте и ждал исполнения над собой приговора, слетел к нему страшный ангел смерти. И даже не тогда, когда он жил в каторге, среди обрекавших других и ставших обреченными людьми. Об этом свидетельствуют «Записки из Мертвого дома», одно из лучших произведений Достоевского. Автор «Записок из Мертвого дома» весь еще полон надежд. Ему, конечно, трудно, неслыханно трудно. Он не раз говорит – и в этом нет преувеличения, – что каторжная тюрьма, в которую согнали несколько сотен крепких, сильных, большей частью незаурядных, еще молодых, но выбитых из колеи и полных затаенной вражды и ненависти людей, была настоящим адом. Но за стенами этой тюрьмы, всегда помнил он, была иная жизнь. Край неба, видный даже из-за высокой острожно ограды, обещал в будущем, и не так уже отдаленном, волю. Придет время – и тюрьма, клейменые лица, нечеловеческая ругань, вечные драки, зверское начальство, смрад, грязь, свои и чужие вечно бряцающие цепи – все кончится, все пройдет, и начнется новое, высокое, благородное существование. «Не навсегда же я здесь», – постоянно повторяет он себе. Скоро, скоро я буду «там». А «там», на воле, есть все, о чем тоскует, чего ждет измученная душа. Здесь только тяжкий сон, кошмар. А там великое, счастливое пробуждение. Раскройте тюремные двери, прогоните конвойных, снимите кандалы – больше ничего не нужно; остальное я найду в том вольном, прекрасном мире, который я и прежде видел, но не умел оценить. Сколько искренних, вдохновенных страниц написал на эту тему Достоевский! «Какими надеждами забилось тогда мое сердце! Я думал, я решил, я клялся себе, что уже не будет в моей будущей жизни ни тех ошибок, ни тех падений, которые были прежде. Я начертал себе программу всего будущего и положил твердо следовать ей. Во мне возродилась слепая вера, что я все это исполню и могу исполнить. Я ждал, я звал поскорее свою свободу. Я хотел попробовать себя вновь на новой борьбе. Порой захватывало меня судорожное нетерпение…»7 Как жадно ждал он того дня, когда кончится каторга и начнется новая жизнь! И как глубоко он был убежден, что только бы выйти из тюрьмы, и он покажет всем – себе и другим, – что наша земная жизнь есть великий дар Божий. Если только не допускать прежних падений и ошибок, то можно уже здесь, на земле, найти все, что нужно человеку, и уйти из жизни, как уходили патриархи, «насытившись днями». «Записки из Мертвого дома» единственное в своем роде произведение Достоевского, не похожее на все, что он писал до и после них. В них столько выдержанности, ровности, тихого, величавого спокойствия – и это при колоссальном внутреннем напряжении. Притом живой, горячий, не напускной интерес ко всему, что проходит пред глазами. Если не все обманывает – эти записки правдивая летопись той тюрьмы, в которой Достоевский провел четыре года. Нет как будто ничего вымышленного – не изменены даже имена и фамилии арестантов. Достоевский, очевидно, тогда всей душой был убежден, что то, что проходило пред его глазами – хоть оно было ужасно и отвратительно, – все же было действительностью. Были арестанты, смелые, трусливые, лживые, правдивые, страшные, безобидные, красивые, безобразные. Были смотрители, майоры, бабы, приносившие калачи, фельдшера, врачи. Самые разнообразные люди – но действительные, настоящие, реальные, «окончательные» люди. И жизнь их тоже реальная, «окончательная» жизнь. Правда, – бедная, жалкая, реальная, но «окончательная» жизнь. Но ведь это же не «вся жизнь», как не все небо было в том голубом клочке, который виден был поверх тюремных стен. Настоящая, полная, содержательная, осмысленная жизнь – там, где над человеком не клочок синевы, а грандиозный купол, где нет стен, где бесконечный простор и широкая, ничем не ограниченная свобода – в России, в Москве, в Петербурге, среди умных, добрых, деятельных и тоже свободных людей. <…>
1921–1922
Л. Шестов. Дерзновения и покорности
(Фрагменты)
X. Сегодня и завтра
Человеку трудно ждать. Он так устроен, что настоящее ему всегда кажется более важным и несомненным, чем будущее. Через год – что еще будет, а сейчас нужно есть, пить, спать и обладать душевным покоем, без которого кусок в горло не полезет и никогда не заснешь. Но ведь будущее – это то же настоящее! Даже прошедшее во многих отношениях есть настоящее. Прошлая обида так же жжет, как и настоящая: иной раз воспоминания детства отравляют нам существование не меньше, чем события сегодняшнего дня. А будущее – оно ведь возьмет нас в свои руки прежде, чем мы успеем оглянуться! Но напоминания не помогают. Человек, несмотря на свой разум, есть существо, находящееся во власти мгновения. И его философия, даже тогда, когда он стремится на все глядеть sub specie aeternitatis, есть обычно философия sub specie temporis1, даже философия текущего часа. Оттого люди так мало считаются со смертью – точно ее совсем бы и не было. Когда человек думает о смертном часе – как меняются его масштабы и оценки! Но смерть – в будущем, которого не будет, так чувствует каждый. И вот приходится напоминать не только толпе, но и философам, что смерть в будущем, которое будет, наверное будет. И еще о многом таком приходится напоминать философам, которые знают столько ненужного и забыли либо никогда не знали того, что нужнее всего. И когда об этом напоминаешь, кажешься всего более непонятным и даже парадоксальным.
XIV. Смерть и сон
Мы привыкли думать, что смерть есть некоторый вид сна, сон без сновидений и пробуждения, так сказать, самый совершенный и окончательный сон. И в самом деле, похоже на то, что смерть есть последний сон. Даже мудрейший из людей, Сократ, так думал – по крайней мере, так говорил, если верить платоновской «Апологии»2. Но и мудрецы ошибаются; по-видимому, смерть по существу своему есть прямая противоположность сну. Недаром люди так спокойно и даже радостно отходят ко сну и так ужасаются приближению смерти. Сон не только еще есть жизнь, – сама наша жизнь, как это ни странно на первый взгляд, на три четверти, если не больше, есть сон, то есть продолжение первоначального небытия, из которого мы – не спрошенные, а может, и вопреки нашей воле, – были вырваны какой-то непонятной и таинственной силой. Мы все, в большей или меньшей степени, и живя, продолжаем спать, мы все – зачарованные нашим еще столь недавним небытием лунатики, автоматически движущиеся в пространстве. Оттого-то механические теории нам кажутся единственно истинными и всякие попытки борьбы с изначальной необходимостью представляются заранее обреченными на неудачу: они нарушают наше сонное бдение и вызывают только обиду и раздражение, какие проявляет всегда спящий по отношению к тем, кто его будит. Каждый раз, когда что-либо неожиданное, необъяснимое, извне или изнутри, выводит нас из обычного, милого сердцу и душе, равновесия, все наше существо наполняется тревогой. Неожиданность – она же необъяснимость, – это неестественно, противоестественно, это то, чего быть не должно, то, чего нет. Нужно во что бы то ни стало показать себе и другим, что неожиданностей не бывает на свете, не может быть; что неожиданность есть только недоразумение, случайное, преходящее, устранимое усилиями разума. Величайшим торжеством человека было открытие, что и небесные тела имеют тот же состав, что и земные, что и на небе тоже нет ничего совершенно нового, необъяснимого. Теория эволюции больше всего соблазняет людей именно тем, что она ни в самом отдаленном прошедшем, ни в самом отдаленном будущем не допускает возможности чего-нибудь радикально нового, еще небывалого. Миллион, биллион, триллион лет тому назад, равно как через миллион, биллион, триллион лет, жизнь была и будет в общем та же, что и теперь, и на нашей планете, и на всех доступных и не доступных нашему глазу бесчисленных планетах бесконечно большой вселенной. Спали, спят и будут спать по неизменным, автономно определившимся законам вечной природы – они же и вечный разум, или вечные идеальные основные начала. Никому и в голову даже не приходит, что эти миллионы и биллионы лет, вечная природа, вечные идеальные начала – чудовищная нелепость, которая никого не поражает только потому, что к ней привыкли. А меж тем такими нелепыми представлениями, тормозящими мысль и парализующими всякую любознательность, держится теория эволюции, так беспредельно овладевшая современными умами. Спектральный анализ победил пространство, свел небо на землю, теория эволюции победила время – свела все прошлое и все будущее к настоящему. Это величайшее завоевание современного знания, которое притязательно считает себя совершенным знанием!.
Но ведь поистине нужно быть погруженным в глубочайший сон, чтобы жить в такой бессмысленной и тупой самоуверенности! В этом отношении новая, лучше сказать, новейшая философия, действительно, сказала «свое слово», так не похожее на слова древних. Даже положительный Аристотель – и тот чуял во вселенной божественную quintam essentiam3, что-то не земное, на земное совсем не похожее. Сократ, правда, говорил своим судьям, что смерть, может быть, есть только сон без сновидений. Но похоже, что Сократ своих настоящих мыслей пред судьями не высказывал. Они ведь для него были толпой, «многими», которые – говори им, не говори – все равно неспособны воспринять истину и пробудиться от сна. Да он и сам, в той же «Апологии», в конце речи, заявляет, что никому, кроме Бога, неизвестно, что нас ждет после смерти. И надо думать. что это последнее утверждение гораздо ближе было душе Сократа. Уже Сократ – очевидно по всему – затеял «бегство от жизни», уже он знал и научил Платона, что философия есть не что иное, как приготовление к смерти и умиранию. И вся древняя философия, кроме школ, вышедших из Аристотеля, исходила из этой «мысли», – если можно тут говорить о «мысли». Не только чистые последователи Платона, но циники и стоики, я уже не говорю о Плотине, стремились вырваться из гипнотизирующей власти действительности, сонной действительности, со всеми ее идеями и истинами. Вспомните сказание Платона о пещере, речи стоиков о том, что все люди – безумцы, вспомните вдохновенный экстаз Плотина! Недаром новейшие историки говорят о «практическом» направлении древней философии! Конечно, если центробежные силы, которые открывали в себе древние греки, свидетельствуют о практических задачах, – то историки правы. Но не правы они ввиду того, что если уже говорить о практических задачах, то, конечно, их нужно и можно усмотреть в центростремительных тенденциях современной философии. Древние, чтобы проснуться от жизни, шли к смерти. Новые, чтоб не просыпаться, бегут от смерти, стараясь даже не вспоминать о ней. Кто «практичней»? Те ли, которые приравнивают земную жизнь к сну и ждут чуда пробуждения, или те, которые видят в смерти сон без сновидений, совершенный сон, и тешат себя «разумными» и «естественными» объяснениями? Основной вопрос философии – кто его обходит, тот обходит и самое философию.
XXXII. В начале было Слово
Если правду говорит Платон, если философия есть не что иное, как приготовление к смерти и умирание, то мы не вправе ожидать от нее успокоения и радости. Наоборот, что бы мы ни говорили и как бы мы ни думали о смерти, под всеми нашими словами и мыслями всегда будет скрываться огромная тревога и величайшее напряжение. И чем глубже мы станем погружаться в мысль о смерти, тем больше будет расти и наша тревога. Так что философия имеет своей последней задачей на построение системы, не обоснование нашего знания, не примирение видимых противоречий в жизни – все это задачи положительных наук, которые, в противоположность философии, служат жизни, то есть преходящим нуждам, а о смерти, то есть о вечности не думают. Задача философии – вырваться, хотя бы отчасти, при жизни от жизни. И подобно тому как человек с плачем родится на свет или с криком пробуждается от мучительного, кошмарного сна, так и переход к смерти от жизни должен, по-видимому, сопровождаться бессмысленным, отчаянным усилием, адекватным выражением которого будет тоже бессмысленный, отчаянный крик или безумное рыдание. Я думаю, что такого рода «пробуждения» знали многие философы. И даже пытались об этом рассказать. И художники немало об этом говорили – вспомните Эсхила, Софокла, Данте, Шекспира – в наши дни Достоевского и Толстого. Но говорили, конечно, «словами». А «слово» обладает загадочной силой пропускать через себя только то, что годится для жизни. Слово было для жизни и изобретено: чтоб скрывать от людей тайну вечного и приковывать их внимание к тому, что происходит здесь, на земле. Сейчас же после сотворения мира Бог позвал человека и велел ему дать имена всем тварям. И, когда имена были даны, человек этим отрезал себя от всех истоков жизни. Первые имена были нарицательные: человек называл, нарицал вещи, то есть определял, что из этих вещей и как он может использовать, пока будет жить на земле. Потом он уже не мог больше постигнуть ничего кроме того, что попало в их название. Да и не хотел, нужно думать: ему казалось, ему продолжает казаться, что главное, существенное в вещах это то, что в них есть общего и чему он дал имя, название. Даже в людях, даже в самом себе он ищет «сущность», то есть опять-таки общее. Вся наша земная жизнь сводится к тому, чтоб выдвинуть общее и растворить в нем отдельное. Наше социальное существование – а ведь человек принужден быть животным общественным, ибо Богом он быть не может, а зверем быть не хочет, – обрекает нас заранее на участь «общего бытия». Мы должны быть такими, какими нас соглашается принять окружающая нас среда. «Среда» не выносит бессмысленного крика или безумного рыдания, и мы, в самые трудные минуты совершенной безнадежности, делаем вид, что нам нисколько не трудно, что нам очень легко. Мы и умирать стараемся красиво! И это лицемерие считается высшею добродетелью! Конечно, при таких условиях люди не могут и мечтать о «знании», и то, что у нас считается знанием, есть своего рода mimicry4, посредством которого наше временное совместное существование делается наиболее легким, приятным или даже возможным. Что бы это была у нас за жизнь, если бы те, которые, как Гамлет, почувствовали, что время вышло из своей колеи, могли бы и всех остальных людей вышибать из колеи! Но, повторяю, заботливая природа, давши людям с «самого начала» «слово», устроила так, что, что бы человек ни говорил, до слуха ближних доходят только полезные или приятные для них сведения. А крики, стоны, рыдания – люди не считают их выражением истины и всячески «погашают» их: non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere5. И в самом деле – людям нужно только понятное. То же «непонятное», которое выражается в криках, нечленораздельных звуках или иных, не передаваемых словом «внешних» знаках, уже относится не к людям. Есть, должно быть, кто-то, гораздо больше восприимчивый к слезам и стонам, даже к молчанию, чем к слову, кто видит в несказанном больше смысла, чем в ясных и отчетливых, обоснованных и доказанных утверждениях… Но философия – мы ведь о ней начали говорить – философия прислушивается только к тому, что ценят живущие обществами люди, или к тому, что направлено к последнему «единому», ни в чем не нуждающемуся и потому не понимающему человеческой нужды существу. Что думал об этом Платон, когда говорил об умирании и смерти, о бегстве от жизни? Что думал об этом Плотин, когда экстаз уносил его в иной мир, где он забывал даже о школе и учениках, и «знаниях», накопленных школами? И может быть, чтоб девизом философии стало: non intelligere, sed ridere, lugere, detestari?
L
Жало смерти. Платон в «Тимее» говорит, что «естественная смерть безболезненна и сопровождается скорее удовольствием, чем страданием». Многие, очень многие философы держатся того же мнения. Оно и понятно. Философ «обязан» давать ответы на вопросы, то есть проблематическое превращать в самоочевидное, неизвестное сводить к известному. Но тому, кто хочет сам учиться, а не обучать других, смерть всегда представлялась и будет представляться как нечто в последней степени неестественное, как неестественное ' <главным образом. – Ред. >. Он видит в смерти вечно проблематическое, что-то, что совершенно не мирится с обычным ordo et connexio rerum и даже idearum6. Такому и нет надобности лицемерить и притворяться, утверждая, что смерть в старости «приятна». Смерть всегда страшна. Конечно, природа могла бы и иначе распорядиться. Могла бы так устроить, чтобы человек, почувствовав, что связь его с нашим миром разрывается, испытывал великую радость. Так оно и должно было бы быть, если бы смерть была «естественным» явлением. И почему считают, что смерть в старости «естественнее», чем в молодости? Если вообще слово «естественный» имеет хоть какой-нибудь смысл, то приходится признать, что все в мире естественно – здоровье, как и болезнь, смерть в молодсти, как и смерть в старости, и т. д. Ведь противоестественное, то есть то, что против естества, против природы, и существовать не может. А раз существует, – то естественно. И если уже на то пошло, то гораздо естественнее, ибо так большею частью и бывает, умереть в молодости или в среднем возрасте, от болезни или иной «случайной» причины, и умереть в мучениях, чем в старости и безболезненно. Посмотрите статистические таблицы, если вам недостаточно собственного опыта и наблюдения: до глубокой старости доживают очень немногие люди, а про безболезненную или радостную смерть почти не слышно. Смерть безумно мучительна и страшна. Даже внешний вид смерти ужасен. Если бы даже разложение организма не было связано с возможностью заражения окружающих, все же трупы пришлось бы сжигать или зарывать в землю. Непривычный человек даже и на скелет смотрит со страхом, который принято называть суеверным, но который, если бы мы были более любознательными, следовало бы совсем иначе квалифицировать. Так что, вопреки Платону, смерть есть самое неестественное, таинственное и загадочное из всего, что вокруг нас происходит. И обставлена она такими ужасами и страхами не случайно, а, пожалуй, именно затем, чтобы подчеркнуть ее загадку. Стало быть, вовсе нет и надобности прикрашивать смерть, делать ее менее страшной и проблематической. Ужасы смерти не случайны, а внутренне связаны с самым ее существом и связаны узами нерасторжимыми: из этого нужно исходить. Сам Платон это знал, когда писал «Федона», под неизгладившимся еще впечатлением смерти Сократа. И точно: когда на наших глазах умирает учитель, соображения об естественности смерти и вообще об естественности едва кому могут прийти на ум. Тогда думаешь о неестественном, о сверхъестественном. И разве может быть у нас уверенность, что естественное правомочнее и могущественнее сверхъестественного? Оно – на первый взгляд – постижимее, мыслимее, ближе. Но что толку и в первом взгляде, и в мыслимости, и в постижимости! Сократа-то ведь отравили, и его нет! Конечно, «естественное» не тревожит, легко переносится и приемлется, открыть же душу для сверхъестественного безмерно трудно. И только пред лицом великих ужасов душа решается сделать над собою то усилие, без которого ей никогда не подняться над обыденностью: безобразие и мучительность смерти заставляет нас все забыть, даже наши «самоочевидные истины», и идти за новой реальностью в те области, которые казались до того населенными тенями и призраками.
1922–1923
И. И. Лапшин. Ars moriendi1
Действующие лица:
Критик
Спиритуалист (плюралистический идеалист)
Механистический материалист
Пантеист (монистический идеалист)
Критик. Не находите ли вы, друзья мои, что философы слишком много уделяли внимания вопросам о смертности и бессмертии души в общей, отвлеченной форме и слишком мало говорили об умирании живой человеческой личности, – ведь философ часто рассуждает о смерти, как будто этот вопрос вовсе не лично его касается, подобно толстовскому Ивану Ильичу, который хорошо знал, что «все люди смертны», что «Кай – человек» и, следовательно, «Кай – смертен», но до самой смерти как-то не отдавал себе отчета в том, что этот силлогизм распространяется и на него самого?