Осип Мандельштам: ворованный воздух. Биография Лекманов Олег
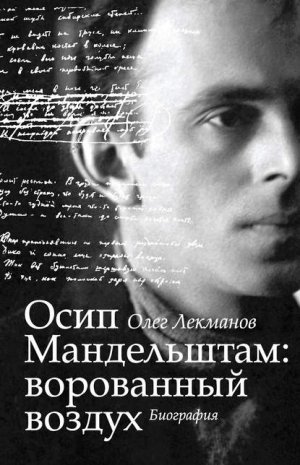
- Маятник душ – строг,
- Качается глух, прям,
- Если б любить мог…
- Кофе тогда дам[500].
Еще один пародируемый в пьесе текст – это программное мандельштамовское стихотворение «Дано мне тело – что мне делать с ним…», открывающее первое издание «Камня»:
(Входит, задрав голову, Тиж Д’Аманд.)
- Мне дан желудок, что мне делать с ним,
- Таким голодным и таким моим.
- О радости турецкий кофе пить
- Кого, скажите, мне просить?
- Вы, верно, влюблены?
- Не сомневаюсь.
- Я кофия упорно добиваюсь.
- Я и цветок, и я же здесь садовник.
- Я напою вас, если вы любовник[501].
Наконец, в 1933 году стихотворение «Сегодня дурной день…» спародировал Павел Васильев:
- Сегодня дурной день:
- У Оси карман пуст,
- Сходить в МТП[502] лень, –
- Не ходят же Дант, Пруст.
- Жена пристает: дай.
- Жене не дает – прочь!
- Сосед Доберман – лай,
- Кругом, Мандельштам, ночь – …
– и т. д.
- Дальше забыл.[503]
К «античным» пародиям на стихотворения Мандельштама, написанным в период «Tristia», мы можем прибавить только одну, ситуативную. Автором этой пародии 1927 года стал поэт и филолог Борис Горнунг:
- И с разрушаемого Моссоветом вала
- Мы город видели на малой высоте.
- Советскими ветрами нас сдувало,
- И мы сквозь дыры шли, как в решете[504].
«Мы пошли из Черкасского переулка пешком через Ильинские ворота и спустились к Москве-реке, – вспомнил позднее Горнунг. – Здесь Мандельштаму пришла в голову идея: “Давайте влезем на Китайгородскую стену” <…>. Мы благополучно вскарабкались около угловой башни, прошли по развороченной стене до Москворецкого моста <…>. Я… спародировал четыре строки его стихотворения»[505].
Завершим этот экскурс едва ли не единственной прижизненной пародией на стихи Мандельштама, сквозь которую явственно просвечивает безоговорочное восхищение мандельштамовскими стихами. Автором ее был известный китаист Лев Эйдлин:
«Я не увижу знаменитой “Федры”».
О. Мандельштам
- Мне предложили приготовить кальку
- В приятной подражательной манере.
- Для практики придется поработать
- И сделать потрясающий шедевр.
- Воссоздавая волшебство поэта,
- Творившего в уединенном доме,
- Я постараюсь отчеканить только
- Отменно чистый Мандельштама ритм.
- – Так сильно восторгаюсь я стихами… –
- Стихи поэта бурною волною
- Вас поднимают над обычной жизнью;
- Вы вечером приходите усталый,
- И вот пред Вами чуждые слова.
- Уходят прочь обыденные дрязги,
- В волнении забилось Ваше сердце,
- И восхищает красками своими
- Глубокомысльем порожденный стих…
- Я получил нелегкую задачу…
- Вот на столе зеленые чернила,
- Стальные перья громоздятся кучей.
- Но голос добронравья осторожный
- Подделывать стихи мне не велит.
- Зачитанный стихами Мандельштама,
- В безумстве хочешь тоже трогать струны;
- Беги и помни – нечего стараться,
- Коль вдохновенье раньше не пришло!
- Когда б кто мог представить эти муки…[506]
Возвращаясь к основному сюжету нашей книги, заметим, что Мандельштам часто заступался не только за своих друзей, но и за тех людей, которых он совсем не знал лично, например, за шестерых членов правления «Общества взаимного кредита» и бывшего ответственного работника Николаевского, в апреле 1928 года приговоренных большевиками к расстрелу.
18 мая поэт послал Бухарину экземпляр своей только что вышедшей книги «Стихотворения» с надписью примерно такого содержания: «В этой книге все протестует против того, что вы хотите сделать».
Спустя непродолжительное время автор «Стихотворений» получил от Бухарина телеграмму с сообщением о смягчении приговора.
Последняя вышедшая при жизни книга Мандельштама упоминается в псевдомемуарном, но отнюдь не пародийном стихотворении Арсения Тарковского «Поэт»[507]:
- Эту книгу мне когда-то
- В коридоре Госиздата
- Подарил один поэт;
- Книга порвана, измята,
- И в живых поэта нет.
- Говорили, что в обличье
- У поэта нечто птичье
- И египетское есть;
- Было нищее величье
- И задерганная честь.
- Как боялся он пространства
- Коридоров! Постоянства
- Кредиторов! Он, как дар,
- В диком приступе жеманства
- Принимал свой гонорар.
- Так елозит по экрану
- С реверансами, как спьяну,
- Старый клоун в котелке.
- И, как трезвый, прячет рану
- Под жилеткой из пике.
- Оперенный рифмой парной,
- Кончен подвиг календарный, –
- Добрый путь тебе, прощай!
- Здравствуй, праздник гонорарный,
- Черный белый каравай!
- Гнутым словом забавлялся,
- Птичьим клювом улыбался,
- Встречных с лету брал в зажим,
- Одиночества боялся
- И стихи читал чужим.
- Так и надо жить поэту.
- Я и сам сную по свету,
- Одиночества боюсь,
- В сотый раз за книгу эту
- В одиночестве берусь.
- Там в стихах пейзажей мало,
- Только бестолочь вокзала
- И театра кутерьма,
- Только люди как попало,
- Рынок, очередь, тюрьма.
- Жизнь, должно быть, наболтала,
- Наплела судьба сама.
Глава четвертая
До ареста (1928–1934)
Советские критики, писавшие о мандельштамовских «Стихотворениях», на все лады склоняли два уже набивших оскомину слова: «мастерство» и «несвоевременность». Однако тон большинства рецензий приобрел теперь существенно новое звучание: на смену «дружеским» нотациям пришли тяжелые политические обвинения. Так, в отзыве А. Манфреда Мандельштам был назван ни больше ни меньше как «насквозь буржуазным поэтом», представителем «крупной, вполне уже европеизированной» и «весьма агрессивной» буржуазии[508].
Начальные строки одного из стихотворений, вошедших в эту книгу:
- Мне жалко, что теперь зима
- И комаров не слышно в доме…
были грубо спародированы неким рапповским остроумцем, укрывшимся под псевдонимом «Архимедов»:
- Мне жалко, что теперь зима,
- И комаров не слышно в доме.
- Ты мне напомнила сама
- Пчелу, сидящую в соломе.
- Печально: нет укуса мух,
- Не услаждают слуха осы.
- Зачем твой носик синь и вспух,
- И разлохматилися косы?
- Но есть утех калейдоскоп, –
- Зимой дела не так уж плохи:
- И в стужу нежно жалит клоп,
- А по дивану скачут блохи[509].
Эта пародия вошла в микрорецензию на книгу Мандельштама, озаглавленную «Мандельштам, комары и прочие насекомые».
Стоит также отметить, что книга «Стихотворения» серьезно пострадала от цензурного произвола, как и вышедший в июне 1928 года сборник мандельштамовских статей «О поэзии», рецензии на который также не отличались особой благожелательностью. «Статьи Мандельштама похожи на его стихи, – говорилось в одном из откликов. – Те же привычные образы, “мандельштампы”, та же фрагментарность, отрывистость, та же недодержанность дыхания»[510].
Но горшие беды поджидали Мандельштама впереди. Еще 3 мая 1927 года он подписал с издательством «Земля и фабрика» (ЗИФ) договор на обработку, редактирование и сведение в единый текст двух давних переводов романа Шарля де Костера «Легенда о Тиле Уленшпигеле», принадлежавших один Аркадию Георгиевичу Горнфельду (видимо, двухтомное издание 1919 года; были еще сокращенные переиздания 1920 и 1925 годов), другой – Василию Никитовичу Карякину (1916 года). Ни Карякин, ни Горнфельд об этом ничего не знали и никаких денег за использование издательством их переводов предварительно не получили. В сентябре 1928 года роман вышел в свет, причем на титульном листе Мандельштам ошибочно был указан как переводчик. Поэт поспешил известить Горнфельда обо всем произошедшем и заявил, что отвечает «за его гонорар всем своим литературным заработком» (IV: 101)[511].
В вечернем выпуске ленинградской «Красной газеты» от 13 ноября 1928 года мелким шрифтом на последней странице было напечатано следующее «Письмо в редакцию» члена правления «ЗИФ’а» А.Г. Венедиктова: «В титульный лист “Легенды о Тиле Уленшпигеле” в издании “ЗИФ’а” вкралась ошибка: напечатано “Перевод с французского О. Мандельштама”, в то время как должно было стоять: “Перевод с французского в обработке и под редакцией О. Мандельштама”»[512].
В вечернем выпуске той же «Красной газеты» от 28 ноября 1928 года появилась заметка Горнфельда «Переводческая стряпня», где говорилось о том, что издательство «Земля и фабрика» «не сочло нужным сообщить имя настоящего переводчика изданного им романа, а О. Мандельштам не собрался объяснить, от кого собственно получено им право распоряжения чужим переводом»[513]. Далее Горнфельд доказывал, что «<ф>ранцузского подлинника О. Мандельштам не видел» и что из «механического соединения двух разных переводов с их разным стилем, разным подходом, разным словарем могла получиться лишь мешанина, негодная для передачи большого и своеобразного писателя».
Мандельштам откликнулся на эту заметку открытым письмом, напечатанным в «Вечерней Москве» 12 декабря 1928 года. Горнфельд, в свою очередь, отправил в «Вечернюю Москву» ответ Мандельштаму, но газета от его публикации уклонилась, мотивируя отказ нежеланием взваливать на читателей «тяжелую обязанность» «выслушивать все реплики обеих спорящих сторон»[514].
Какие позиции в этой точке конфликта заняли оппоненты?
Горнфельд выступил в привычном и естественном для себя амплуа видного мастера переводческого цеха, грудью вставшего на защиту неписаных, но святых правил своей корпорации. Эти правила требовали безукоризненного качества поставляемого на рынок товара, то есть переведенного текста, а также утрированной щепетильности по отношению к цеховым коллегам. «Горнфельд серьезно относился к своей переводческой деятельности, к своей подписи под переводом», – свидетельствовал поэт, мемуарист и сам видный представитель цеха С.И. Липкин[515].
Однако чрезвычайно внятная, на поверхностный взгляд, позиция переводчика «Тиля Уленшпигеля» осложнялась несколькими нюансами, сознательно упрятанными им в тень: недаром у Аркадия Георгиевича Горнфельда еще «в редакции “Русского богатства” было прозвище “хитрый А.Г.” за уклончивость суждений»[516].
Во-первых, навязывая Мандельштаму публичное выяснение отношений, Горнфельд отстаивал не только корпоративные, но и свои личные денежные интересы. Если в заметке «Переводческая стряпня» он специально подчеркнул, что «речь идет не о Горнфельде, которого не убудет от мелкого озорства» Мандельштама, то в частном письме (к Раисе Шейниной от 12 января 1929 года) высказался прямо противоположным образом. «С Мандельштамом я, очевидно, и судиться не буду: думаю, что сговорюсь мирно с “Землей и фабрикой”, – сообщал Горнфельд своей корреспондентке. – Несчастный, мне его озорство очень помогло: я продал “Уленшп<игеля>”, который весною выйдет; деньги буду получать понемногу, но все-таки это хорошее подспорье»[517]. Действительно, очередной перевод Горнфельда вышел в 1929 году. В последующие десятилетия и даже после смерти Аркадия Георгиевича в 1941 году «Тиль Уленшпигель» несколько раз издавался в его переводе.
Во-вторых, внимательное чтение «Переводческой стряпни» ясно показывает, что пером Горнфельда водило не столько намерение беспристрастного профессионала указать некоему младшему коллеге на допущенные оплошности, сколько азартное желание побольнее уязвить именно Мандельштама, которого в ранее отправленных письмах к Шейниной переводчик «Тиля» охарактеризовал как «свинтус<а>»[518] и «очень юмористическ<ую>» «фигурк<у>»[519]. Здесь самое время сообщить, что обидчивому Горнфельду, судя по всему, была известна мандельштамовская характеристика его некролога Велимиру Хлебникову, как «скудоумной высокомерной заметк<и>», данная поэтом в 1922 году в статье «Литературная Москва» (II: 257).
Только личной неприязнью Горнфельда к Мандельштаму, по-видимому, объясняется умолчание в заметке «Переводческая стряпня» о том, что не кто иной, как Мандельштам «первый известил ничего не подозревавшего Горнфельда» (IV: 101) о допущенной издательством ошибке. Упомяни об этом «хитрый Аркадий Георгиевич», и незадачливый редактор его перевода предстал бы перед читателями «Красной газеты» в куда более выгодном свете[520].
Стремление адресно уколоть Мандельштама без труда угадывается и в едком профессиональном упреке из заметки «Переводческая стряпня»: согласно Горнфельду, мандельштамовские поправки к его переводу были «явно продиктованы только необходимостью что-нибудь изменить». Это предположение, как мы далее убедимся, не подтверждается сверкой текстов неотредактированного и отредактированного перевода.
И уже совсем обнажаются подлинные намерения Горнфельда в следующем пассаже из его заметки: «Хочу ли я сказать, что из поправок нет ни одной приемлемой? Конечно, нет: Мандельштам опытный писатель. Но, когда, бродя по толчку, я вижу<,> хотя и в переделанном виде, пальто, вчера унесенное из моей прихожей, я вправе заявить: “А ведь пальто-то краденое”».
Эта одежно-воровская метафора (которая, как сообщил нам П.М. Нерлер, была вписана Горнфельдом в авторскую машинопись «Переводческой стряпни» – маститый критик не удержался!) полностью сводит на нет примирительное начало заметки, где удовлетворенно констатируется, что письмо Венедиктова в редакцию «Красной газеты» «вполне своевременно», поскольку «снимает с известного поэта возможное в таком случае обвинение в плагиате». Более того, в процитированном фрагменте горнфельдовской заметки вина за «кражу» перевода романа Шарля де Костера исподволь снимается с издательства и полностью переносится на Мандельштама. Возможно, употребить эту рискованную метафору Горнфельда спровоцировал следующий фрагмент сочувственного письма, которое он получил от А. Киппена: «Очень тепло вспоминает Пяст о своем друге Мандельштаме. Я спрашиваю очень громко и весело: что слышно насчет <перевода> “Мадам Бовари”?
– Ну что ж… “Мадам Бовари”… Эка штука! У Мандельштама были дела почище! Однажды он шубу унес из квартиры одного зубного врача!
– На цинке стоял кто-нибудь? Кто именно? – спрашиваю я деловым тоном.
– Не знаю, стоял ли, нет ли. Друзья поэта говорили тогда, что, может быть, самое существование этого зубного врача только тем и оправдывается, что его шуба пригодилась Мандельштаму!
Как видите, дорогой Аркадий Георгиевич, тут никак нельзя смутить ни Мандельштама, ни “друзей поэта”. Ах, мать его не замать! – как говорил еще Владимир Красное Солнышко»[521]. Возможно, впрочем, что не Горнфельд подхватил метафору Киппена, а Киппен – метафору Горнфельда.
Позднее, в неопубликованном открытом письме в «Вечернюю Москву», отправленном в декабре 1928 года, разозленный Горнфельд даже обвинение в воровстве посчитает слишком слабым и еще усугубит «уголовную» составляющую деятельности противника: «Обличенные в изнасиловании, боясь наказания, тоже обычно предлагают “достигнуть соглашение <так! – О. Л.> задним числом”, но далеко не всегда им это удается»[522].
Литературная позиция, занятая на начальном этапе «дела об Уленшпигеле» Осипом Мандельштамом, хотя и ядовито, но в целом верно изложена в том фрагменте заметки «Переводческая стряпня», где говорится, что автору «Камня» «ради высот его поэзии надлежит разрешить и низкую прозу».
Перевод действительно занимал едва ли не самое низкое место в иерархии художественных ценностей Мандельштама.
«О.Э. был врагом стихотворных переводов. Он при мне на Нащокинском <переулке> говорил Пастернаку: “Ваше полное собрание сочинений будет состоять из двенадцати томов переводов и одного тома ваших собственных стихов”. Мандельштам знал, что в переводах утекает творческая энергия, и заставить его переводить было почти невозможно[523].
В этическом же мандельштамовском кодексе, как мы помним, основополагающим было восходящее еще ко временам первого «Цеха поэтов» представление о «своем круге», то есть о достаточно широкой группе настоящих писателей, дружески сплоченных против агрессивного окружающего мира. «Нет равенства, нет соперничества, есть сообщничество сущих в заговоре против пустоты и небытия» («Утро акмеизма», I: 180). Характерный эпизод воссоздает в своих воспоминаниях о Мандельштаме Максимилиан Волошин: «…Я получил от одного поэта и издателя – Абрамова – несколько номеров художественного журнала “Творчество”. Он просил написать ему свое впечатление от журнала. Там была большая статья Осипа Эмильевича “Vulgata”. Вульгатой, как известно, называется латинский перевод Библии, сделанный св<ятым> Иеронимом и принятый в католической церкви. Я долго вчитывался в статью М<андельш>тама и не мог понять ее заглавия, как оно понималось ему, пока не прочел заключительных слов статьи: “Довольно нам Библии на латинском языке, дайте нам, наконец, Вульгату”. Он как филолог просто перевел заглавие, а как историк никогда не встречался с этим термином и не подозревал о том легком “искривлении” смысла, кот<орое> лежит в этом имени. Я написал Абрамову: “Нельзя Вам как редактору допускать такие вопиющие ошибки: нельзя, чтоб наши невежественные поэты помещали у Вас заглавием статьи такие имена, смысл которых им самим неясен. За это ответственны Вы как редактор”. Случилось, что с М<андельш>тамом я встретился только в 1924 г<оду> в Москве <…>. М<андельштам> встретил меня радостно <…>, но прибавил: “Но нельзя же, Максимилиан Александрович, так нарушать интересы корпорации. Ведь все-таки наши интересы – поэтов – равнодейственны, а редакторы – наши враги. Нельзя же было Абрамову выдавать меня в случае “Vulgata”. Ведь эти подробности только Вы знаете. А публика и не заметит”»[524].
Отвечая на упреки Горнфельда в открытом письме в «Вечернюю Москву», Мандельштам руководствовался чрезвычайно схожей логикой. Сначала поэт признает, что Горнфельд стоит «на целую голову выше большинства переводчиков» (IV: 103), а затем с горечью упрекает его в нарушении интересов «своего круга»: «Неужели он хотел, чтобы мы стояли, на радость мещан, как вцепившиеся друг другу в волосы торгаши?» (IV: 103).
Разумеется, Горнфельд, занявший в споре вокруг перевода «Тиля Уленшпигеля» принципиально иную позицию, не мог не спикировать на это место в мандельштамовском письме: «…Я себя торгашом не ощущаю – ведь не я продавал работу Мандельштама, а он мою, – и не вижу, почему он обзывает мещанами наших читателей – в том числе и читателей “Вечерней Москвы”, – которые вправе же знать, как поступают с ними некоторые книгоиздательства и некоторые редакторы»[525].
Взаимопонимание между критиком и поэтом становилось все менее достижимым еще и потому, что Мандельштам, как и Горнфельд, свою позицию излагал не вполне откровенно. Судя по всему, он отнюдь не считал Шарля де Костера «большим и своеобразным писателем». Но куда сильнее сковывало неудачливого обработчика «Легенды о Тиле Уленшпигеле» то обстоятельство, что перевод и редактура чужих переводов продолжали оставаться для него основным средством заработка. Пренебрежительно отозваться о ремесле переводчика означало для Мандельштама поставить себя перед потенциальными заказчиками в крайне двусмысленное и неловкое положение.
Поэтому мандельштамовское письмо в «Вечернюю Москву» полно плохо увязываемых друг с другом противоречий. Так, в одном месте Мандельштам откровенно признается, что главный закон переводческой гильдии почти ничего для него не значит, в сравнении с необходимостью держать солидарность между писателями «своего круга»: «<Н>еважно, плохо или хорошо исправил я старые переводы или создал новый текст по их канве. Неужели Горнфельд ни во что не ставит покой и нравственные силы писателя, приехавшего к нему за 2000 верст для объяснений?» (IV: 103)[526]. А в другом месте своего письма Мандельштам выступает как раз в роли опытного переводчика-ремесленника, стремясь отвоевать ту литературную площадку, которую занял его оппонент: «<П>озволю себе заговорить с Горнфельдом на несколько непривычном для него производственном языке: мой переводческий стаж – свыше 30 томов за 10 лет – дает мне на это право…» (IV: 102).
Переходя к важному и до сих пор всерьез не обсуждавшемуся вопросу о тактике и стратегии Осипа Мандельштама как редактора горнфельдовских страниц «Тиля Уленшпигеля», сразу же признаем, что сравнения перевода с французским оригиналом Мандельштам действительно не сделал[527]. В письме в «Вечернюю Москву» свою и издательства спешку он оправдывал тем, что «<п>едантическая сверка с подлинником отступает здесь на задний план перед несравненно более важной культурной задачей – чтобы каждая фраза звучала по-русски и в согласии с духом подлинника» (IV: 102). Дело было, впрочем, не только в спешке. Принцип «чтобы каждая фраза звучала по-русски и в согласии с духом», но отнюдь не с буквой подлинника исповедовался Мандельштамом – автором таких «культурологических» стихотворений-пересказов чужих текстов, как «Я не слыхал рассказов Оссиана…», «Аббат», «Я не увижу знаменитой “Федры”…» и многих других. «<В> этих двух строках больше “эллинства”, чем во всей “античной” поэзии многоученого Вячеслава Иванова» – так оценивал финал мандельштамовского стихотворения «Золотистого меда струя из бутылки текла…» К.В. Мочульский[528]. «Получается монтаж отрывков, дающий как бы синтетический образ диккенсовского мира» – так, разбирая стихотворение «Домби и сын», описывал метод работы Мандельштама с классикой М.Л. Гаспаров[529].
Однако то, что было позволительно поэту, отнюдь не составляло доблести переводчика и редактора.
Помня о том, что Мандельштам с оригинальным текстом романа Шарля де Костера дела не имел, попробуем теперь выявить мандельштамовские редакторские принципы, опираясь на стилистический анализ первой части исправленного им перевода Горнфельда в сопоставлении с самим этим переводом. Для удобства и наглядности распределим все выявленные поправки по нескольким тематическим блокам.
Большая группа поправок образовалась в результате работы Мандельштама с лексикой горнфельдовского перевода.
В ряде случаев редактор заменил нейтрально окрашенные слова на просторечные:
(Footnotes)
2 Здесь и далее тексты романа приводятся по изданию, отредактированному Мандельштамом, и по тому изданию, по которому он текст романа редактировал: Де-Костер Ш. Тиль Уленшпигель. / пер. с фр. О. Мандельштама. М.; Л.: ЗиФ, 1929; Де-Костер Ш. Избранные сочинения: В 2 т. Т.1. Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке (кн. 1–2). /пер., вступ. ст. и примеч. А. Горнфельда. Петроград: Всемирная литература, 1919.
3 Здесь и далее римской цифрой означается номер главки в переводе Горнфельда, откуда взят пример.
(В примере с «пеленами» – «пеленками» высокую и даже церковную лексику Горнфельда Мандельштам заменил на нейтральную.)
Иногда, компенсируя введение многочисленных просторечий в текст, Мандельштам, наоборот, архаизировал лексику перевода:
Вот выразительный пример, демонстрирующий, как равноценный стилистический размен был осуществлен обработчиком в пределах одной фразы редактируемого перевода: сначала Мандельштам заменил нейтральное слово («рукой») на просторечное («пятерней»), а затем – просторечие («мордочке») на книжное слово («личико»):
Не так часты, как можно было бы ожидать, случаи, когда Мандельштам подправлял перевод за счет введения в текст нового, казавшегося ему более удачным тропа – метафоры, сравнения или уточняющего эпитета:
Частным случаем подобного рода исправлений следует, вероятно, считать лексические поправки, спровоцированные стремлением Мандельштама устранить из перевода ненужную жеманность, заменив иносказание прямой, пусть и грубоватой номинацией:
Вторая большая группа мандельштамовских поправок отразила его работу с синтаксисом горнфельдовского перевода.
Очень часто (мы приведем только несколько примеров из множества выявленных случаев) Мандельштам сокращал и упрощал излишне громоздкую, на его взгляд, фразу перевода:
Нередко Мандельштам менял порядок слов во фразе, добиваясь более естественного и менее вычурного ее звучания:
Стремясь упростить синтаксис горнфельдовского перевода, Мандельштам, где только это было можно, очищал текст от конструкций с придаточными предложениями:
Случалось, что Мандельштам разбивал длинное сложноподчиненное предложение перевод на несколько простых:
Стремясь сохранить и передать национальный колорит «Легенды о Тиле Уленшпигеле», Горнфельд многие иноязычные слова оставлял без перевода, рассчитывая на проясняющий контекст. Мандельштам, редактировавший роман для так называемого «широкого читателя», встречавшиеся фламандские слова или переводил[530], или совсем сокращал. Кроме того, в целом ряде случаев он бестрепетно пожертвовал бережно сохраненными переводчиком подробностями фламандского быта, которыми щедро насыщено произведение Шарля де Костера:
Самый радикальный способ купирования текста «Легенды о Тиле Уленшпигеле», к которому прибегал Мандельштам, поставленный перед необходимостью значительно сократить перевод Горнфельда, заключался в элиминировании не только множества частных подробностей, как в следующем примере (и многих, ему подобных):
но и целых побочных сюжетных линий и, соответственно, главок.
Так, редактируя первую часть романа, Мандельштам полностью сократил XLI, LX, LXIV и LXXIX главки горнфельдовского перевода.
Вслед за Горнфельдом следует отметить, что «<н>и “Земля и Фабрика”, ни О. Мандельштам не предуведомили читателя, что он, приобретая новое издание “Уленшпигеля”, получит перевод, не только составленный из двух разных переводов, но и сокращенный на одну пятую» («Переводческая стряпня»).
Особую и обширную группу поправок составляют мандельштамовские исправления и сокращения тех фрагментов романа Шарля де Костера, которые в конце 1920-х годов звучали идеологически сомнительно. Так, Мандельштам, редактируя текст, последовательно подбирает синонимы для характеристики «обыватели», часто встречающейся в переводе Горнфельда и приобретшей в советское время «оскорбительный» оттенок (ср., например, в процитированном в начале этой статьи письме Пастернака к Цветаевой от 30 мая 1929 года: «На его и его жены взгляд, я – обыватель»):
Нещадной редактуре Мандельштам подвергнул многие эпизоды романа, так или иначе связанные с религиозной жизнью и религиозными чувствами персонажей:
В некоторых случаях Мандельштам сознательно искажал семантику высказывания персонажа, заменяя «веру» на «свободу»:
Главный вывод, напрашивающийся из сопоставительного анализа горнфельдовского перевода с мандельштамовской перелицовкой, следующий: как бы мы сегодня ни оценивали проделанную Мандельштамом работу, назвать ее откровенной халтурой нельзя. Густая правка, которой в процессе переделки подвергся горнфельдовский текст, была спровоцирована необходимостью решать вполне конкретные редакторские задачи. Две самые очевидные среди них – это тотальное упрощение и сокращение «слишком грузн<ого> текст<а>» Горнфельда (определение самого Мандельштама, IV: 103) с целью сделать его максимально доступным для восприятия «широкого читателя». А также идеологическое причесывание текста, вымарывание из него фрагментов, «несозвучных» советской эпохе. Можно сказать, что в данном случае поэт действовал как типичный советский редактор переводов – он стремился к упрощению синтаксиса и усложнению лексики.
«Наша эпоха вправе не только читать по-своему, – утверждал Мандельштам, – но лепить, переделывать, творчески переиначивать, подчеркивать, что ей кажется главным <…>. К целым историческим мирам наш читатель может быть приобщен не иначе, как через обработку, устраняющую длинноты, дающую книге приемлемый для него ритм» (II: 514).
Тем временем переводчик Карякин обратился с истерическим заявлением в правление Всероссийского Союза писателей. В частности, он сообщил, что собирается «искать защиты своих пострадавших интересов перед советским судом»[531] (реакция А.Г. Горнфельда, которому это заявление переслали: «…Я, ни в коей мере не отказываясь от ответственности за мои слова и действия, все же просил бы правление разъяснить В.Н. Карякину, что суждения и оценки, высказанные писателем о чужом произведении, могут быть предметом литературного спора и возражений, но не судебного разбирательства – кроме, конечно, случаев, когда писатель обвинен в явной недобросовестности таких суждений»)[532]. Карякин все же подал в суд. В июне 1929 года в иске по делу о «Тиле Уленшпигеле» ему было отказано.
Поведение Осипа Мандельштама в этой непростой ситуации, на первый взгляд, поражает своей парадоксальностью. Вместо того чтобы смириться с обстоятельствами, покаяться и спрятать голову в песок, поэт перешел в активное наступление на всех фронтах, всячески подчеркивая свое отщепенство, свою несовместимость с большинством окружающих его людей. Характерный пример из мемуаров Эммы Герштейн, впервые увидевшей Мандельштамов в подмосковном санатории «Узкое» 29 октября 1928 года: «Вставая из-за стола, отдыхающие стали обсуждать программу вечерних развлечений. Спросили “профессора” <Мандельштама>, не прочтет ли он что-нибудь. Тот ядовито обратился к человеку с круглыми покатыми плечами, но в форме летчика: “А если я попрошу вас сейчас полетать, как вы к этому отнесетесь?” Все были ошарашены. Тут он стал раздраженно объяснять, что стихи существуют не для развлечения, что писать и даже читать стихи для него – такая же работа, как для его собеседника – управлять аэропланом. Общее настроение было испорчено»[533].
Еще пример: в декабре 1928 года молодой литератор Игорь Поступальский в узком кругу сделал наивный доклад, в котором доказывал, что Мандельштам – поэт «преимущественно буржуазный, что поэзия его имеет музейный характер». В ответ герой доклада поинтересовался у Поступальского: «…Я не понимаю, почему вы прошли мимо еврейской темы в моих стихах – она ведь немаловажна»[534]. Долгие годы страшившийся и бежавший «хаоса иудейского» поэт теперь сознательно провозглашал свою принадлежность к этому «хаосу».
«Я один. Ich bin arm <Я беден (нем.)>. Все непоправимо. Разрыв – богатство. Надо его сохранить. Не расплескать», – писал Мандельштам жене в марте 1930 года (IV: 136) (знаменитая строка пастернаковского «Гамлета»: «Я один, все тонет в фарисействе» прозвучит только через шестнадцать лет; пока же будущий автор «Доктора Живаго» был настроен на доброжелательный диалог с советской современностью). Дело о «Тиле Уленшпигеле» Осип Эмильевич в письме к Надежде Яковлевне от 24 февраля 1930 года многозначительно назвал «делом Дрейфуса» (IV: 134).
Впрочем, аналогия с делом Дрейфуса несет не столь простой «национальный» оттенок, как может показаться на первый взгляд. Шпион, работавший во французском Генеральном штабе, стремился обратить ярость общества и государства не на порядки в учреждении, которое ложно обвинило невиновного Дрейфуса – в этом случае в приступе бдительности могли бы найти и настоящего виновника, – а на самого облыжно обвиненного. И это шпиону удалось. Горнфельд, как мы видели, повел себя сходным образом: он всячески уклонялся от спора с издательством, предпочитая действовать не против инстанции, а против персоны – Мандельштама. Карякин вступил на путь судебной борьбы – и потерпел поражение. Горнфельд же хотел у любого отбить охоту связываться с ним и добился своего.
В свою очередь, Мандельштам сначала надеялся воспользоваться историей с «Уленшпигелем» для перестройки переводческого дела в целом и в своей утопической борьбе наивно рассчитывал найти союзника в короленковце-Горнфельде. Горнфельд же смотрел на происходящее в стране вполне практически: не ожидая ничего хорошего и отнюдь не желая становиться новым Владимиром Галактионовичем, старый переводчик настойчиво и безжалостно, но в то же время осторожно защищал свой конкретный интерес – чтобы никто больше не смел покушаться на его «шубу».
Мандельштамовские утопические планы могли питаться еще и тем, что поэт принимал снисходительность и сочувствие некоторых партийных функционеров, а также видных писателей за поддержку в его отчаянной борьбе. В таких обстоятельствах, когда его «поддерживали», а значит, на него как на борца за переустройство переводческого, а может быть, и всего литературного дела рассчитывали и надеялись, уйти в кусты не только не соответствовало мандельштамовскому характеру, но и казалось недопустимым по этическим, «высоким» причинам. Ведь борьба за настоящую, подлинную литературу всегда привлекала Мандельштама. Это досталось ему в наследство от Гумилева и, если угодно, от всей русской словесности ХIХ века. В своей статье «Слово и культура» 1921 года поэт писал: «Князья держали монастыри для совета…» (I: 213) – вот он, девиз мандельштамовской утопии.
С конца декабря 1928 года по март 1929-го Мандельштамы гостили в Киеве. Здесь, в Доме врача, в январе 1929 года состоялся официальный авторский вечер поэта, а чуть позже – полуофициальное мандельштамовское выступление в киевском университете перед студентами[535]. Исаак Бабель пристроил Мандельштама на местную киностудию, что дало ему возможность подзаработать, отрецензировав несколько фильмов. В Киеве Надежде Яковлевне вырезали аппендикс – операцию проводила хирург Вера Гедройц, которая, как и Мандельштам, в свое время усердно посещала «Цех поэтов». «Мне приходилось очень круто, – рассказывал Мандельштам в письме к отцу, отправленном в середине февраля. – Денег почти не было. Родители Нади – люди совсем беспомощные и нищие. В квартире у них холод, запущенность. Связей никаких. Мать – очень плохая хозяйка. Каждая чашка бульона, которую я таскал в больницу, давалась мне с бою. У меня был постоянный пропуск в клинику, и так как я получил отдельную палату, то проводил там целые дни и даже ночевал, заменяя сестру и санитара. Самое трудное было подготовить Надино возвращение домой, вытопить печи, согреть комнаты, раздобыть на хозяйство, на прислугу» (IV: 111). Для контраста процитируем небольшой фрагмент из воспоминаний И. Одоевцевой, описывающих 1920 год: «Мандельштам выскакивал в коридор и начинал стучать во все двери: “Помогите, помогите! Я не умею затопить печку. Я не кочегар, не истопник. Помогите!”»[536] Приведем также реплику о Мандельштаме Анны Ахматовой, зафиксированную Лидией Гинзбург: «…Он всю жизнь был такой беспомощный, что все равно ничего не умел делать руками»[537].
В Москву поэт вернулся в начале апреля 1929 года и сразу же ринулся в бой: 7 апреля «Известия» опубликовали большую статью Мандельштама «Потоки халтуры», направленную против порочной переводческой практики. Среди предложенных автором «Потоков халтуры» мер: созыв «всесоюзного совещания по вопросам иностранной литературы» и создание «Института иностранной литературы с постоянным факультетом по теории и практике перевода». Кислая реакция братьев-писателей: «Осип Мандельштам пишет pro domo mea <в свою защиту (лат.)>, не вспоминая, однако, истории с романом де Костера» (из письма Р.В. Иванова-Разумника к А.Г. Горнфельду)[538].
В тот день, когда в Москве были опубликованы «Потоки халтуры», в Ленинграде состоялось первое заседание третейского суда по «делу о Майн Риде»: новый руководитель ЗИФ’а Илья Ионов обвинил Мандельштама и Бенедикта Лившица в том, что при переводе романов Майн Рида они пользовались не английскими оригиналами, а французскими переводными изданиями. Мандельштам и Лившиц отстаивали свою правоту. Спустя несколько месяцев, 30 сентября 1929 года, Ленинградское отделение Всероссийского союза поэтов постановит считать Мандельштама выбывшим из своих рядов «ввиду продолжающейся неуплаты членских взносов», «а также ввиду переезда на постоянное жительство в Москву»[539].
Апофеозом антимандельштамовской кампании стало опубликование в «Литературной газете» от 7 мая 1929 года фельетона «О скромном плагиате и развязной халтуре». Автором этого фельетона был уже упоминавшийся нами партийный публицист Давид Заславский, о котором даже пристрастный Горнфельд писал, что «он теперь каналья хуже Мандельштама»[540].
В первой части фельетона в «Литературной газете» излагалась история мелкого киевского литератора, получившего за украденный у другого писателя рассказ премию 150 рублей. Во второй части Мандельштам – автор «Потоков халтуры» судил Мандельштама – редактора «Легенды о Тиле»: «Возьмем его за шиворот, этого отравителя литературных колодцев, загрязнителя общественных уборных, и представим его самому Мандельштаму на суд и расправу. И что с ним сделает О. Мандельштам – это и представить себе трудно!»[541]
В номере «Литературной газеты» от 13 мая было помещено письмо в редакцию самого Мандельштама, а также петиция в его защиту пятнадцати известных советских писателей (К. Зелинский, Вс. Иванов, Н. Адуев, Б. Пильняк, М. Козаков, И. Сельвинский, А. Фадеев, Б. Пастернак, В. Катаев, К. Федин, Ю. Олеша, М. Зощенко, Л. Леонов, Л. Авербах, Э. Багрицкий): «Заславский рядом возмутительных приемов пытается набросить тень на доброе имя писателя»[542]. Заславский ответил новым «Письмом в редакцию», напечатанным в «Литературной газете» от 20 мая. Одновременно дело было передано в конфликтную комиссию ФОСП (Федерация объединений советских писателей), которая в декабре 1929 года признала ошибочность публикации фельетона Заславского и одновременно моральную ответственность Мандельштама. В выработке этого решения принимал участие Борис Пастернак, писавший Н. Тихонову: «Мандельштам превратится для меня в совершенную загадку, если не почерпнет ничего высокого из того, что с ним стряслось в последнее время»[543]. Мандельштам, однако, отказался переживать происходящее с ним как «высокую болезнь» – он был взбешен решением ФОСП’а. «…Сам он удивителен, – отчитывался Пастернак в письме к Цветаевой от 30 мая 1929 года. – Правда, надо войти в его положенье, но его уверенности в своей правоте я завидую. Вру – смотрю как на нежданно-чужое. Объективно он не сделал ничего такого, что бы хоть отдаленно оправдывало удары, ему наносимые. А между тем он сам их растит и множит отсутствием всего того, что бы его спасло и к чему я в нем все время взываю. На его и его жены взгляд, я – обыватель, и мы почти что поссорились после одного разговора»[544]. Не этот ли разговор стал первопричиной внутреннего отхода Пастернака от Мандельштама? Отхода настолько бесповоротного, что в начале 1930-х годов Осипа Эмильевича не позвали на день рождения к соседу-Пастернаку (вспомним свидетельство С. Липкина), а в телефонном разговоре со Сталиным 13 июня 1934 года Борис Леонидович не смог решительно ответить «Да!» на вопрос вождя: «Но ведь Мандельштам – ваш друг?»
5 июля 1929 года Заславский напечатал в «Правде» еще один клеветнический фельетон против Мандельштама «Жучки и негры», где издевательски изображалась эксплуатация одними писателями («жучками») других («негров»). Впрочем, в этом фельетоне Заславский, напуганный заступничеством писателей за Мандельштама, его имени даже не называет. Однако в личных письмах, которыми он засыпал Горнфельда, критик подобной «скромности» не проявлял. «У меня такое впечатление, – делился он с Горнфельдом своими “догадками” в письме от 13 мая 1929 года, – что не издательство “ЗИФ” – главный виновник в обмане, а сам же Мандельштам, который, вероятно, надувал издательство и выдавал свою “работу” за перевод или за обработку оригинального перевода с подлинника»[545].
За несколько недель до опубликования фельетона «Жучки и негры», 18 июня, с Мандельштамами увиделся П.Н. Лукницкий, который записал в своем дневнике: «О.Э. – в ужасном состоянии, ненавидит всех окружающих, озлоблен страшно, без копейки денег и без всякой возможности их достать, голодает в буквальном смысле этого слова. Он живет (отдельно от Н.Я.) в общежитии ЦЕКУБУ, денег не платит, за ним долг растет, не сегодня-завтра его выселят. Оброс щетиной бороды, нервен, вспыльчив и раздражен. Говорить ни о чем, кроме всей этой истории, не может. Считает всех писателей врагами. Утверждает, что навсегда ушел из литературы, не напишет больше ни одной строки, разорвал все уже заключенные договора с издательствами. Говорит, что Бухарин устраивает его куда-то секретарем, но что устроиться все-таки, вероятно, не удастся. Хочет уехать в Эривань, куда тоже его обещали устроить на какую-то “гражданскую” должность»[546].
Поездку в Ереван Мандельштаму пытался организовать все тот же Бухарин, 14 июня 1929 года писавший председателю армянского Совнаркома: «Дорогой тов. Тер-Габриэлян! Один из наших крупных поэтов, О. Мандельштам, хотел бы в Армении получить работу культурного свойства (например, по истории армянского искусства, литературы в частности, или что-либо в этом роде). Он очень образованный человек и мог бы принести вам большую пользу. Его нужно только оставить на некоторое время в покое и дать ему поработать. Об Армении он написал бы работу. Готов учиться армянскому языку и т. д. Пожалуйста, ответьте телеграфом на ваше представительство. Ваш Бухарин»[547]. Вскоре из Еревана пришел положительный ответ, подписанный наркомом просвещения и зампредсовнаркома Армянской ССР А.А. Мравьяном. Однако после внезапной смерти Мравьяна 23 ноября 1929 года поездка была отложена на неопределенное время.
Летом 1929 года, вместе с Надеждой Яковлевной, Мандельштам съездил в Ялту. Вернувшись в столицу в конце августа, он поступил на службу в газету «Московский комсомолец», где вел еженедельную «Литературную страницу» и заведовал отделом поэзии.
В «Московском комсомольце» Мандельштам проработал четыре месяца. «В редакции к Мандельштаму отнеслись доверчиво и дружелюбно <…>. У него просили, чтобы он снабжал редакцию и ее сотрудников “культурой”»[548]. Регулярная служба потребовала от поэта предельной концентрации и самодисциплины – молодым сотрудникам и посетителям «Московского комсомольца» запомнились его сдержанность и корректность: «Внешне он выглядел спокойным. Нам казалось, что он даже несколько высокомерен – голову держал высоко!» (З. Полякова)[549]; «Никакого величия, позы, тихий ровный голос, ординарная внешность провинциального учителя, умное лицо без улыбки, скорбные глаза» (Н. Кочин)[550]; «…Перед моим мысленным взором О.Э. Мандельштам и сейчас стоит как живой, с приветливой улыбкой на розовом лице, чистый, элегантный, излучающий глазами внимание и доброту» (А. Глухов-Щуринский)[551].
Диссонансом – в сравнении с остальными свидетельствами – звучит устное воспоминание Александра Твардовского, принесшего однажды свои стихи в литературный отдел «Московского комсомольца»: «Раздраженный человечек на тонких ножках, как кузнечик, что-то возбужденно кричал мне, и я тихо ушел со своими стихами»[552].
Днем «спокойный» Мандельштам заведовал отделом в «Московском комсомольце»; ночью неистовый Мандельштам диктовал жене свою «Четвертую прозу», где комсомолу в целом и службе в комсомольской газете в частности были посвящены такие строки: «Мальчик, в козловых сапожках, в плисовой поддевочке, напомаженный, с зачесанными височками, стоит в окружении мамушек, бабушек, нянюшек, а рядом с ним стоит поваренок или кучеренок – мальчишка из дворни. И вся эта свора сюсюкающих, улюлюкающих и пришепетывающих архангелов наседает на барчука:
– Вдарь, Васенька, вдарь!
Сейчас Васенька вдарит – и старые девы, гнусные жабы, подталкивают барчука и придерживают паршивого кучеренка:
– Вдарь, Васенька, вдарь, а мы пока чернявого придержим, а мы покуда вокруг попляшем.
Что это? Жанровая картинка по Венецианову? Этюд крепостного живописца?
Нет. Это тренировка вихрастого малютки комсомола под руководством агитмамушек, бабушек, нянюшек, чтобы он, Васенька, топнул, чтобы он, Васенька, вдарил, а мы покуда чернявого придержим, а мы покуда вокруг попляшем…
– Вдарь, Васенька, вдарь!» (III: 168–169).
«Четвертая проза» писалась в конце 1929 – начале 1930 годов. Кроме службы в «Московском комсомольце» материалом для нее послужило прошлогоднее дело шестерых членов правления «Общества взаимного кредита» и, разумеется, злополучная история с переводом «Легенды о Тиле Уленшпигеле». «У меня нет рукописей, нет записных книжек, нет архива, – самозабвенно открещивался от писательского звания Мандельштам. – У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голоса, а кругом густопсовая сволочь пишет. Какой я, к черту, писатель! Пошли вон, дураки!» (III: 171).
Между прочим, реминисценция из гоголевской «Женитьбы» здесь, вероятно, восходит к следующему фрагменту из уже упоминавшегося нами клеветнического фельетона Д. Заславского «Жучки и негры», направленного против Мандельштама: «Профсоюзной организации работников печати надлежало бы взяться за радикальную чистку переводческих трущоб. Но профсоюз поступил уж чересчур радикально: он попросту выбросил всех переводчиков, всех негров из профсоюзных рядов. Жучки остались, а негры изгнаны. Это значит действовать по упрощенному методу почтенной Агафьи Тихоновны, которая, не умея разобраться в женихах, всем им сказала: “Пошли вон!”»[553] Еще одна цитата из Гоголя возникает в финале «Четвертой прозы»: «Вий читает телефонную книгу на Красной площади. Поднимите мне веки. Дайте Цека…» (III: 179).
«Он ненавидел письменный стол. Он небрежно обращался с ненужными ему книгами: перегибал, рвал, употреблял, как говорится, “на обертку селедок”. На домашнем языке это называлось “растоптать Москву”», – вспоминала Э.Г. Герштейн[554]. А былой мандельштамовский яростный оппонент А.Г. Горнфельд, поверив прокатившимся по литературной столице слухам, 30 марта испуганно писал А.Б. Дерману: «Несчастный О. М. попросту свихнулся и сидит в доме умалишенных… Очень жаль поэта, но я в этом не виноват: Вы засвидетельствуете это, когда меня будут винить в том, что я затравил М<андельштама>, как Буренин – Надсона»[555].
На страницы «Четвертой прозы», кажется, впервые в творчестве Мандельштама легла зловещая тень И.В. Сталина. В пятой главке о детях советских писателей с негодованием говорится, что «отцы их запроданы рябому черту на три поколения вперед» (III: 171). Как известно, Сталин стал рябым после перенесенной оспы, «Рябым» звали его товарищи по революционному подполью.
Но этот намек на Сталина, весьма опосредованный, непрямой. Однако, как мы все теперь знаем, было и прямое упоминание. В одном из прижизненных списков «Четвертой прозы» шестая главка заканчивалась так: «Кто же, братишки, по-вашему, больше филолог: Сталин, который проводит генеральную линию, большевики, которые друг друга мучают из-за каждой буквочки, заставляют отрекаться до десятых петухов, или Митька Благой с веревкой? По-моему – Сталин. По-моему – Ленин. Я люблю их язык. Он мой язык»[556]. При жизни Надежды Яковлевны и двадцать лет после ее смерти этот фрагмент не обнародовался. Неизвестно, входил ли он в устный текст, когда Надежда Яковлевна зачитывала по просьбе поэта заученную ею наизусть «Четвертую прозу» немногим доверенным слушателям? Во всяком случае, уже здесь при первом появлении имени образ амбивалентно двоится: «запроданы рябому черту» – негативно, но предположительно, косвенно, эвфемистически, а «филолог Сталин» – одобрительно и прямо.
В финальной, шестнадцатой главке мандельштамовского произведения изображается, как «ночью по Ильинке ходят анекдоты. Ленин и Троцкий ходят в обнимку, как ни в чем не бывало. У одного ведрышко и константинопольская удочка в руке» (III: 179). В подтексте процитированного фрагмента – не только идиома «сматывать удочки», намекающая на выдворение Л.Д. Троцкого из Советского Союза в Турцию 1 февраля 1929 года, но и вполне конкретный анекдот. Этот анекдот процитирован в книге корреспондента UPI в СССР Евгения Лайонса, вышедшей в Нью-Йорке в 1935 году. Вот он в русском переводе: «Троцкий, находясь в изгнании, в Турции, ловил рыбу. Мальчик, продававший газеты, решил над ним подшутить:
– Сенсация! Сталин умер!
Но Троцкий и бровью не повел:
– Молодой человек, – сказал он разносчику, – это не может быть правдой. Если бы Сталин умер, я уже был бы в Москве.
На следующий день мальчик снова решил попробовать. На этот раз он закричал:
– Сенсация! Ленин жив!
Но Троцкий не попался и на эту уловку.
– Если бы Ленин был жив, он бы сейчас был здесь, рядом со мной»[557].
В феврале 1930 года комиссия по проверке состава редакции «Московского комсомольца» дала сотруднику Мандельштаму следующую характеристику: «Можно использовать как специалиста, но под руководством». В знак протеста поэт ушел из газеты. Некоторое время он вел рабкоровский кружок в редакции «Вечерней Москвы». Но возвратить Мандельштама к полноценному существованию могло только чудо – в затхлой атмосфере московского и ленинградского писательского быта о воскрешении поэта нечего было и мечтать. И чудо свершилось: через председателя Совнаркома В.М. Молотова и члена президиума Коминтерна С.И. Гусева Николаю Ивановичу Бухарину все же удалось пробить для Мандельштама поездку по Закавказью. В марте Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна покинули опостылевший флигель «Дома Герцена», где они жили с января 1930 года, и отправились в долгожданное путешествие.
С конца марта по май Мандельштамы отдыхали на правительственной даче в Сухуме, откуда они ездили на экскурсии в Новый Афон, Гудауту и Ткварчели. «Сухум легко обозрим с так называемой горы Чернявского, с площадки Орджоникидзе. Он весь линейный, плоский и всасывает в себя под <шум волн, напоминающий> траурный марш Шопена большую дуговину моря, раздышавшись своей курортно-колониальной грудью» (Из мандельштамовского «Путешествия в Армению») (III: 195).
В Сухуме 14 апреля 1930 года Мандельштама застала «океаническая весть о смерти Маяковского. Как водяная гора жгутами бьет позвоночник, <эта весть> стеснила дыхание и оставила соленый вкус во рту» (из набросков к «Путешествию в Армению») (III: 381).
Оба стихотворца вступили в большую литературу (Мандельштам – чуть раньше, Маяковский – чуть позже) в эпоху, когда «явно обозначился кризис символизма и начинающие поэты уже не примыкали к этому течению. Одни шли в футуризм, другие – в акмеизм» (Ахматова)[558]. Соответственно, Маяковский очень быстро начинает восприниматься читающей публикой как футурист № 2 – менее радикальный и склонный к теоретизированию, чем Хлебников, но едва ли не столь же талантливый. А Мандельштам – далеко не так быстро – как акмеист № 2, чье место располагается вслед за Гумилевым и рядом с Ахматовой.
«Молчаливая борьба Хлебникова и Гумилева»[559] превратила этих двух поэтов в сознании читателя в полярные фигуры. Критика, с легкой руки Корнея Чуковского, главным литературным антиподом Маяковского избрала Анну Ахматову. Но и Мандельштам тоже не был забыт, свидетельством чего может послужить, например, позднейший «Конспект речи о Мандельштаме» (1933) Б.М. Эйхенбаума, один из тезисов которого: «Мандельштам и Пастернак – этим соотношением заменилось прежнее: Маяковский – Есенин»[560] – в финале подкрепляется следующим выводом: «Мандельштам, конечно, возрождение акмеистической линии, обогнувшей футуризм»[561]. «Когда Маяковский в начале десятых годов приехал в Петербург, – со слов своего мужа вспоминала Надежда Яковлевна, – он подружился с Мандельштамом, но их быстро растащили в разные стороны»[562]. Говорящая деталь: обратившись однажды к Надежде Яковлевне, Маяковский, должно быть, по старой привычке, назвал Мандельштама Осей.
В своих суждениях о Мандельштаме Владимир Владимирович последователен не был. А.Б. Гатову запомнилась характеристика «хороший поэт»[563], а в мемуарах Алексея Крученых приводится такое ироническое высказывание Маяковского, относящееся к 1929 году: «Ж<аров> – наиболее печальное явление в современной поэзии. Он даже хуже, чем О. Мандельштам»[564]. Во время «дела об “Уленшпигеле”» Маяковский занял «антимандельштамовскую» позицию.
Мандельштамовские суждения о Маяковском тоже не были лишены скепсиса, при том что Мандельштам всегда отдавал должное таланту автора «Облака в штанах». «…Совершенно напрасно Маяковский обедняет самого себя, – отмечал он, например, в заметке «Литературная Москва» (1922). – Ему грозит опасность стать поэтессой, что уже наполовину совершилось» (II: 259). Колкая шутка Мандельштама о Маяковском-поэтессе была замечена и превращена в бумеранг желчным Федором Сологубом, который говорил В. Смиренскому в 1925 году: «…Мандельштам и Маяковский – не поэты, а поэтессы»[565].
Хотя мандельштамовскому спору с переводчиками «Легенды о Тиле» в 1929 году предшествовала полемика с А.Г. Горнфельдом, развернутая Г.О. Винокуром на страницах журнала Маяковского «ЛЕФ» (отмечено Б.М. Гаспаровым)[566], имя Маяковского, как мы помним, отсутствует в списке заступников Мандельштама от Горнфельда и Заславского, опубликованном «Литературной газетой». Более того, в так называемом «деле об Уленшпигеле» Маяковский, судя по письму Горнфельда к Р.М. Шейниной от 27 мая 1929 года, однозначно встал на сторону мандельштамовских обидчиков: «По делу Засл<авского> – Манд<ельштама> я бы мог тебе написать еще целую книжку, но расскажу лично. Должен был состояться суд в Конфликтной комиссии (вы об этом читали), и Абр<ам> Бор<исович> <Дерман> был там в качестве моего представителя, но Манд<ельштам> струсил, взял свою жалобу против Засл<авского> обратно и добился от правления Союза писателей предписания конфл<иктной> комиссии дела не разбирать. Комиссия, однако, протестует и хочет разбирать дело в июне – когда Абр<ам> Бор<исович> приедет из Полтавы. Из членов комиссии особенно ругал Мандельштама Маяковский – едва ли по принципиальным, верно, по личным мотивам»[567].
Тем не менее Мандельштам, никогда не поддававшийся соблазну мелкого мщения, в 1930-е годы восторженно отзывался о стихах уже погибшего Маяковского. Современнице (Н. Соколовой) запомнилась поистине гиперболическая оценка: «Маяковский – гигант, мы недостойны даже целовать его колени»[568]. Другие мемуаристы приводят такую формулу: «Маяковский – точильный камень нашей поэзии»[569].
Когда Мандельштам уехал на Кавказ и, соответственно, исчез с горизонта столичных писателей, они начали распространять слухи о том, что автор «Tristia» добровольно разделил судьбу Маяковского. Из дневника К.И. Чуковского от 22 апреля 1930 года: «В ГИЗе упорно говорили, что покончил с собой Осип Мандельштам»[570].
В мае – июне 1930 года Мандельштамы жили в Тифлисе, затем переехали в Ереван. «Был он худощав и невысок ростом, голова откинута назад, черты лица крупные, выразительные, в глазах – беспокойство, и весь он какой-то напряженный, тревожный, нервный» – так описывал облик Мандельштама мимоходом увидевший поэта в столице Армении Г. Маари[571].
В ереванской тюркской чайхане Мандельштам познакомился с молодым биологом Борисом Сергеевичем Кузиным (1903–1973).
«Он был не дарвинистом, а ламаркистом <…>. Он стрижется под машинку, “под ноль” <…>, носит крахмальный воротничок, он длиннорук, похож на обезьяну, у него чисто московский говор, усвоенный не из литературы, а от няньки <…>. Знал иностранные языки, постоянно перечитывал по-немецки Гёте <…>…служил в Зоологическом музее университета»[572]. Так со слов Мандельштама писала о Кузине Эмма Герштейн.
«Отношения близкой дружбы у нас установились даже не быстро, а словно мгновенно, – вспоминал Кузин. – Я был тотчас же втянут во все их планы и злосчастья. И с первого до последнего дня нашего общения каждая наша встреча состояла из смеси разговоров на самые высокие темы, обсуждения способов выхода из безвыходных положений, принятия невыполнимых (а если выполнимых, то невыполняемых) решений и шуток и хохота даже при самых мрачных обстоятельствах»[573]. «…Встреча была судьбой для всех троих. Без нее – Ося часто говорил, – может, и стихов бы не было», – писала Надежда Яковлевна Борису Сергеевичу уже после смерти Мандельштама[574]. А сам поэт следующим образом охарактеризовал Кузина в письме к Мариэтте Шагинян: «Ему, и только ему, я обязан тем, что внес в литературу период т<ак> н<азываемого> “зрелого Мандельштама”» (IV: 159). Об этом же свидетельствуют строки мандельштамовского стихотворения «К немецкой речи» (1932): «Когда я спал без облика и склада, / Я дружбой был, как выстрелом, разбужен».
С 1 по 15 июля 1930 года Мандельштамы отдыхали на озере Севан, в первом в Армении профсоюзном доме отдыха. Из воспоминаний Анаиды Худавердян: «Так как он очень трудно переносил ереванскую жару и духоту, ему предложили отдых на острове Севан, и так Мандельштамы очутились в этом доме отдыха. Супруги Мандельштамы не имели детей, но очень любили и жаждали иметь их. Жена поэта мечтала о сыне <…>. Когда Осип Мандельштам садился за стол работать, она осторожно на цыпочках выходила, прикрывая за собой дверь, манила к себе играющих под окном детей, уводила их подальше, чтобы они “не мешали дяде писать стихи”»[575].
Последняя процитированная нами фраза как будто позволяет предположить, что именно на Севане к Мандельштаму после пятилетнего перерыва вернулись стихи. Скорее всего, однако, это произошло чуть позже. Во всяком случае, Кузину, вернувшись в Ереван, Осип Эмильевич никаких новых стихов не читал. «Последние дни в Эривани прошли в бесконечных разговорах и планах на будущее, – вспоминал Борис Сергеевич. – Ехать в Москву добиваться чего-то нового, какого-то устройства там или оставаться в Армении? Трудно сосчитать, сколько раз решение этого вопроса изменялось. Но ко дню моего отъезда было решено окончательно. Возможно только одно: остаться здесь. Только в обстановке древнейшей армянской культуры, через врастание в жизнь, в историю, в искусство Армении (имелось, конечно, в виду и полное овладение армянским языком) может наступить конец творческой летаргии. Возвращение в Москву исключено абсолютно»[576].
Этот фрагмент из воспоминаний Кузина многое объясняет и предсказывает в «зрелом Мандельштаме», хотя поэт и его жена в итоге в Армении не остались («В год тридцать первый от рожденья века / Я возвратился, нет – читай: насильно / Был возвращен в буддийскую Москву. / А перед тем я все-таки увидел / Библейской скатертью богатый Арарат / И двести дней провел в стране субботней, / Которую Арменией зовут» – из мандельштамовского стихотворения 1931 года).
Приход к новым стихам стал возможен только благодаря выходу из писательского мира и отказу от прежних, «литературных» интересов. Равно как и дружба с Кузиным была важна как дружба с человеком, сознательно и ревниво оберегавшим себя «от вступления на “литературное поприще”» (собственная кузинская аттестация)[577]. В порыве отречения от «литературных интересов» Мандельштам был чуть ли не готов отказаться от русского языка во имя армянского (в посвященном Кузину стихотворении «К немецкой речи» он признавался в своем желании «себя губя, себе противореча», «уйти из нашей речи / За все, чем я обязан ей бессрочно»).
Характерно, что в писавшемся в апреле 1931 года «Путешествии в Армению» подробно говорится о биологии и живописи, но не о литературе. Фрагмент о Маяковском, может быть, не желая вступать в соревнование с Борисом Пастернаком, только что опубликовавшим свою «Охранную грамоту», автор «Путешествия в Армению» в окончательный текст не включил.
От утопических крайностей своего нового настроения Мандельштам очень быстро отошел. Из мемуаров Кузина: «Когда я напомнил, что решение остаться в Армении было окончательным, О.Э. воскликнул: “Чушь! Бред собачий!” Словно речь шла действительно о чем-то, приснившемся в бредовом сне»[578]. Но кое-что в мироощущении и в стихах поэта поменялось коренным образом.
Нужно еще заметить, что возвращение Мандельштама к писанию стихов в октябре 1930 года после пятилетнего молчания совпало с очередным ужесточением политического режима страны Советов, сигналом к которому послужил XVI съезд ВКП(б). В номере «Известий» от 1 октября была опубликована зубодробительная статья К. Радека «Социалистические ударники против капиталистических подрывников»[579]; в номере от 31 октября – большая редакторская передовица «О двурушничестве»[580]. В промежутке между началом и концом месяца вся советская печать дружно громила «правый уклон» партии, осужденный на съезде.
Стоит ли удивляться, что новый Мандельштам начался со строк
- Куда как страшно нам с тобой,
- Товарищ большеротый мой!
из стихотворения, обращенного поэтом к жене и написанного в Тифлисе в октябре 1930 года? Октябрем этого же года помечено и стихотворение, в котором тема страха перед действительностью убрана из текста в подтекст:
- Не говори никому,
- Все, что ты видел, забудь –
- Птицу, старуху, тюрьму
- Или еще что-нибудь…
- Или охватит тебя,
- Только уста разомкнешь,
- При наступлении дня
- Мелкая хвойная дрожь.
- Вспомнишь на даче осу,
- Детский чернильный пенал
- Или чернику в лесу,
- Что никогда не сбирал.
По меткому наблюдению К.Ф. Тарановского, «<т>риада “птица, старуха, тюрьма”» в первой строфе «автобиографична. Это воспоминание о заключении во врангелевскую тюрьму в Феодосии (в конце 1919 или в начале 1920 года), по обвинению, угрожавшему поэту расстрелом»[581].
Тарановский акцентирует внимание и на том, что вторая строфа стихотворения «Не говори никому…» «начинается противительным союзом или (“а не то”), звучащим как угроза. Тема этой строфы – страх перед расстрелом»[582]. Только-только возвратившийся в поэзию Мандельштам сразу же призывает себя к молчанию: разворачивающиеся в стране события требовали от всякого говорящего предельной осторожности.
В соответствии с отлаженной советской схемой в каждой профессиональной области в октябре 1930 года отыскивались свои «правые уклонисты», чтобы публично клеймить их позором. Не стала исключением и писательская среда. Уже в номере от 4 октября 1930 года «Литературная газета» начинает публикацию длиннейшего «письма секретариата РАПП» «всем ассоциациям пролетарских писателей» «о развертывании творческой дискуссии»[583]. В этом «Письме», разумеется, не обошлось без главки «Правая и “левая” опасности в пролетарской литературе на нынешнем этапе».
23 октября к разговору подключилась «Правда», напечатавшая коллективную статью участников мапповского кружка рабочей критики «Натиск» под заглавием «Против правого уклона внутри РАПП (О книгах и статьях В. Ермилова)»: «В литературное движение вливаются новые сотни и тысячи рабочих-ударников. В целях их воспитания необходимо с еще большей силой развернуть идейную борьбу за генеральную линию партии в литературе, в основном правильно проводимую РАПП, против искажений этой линии справа и “слева”. Надо развернуть действительную самокритику, действительно “невзирая на лица”. Наиболее ярким, хотя и не единственным носителем системы правооппортунистических взглядов внутри РАПП является тов. Ермилов, книга которого “За живого человека в литературе” (равно как и его последующие статьи) осталась до сих пор совершенно не разоблаченной и даже рекомендована ГУС для школьных библиотек <…>. Ермилов заявил, что Гумилева – этого активного белогвардейца, оголтелого врага рабочего класса – “революция просто не интересовала, оказалась лежащей вне его личности” <…>. Задача заключается в том, чтобы <…> очистить наше движение от ермиловщины, лицемерно прикрывающей свою правооппортунистическую сущность заявлениями о согласии с основной линией РАПП»[584].
Однако на следующий день, 24 октября, близкая в то время к РАПП «Литературная газета» поместила статью самого Ермилова «За писателя-бойца». Никак прямо не реагируя на сокрушительную критику со страниц «Правды», Ермилов попытался косвенно дезавуировать едва ли не все обвинения, брошенные ему кружком «Натиск». Например, он недвусмысленно резко высказался о Гумилеве, в тайной снисходительности к которому этого правоверного рапповца уличали рабочие критики: «Буржуазные поэты молились слову, – писал Ермилов, – они стремились окутать слово в глазах трудящейся массы туманом мистической тайны, противопоставляя слово всему мелкому, “земному”:
- Но забыли мы, что осиянно
- Только слово средь земных тревог.
- И в Евангельи от Иоанна
- Сказано, что слово – это бог.
Вероятно, именно на полемику кружка «Натиск» с Ермиловым, а также на свод правил поведения для рядовых рапповцев, напечатанный в «Литературной газете», Мандельштам в октябре 1930 года откликнулся следующим иронически-иносказательным стихотворением:
- На полицейской бумаге верже
- Ночь наглоталась колючих ершей.
- Звезды живут, канцелярские птички
- Пишут и пишут свои раппортички.
- Сколько бы им ни хотелось мигать,
- Могут они заявленье подать –
- И на мерцанье, писанье и тленье
- Возобновляют всегда разрешенье.
Комментарий Н.Я. Мандельштам: «“Раппортички” – два “п” – от слова РАПП. Это <…> заинтересовало когда-то Фадеева»[586].
Мандельштамы переехали из Еревана в Тифлис в середине октября 1930 года. В ноябре они вернулись в Москву. В декабре попытались закрепиться в Ленинграде. Тогда же был написано одно из самых известных мандельштамовских стихотворений о северной столице:
- Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
- До прожилок, до детских припухлых желез.
- Ты вернулся сюда – так глотай же скорей
- Рыбий жир ленинградских речных фонарей.
- Узнавай же скорее декабрьский денек,
- Где к зловещему дегтю подмешан желток.
- Петербург! Я еще не хочу умирать:
- У тебя телефонов моих номера.
- Петербург! У меня еще есть адреса,
- По которым найду мертвецов голоса.
- Я на лестнице черной живу, и в висок
- Ударяет мне вырванный с мясом звонок,
- И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
- Шевеля кандалами цепочек дверных[587].
С помощью Бухарина Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна получили путевку в дом отдыха ЦЕКУБУ «Заячий ремиз» в Старом Петергофе. Здесь они пробыли до 7 января 1931 года. Однако постоянному проживанию Мандельштама в Ленинграде неожиданно воспротивился секретарь Союза писателей Николай Тихонов, всего за три года до этого подаривший поэту свою книгу «Поиски героя» со следующей дарственной надписью: «Осипу Эмильевичу Мандельштаму – с любовью»[588]. Из «Воспоминаний» Надежды Яковлевны: «Это произошло после нашего возвращения из Армении; жить нам было негде, и О. М. попросил писательские организации предоставить ему освободившуюся в Доме литераторов комнату. Узнав об отказе <…>, я спросила Тихонова, должен ли О. М. просить разрешения писательских организаций, чтобы поселиться в Ленинграде, скажем, в частной комнате. Тихонов упрямо повторил: “Мандельштам в Ленинграде жить не будет”»[589].
В скобках следует отметить, что автор «Поисков героя» как поэт был весьма многим обязан автору «Камня». Его ранние стихи буквально нашпигованы отсылками к Мандельштаму. Так, фрагмент строки «…качаясь, мир плывет» из тихоновского стихотворения «Наследие» восходит к фрагменту строки («Земля плывет») из мандельштамовского стихотворения «Прославим, братья, сумерки свободы…». В стихотворении Тихонова «Свифт» целый ряд образов («подбитый глаз», «дерзостный старик», «слепая голытьба») перекликается с соответствующими мотивами «Старика» Мандельштама. Строка «Хохочет кожаный шкипер, румяный, манит» из «Северной идиллии» Тихонова представляет собой перифраз строки «Румяный шкипер бросил мяч тяжелый» из мандельштамовского «Спорта».
Может быть, Тихонов так и не смог простить Мандельштаму ядовитого определения, которым Осип Эмильевич припечатал когда-то его поэзию: «Здравия желаю, акмеизм»?[590].
Стремясь хоть как-то поправить свое жилищное положение, Мандельштамы обратились с прошением к В.М. Молотову, написанным от лица Надежды Яковлевны: «Наладить работу в Армении Мандельштаму не удалось из-за незнания армянского языка, и после нескольких месяцев отдыха нам пришлось вернуться на север. В Закавказье Мандельштам вполне оправился от болезни, но, попав на север в те же, вернее – в более тяжелые бытовые условия, он, несомненно, скоро расшатает свое здоровье, и все вернется к прежнему положению <…>. Основная беда в том, что Мандельштам не может прокормиться чисто литературным трудом – своими стихами и прозой. Скупой и малолистный автор, он дает чрезвычайно малую продукцию… После тяжелого жизненного кризиса, после перенесенной болезни, Мандельштам – пожилой и утомленный человек – очутился у разбитого корыта <…>. А чтобы его сохранить, нужно создать для него нормальные условия жизни – дать ему академическую спокойную работу <…>. Второй вопрос – квартирный. Все эти годы у нас не было средств, чтобы купить себе квартиру <…>. Нигде, ни в одном городе нельзя получить жилплощади. Мандельштам оказался беспризорным во всесоюзном масштабе»[591].
Никакой помощи сверху поэт не дождался. Нужно было собираться в Москву. Последние дни в Ленинграде супруги прожили раздельно: Осип Эмильевич – у брата Евгения; Надежда Яковлевна – у своей сестры, «в каморке за кухней». Все эти обстоятельства отразилась в коротком мандельштамовском стихотворении, созданном в январе 1931 года:
- Мы с тобой на кухне посидим,
- Сладко пахнет белый керосин;
- Острый нож да хлеба каравай…
- Хочешь, примус туго накачай,
- А не то веревок собери –
- Завязать корзину до зари,
- Чтобы нам уехать на вокзал,
- Где бы нас никто не отыскал[592].
Стихотворение начинается с почти идиллической статичной картинки: двое сидят на кухне, перед ними – каравай хлеба. Легко догадаться, что двое – это муж и жена (гостей на кухне не принимают). Далее, однако, спокойствие и уют сменяются все более и более лихорадочным движением («накачай», «собери», «Завязать корзину», «уехать»). И вот уже в финальном двустишии вместо кухни перед читателем возникает ее стопроцентный антипод – многолюдный вокзал, куда, спасаясь от зловещего «никто», уезжают муж и жена. Семье суждено раствориться среди неприкаянных вокзальных пассажиров – таков трагический итог стихотворения.
В Москву Мандельштамы приехали в середине января 1931 года. Надежда Яковлевна временно поселилась у своего брата Евгения на Страстном бульваре. Осип Эмильевич – у своего брата Александра в Старосадском переулке. «Помню его с папиросой в руках, стоящим в нашем огромном коридоре, куда вечно выходили курить соседи, звонил телефон и играли дети» (Из мемуаров Раисы Леоновны Сегал)[593]; «Ося был очень нервозен, непрерывно курил, кричал: “Чаю! Чаю!”, занимал подолгу общий телефон, вызывая протесты соседей» (Из воспоминаний жены Александра Мандельштама – Элеоноры Самойловны Гурвич)[594].
Меж тем гайки в стране завинчивали всё туже. Следующий за процессом «Промпартии» этап государственных репрессий в СССР ознаменовался делом так называемого «Союза бюро РСДРП (меньшевиков)»: 1 марта 1931 года «Правда» напечатала подборку материалов под общей шапкой «Сегодня пролетариат страны Советов судит врагов социализма, наемных слуг “торпромов” и детердингов – социал-интервентов»[595]; «Известия» в этот день опубликовали редакционную статью «Социал-вредители перед пролетарским судом»[596]. 2 марта на первой странице «Правды» была помещена редакционная статья «Строжайшую кару социал-вредителям!»; «Известия» напечатали передовицу «Признание виновных»[597].
Вторым марта 1931 года датировано мандельштамовское стихотворение «Колют ресницы. В груди прикипела слеза…», в чьей второй строфе отчетливо прозвучали тюремные, лагерные мотивы:
- С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук,
- Дико и сонно еще озираясь вокруг,
- Так вот бушлатник шершавую песню поет
- В час, как полоской заря над острогом встает.
Отчаяние от бытовой неустроенности и от тяжелой политической обстановки в СССР каким-то образом уживалось в поэте с восторгом от возвращения стихов. Из «Второй книги» Н.Я. Мандельштам: «Мы были подвижны и много гуляли. Все, что мы видели, попадало в стихи: китайская прачечная, куда мы отдавали белье, развал, где мы листали книги, еще не покупая из-за отсутствия денег и жилья, уличный фотограф, щелкнувший меня, Мандельштама и жену Шуры, турецкий барабан и струя из бочки для поливки улиц. Возвращение к стихам привело к чувству единения с миром, с людьми, с толпой на улицах… Это блаженное чувство, и нам чудесно жилось»[598].
В своих произведениях начала 1920-х годов Мандельштам без устали выяснял отношения с прошлым и настоящим. Теперь, в начале 1930-х, на новом витке развития мандельштамовского творчества, эта ситуация вновь обрела актуальность. Наиболее значительные стихотворения Мандельштама 1931 года представляют собой как бы развернутый ответ всем тем критикам, которые долгие годы попрекали поэта «музейностью» и отсутствием контактов с современностью. «Вы думаете, я с ХIХ веком? Нет, я не с ХХ-м, но и не с ХIХ-м!» – говорил поэт молодому пушкинисту Илье Фейнбергу[599].
В автобиографическом стихотворении «С миром державным я был лишь ребячески связан…» (февраль 1931-го) Мандельштам поэтически «оправдывает» собственное бегство из северной столицы: Ленинград предстает здесь Петербургом – отжившим свое, хотя и молодящимся («моложавым») городом:
- С миром державным я был лишь ребячески связан,
- Устриц боялся и на гвардейцев глядел исподлобья, —
- И ни крупицей души я ему не обязан,
- Как я ни мучил себя по чужому подобью.
- <…>
- Так отчего ж до сих пор этот город довлеет
- Мыслям и чувствам моим по старинному праву?
- Он от пожаров еще и морозов наглеет —
- Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый.
В стихотворении-«дразнилке» (определение Н.Я. Мандельштам) «Я пью за военные астры…» (11 апреля 1931 года) поэт издевательски примеривает на себя маску «представителя крупной европеизированной буржуазии», а в финале выстреливает саркастическим «еще не придумал» (чего бы еще такого на себя наговорить):
- Я пью за военные астры, за все, чем корили меня,
- За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня,
- За музыку сосен савойских, Полей Елисейских бензин,
- За розу в кабине рольс-ройса и масло парижских картин.
- Я пью за бискайские волны, за сливок альпийских кувшин,
- За рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин.
- Я пью, но еще не придумал – из двух выбираю одно:
- Веселое асти-спуманте иль папского замка вино[600].
В стихотворении «Довольно кукситься. Бумаги в стол засунем…» (7 июня 1931 года) Мандельштам декларирует свою нерасторжимую связь с настоящим: «Держу пари, что я еще не умер, / И, как жокей, ручаюсь головой, / Что я еще могу набедокурить / На рысистой дорожке беговой. / Держу в уме, что нынче тридцать первый / Прекрасный год в черемухах цветет…».
А в стихотворении «Сегодня можно снять декалькомани…» (25 июня 1931 года) поэт осторожно заглядывает в будущее: «Мне кажется, как всякое другое, / Ты, время, незаконно! Как мальчишка / За взрослыми в морщинистую воду, / Я, кажется, в грядущее вхожу, / И, кажется, его я не увижу».
Мечты о даре предвидения в эту пору занимают сознание поэта. «<М>ыслящая саламандра, человек, угадывает погоду завтрашнего дня – лишь бы самому определить свою расцветку», – писал Мандельштам в «Путешествии в Армению» (III: 186), имея в виду всеми отвергнутые опыты затравленного зоолога-самоубийцы Пауля Каммерера по наследованию саламандрами окраски, соответствующей основному цвету внешней среды, и в то же время варьируя следующий евангельский фрагмент: «…Когда видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: «Дождь будет», и бывает так; Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно?» (Лк. 13:54, 57).
В центре мандельштамовских текстов 1931 года – знаменитое стихотворение «За гремучую доблесть грядущих веков…», создававшееся с 17 по 28 марта. В одном из эпизодов «Путешествия в Армению» (работа над которым была начата в апреле этого же года) Мандельштам сравнивал себя с «мальчиком Маугли из джунглей Киплинга» (III: 195). В стихотворении «За гремучую доблесть грядущих веков…» он, обыгрывая ключевую фразу киплинговской сказки («Мы с тобой одной крови – ты и я»), подобно Маугли отказывается от своего «волчьего» прошлого ради «человечьего» настоящего:
- За гремучую доблесть грядущих веков,
- За высокое племя людей,
- Я лишился и чаши на пире отцов,
- И веселья, и чести своей.
- Мне на плечи кидается век-волкодав,
- Но не волк я по крови своей:
- Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
- Жаркой шубы сибирских степей…
- Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
- Ни кровавых костей в колесе;
- Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
- Мне в своей первобытной красе.
- Уведи меня в ночь, где течет Енисей
- И сосна до звезды достает,
- Потому что не волк я по крови своей
- И меня только равный убьет[601].
Но современникам было легче представить себе Мандельштама как раз в образе загнанного в угол зверя. Первыми слушателями стихотворения «За гремучую доблесть грядущих веков…» стали выдающийся актер-чтец Владимир Яхонтов и его жена Лиля (Еликонида) Попова, с которыми Мандельштамы особенно тесно сошлись в 1931 году. «…Он затравленным волком готов был разрыдаться, и действительно ведь разрыдался, падая на диван, тут же только прочтя нам (кажется, впервые и первым) “Мне на плечи бросается век-волкодав, но не волк я по крови своей”», – записал в своем дневнике Яхонтов[602]. (С Лилей Поповой и Владимиром Яхонтовым Мандельштамы познакомились зимой 1927 года, когда и те, и другие жили в Детском Селе. Позднее Попова описала совместное с Мандельштамами празднование 1 мая 1928 года: «…Мы остались без куска хлеба. Администратор забыл про нас. Я из теплых перчаток соорудила окорока и украсила бумажками, как это бывает на праздничных столах. Наш стол был составлен сплошь из бутафорских вещей. Мы пригласили Мандельштамов и долго веселились. В награду за нашу выдумку они пригласили нас к себе на обед и накормили»[603]).
Еще один ключевой помимо киплинговского подтекст стихотворения Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих веков…» – стихотворение его любимого Верлена, которое мы приводим здесь в подстрочном переводе:
- Ибо действительно я много страдал,
- Загнанный, затравленный, как волк,
- Который не может больше блуждать в поиске
- Хорошего отдыха и надежного пристанища
- И который прыгает, как ягненок,
- Под ударами целого племени.
- Ненависть, желание и деньги,
- Хорошие волкодавы с исправным обонянием,
- Окружают меня, сжимают меня.
- Это длится
- В течение лет! Обед из смятенья.
- Ужин страхов, трудное пропитание!
- Но в ужасе родного леса
- Вот борзая судьбы.
- Смерть. Животное и бестия!
- Полумертвый: смерть
- Кладет на меня свою лапу и кусает
- Это сердце, не прекращая борьбы!
- И я остаюсь окровавленный, таща
- Свои кровавые следы к потоку,
- Который воет посреди моего целомудренного леса.
- Дайте мне умереть, по крайней мере, вы,
- Мои братья, Волки! Для лучшего,
- Которое моя сестра Женщина-Волчица опустошает[604].
В таких стихотворениях Мандельштама апреля 1931 года, как «Нет, не спрятаться мне от великой муры…» «Неправда» и уже упоминавшееся «Я пью за военные астры…», неприятие окружающей действительности было столь велико и лично окрашено, что оно просто не могло найти себе точных соответствий в советских газетах того времени. Отметим лишь, что в мандельштамовском стихотворении «Рояль» (16 апреля 1931 года) почти наверняка идет речь об одном из двух концертов пианиста Генриха Нейгауза, так анонсировавшихся «Известиями»: «Госуд<арственный> Академич<еский> Большой театр Союза ССР. 7 и 8 апреля, в 1 час дня, симфонические концерты. Дириж<ер> Игнац Вагхальтер. Исп<олняют> оркестр ГАБТ СССР и Г. Нейгауз. В прогр<амме>: Бетховен 3-я симф<ония> (героическая), 5-й конц<ерт> для ф<орте>п<иано> с орк<естром>, Брамс 1-я симфония»[605].
Однако в двух своих длинных стихотворениях – «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…» (май – 4 июня 1931 года) и «Еще далёко мне до патриарха…» (май – сентябрь 1931 года) – Мандельштам вернулся к заинтересованному диалогу с советской современностью и с советской прессой.
В первом стихотворении присутствует прозрачный намек на мартовский процесс «Союза бюро РСДРП (меньшевиков)»: здесь изображается цыганка, на поводу у которой «арестованный медведь гуляет – / Самой природы вечный меньшевик». Еще через две строки поэт дает не слишком лестную характеристику чересчур легко меняющему свой облик, «жуликовато» конъюнктурному времени:
- Я подтяну бутылочную гирьку
- Кухонных, крупно-скачущих часов.
- Уж до чего шероховато время,
- А все-таки люблю за хвост его ловить:
- Ведь в беге собственном оно не виновато
- Да, кажется, чуть-чуть жуликовато…
Эти мандельштамовские строки, как кажется, должны быть поставлены в контекст групповой идеологической полемики, вылившейся на страницы «Литературной газеты» в апреле 1931 года. Сначала Николай Асеев напечатал в газете выдержанную в лефовском духе и содержавшую прямые отсылки к Маяковскому статью «Мои часы ушли вперед»: «– Мои часы уходят вперед. Я купил их в распределителе по ордеру. Они собраны уже на советской фабрике. В первый же день хода они ушли вперед на двадцать минут. Ничего. Я доволен своими часами. Пусть только они не отстают. С ними я не опаздываю <…>. “Наш бог – бег, сердце – наш барабан” <…>, мои часы ушли вперед. Переводить ли мне их каждодневно? Развинчивать ли их, копаться ли в них самому или отдать в починку – новые, только пущенные, не желающие отставать от своего времени? Нет, чинить я их никому не отдам. И сам копаться не буду. Они сделаны на советской фабрике. И с ними я не опоздаю»[606]. Затем Асееву с ортодоксальных советских позиций ответил Илья Сельвинский: «Часы на кремлевской башне бьют полден<ь> как раз в тот момент, когда солнце находится в зените. Двенадцать ударов – и куранты вызванивают “Интернационал”. Это символ того, что большевистский циферблат находится в полном соответствии с объективной реальностью. Поэтому он и большевистский. И если какая-нибудь деталь механизма, пораженная оппортунистической ржавчиной, начинает задерживать ход хотя бы на секунду, она моментально извергается вон. И если другая деталь, вырвавшись из общего строя, начинает кружиться в левацком танце и заторапливать бег машины – она выбрасывается туда же, куда и первая»[607]. Мандельштам в своем стихотворении, как видим, отказался и от сверхсовременной метафоры Асеева, и от сервильной метафоры Сельвинского, предпочтя наручным советским часам и кремлевским курантам допотопные ходики.
И все же в третьей от конца строфе стихотворения «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…» поэт с вызовом заявил:
- Пора вам знать: я тоже современник,
- Я человек эпохи Москвошвея, —
- Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
- Как я ступать и говорить умею!
- Попробуйте меня от века оторвать, —
- Ручаюсь вам – себе свернете шею!
Уже давно было замечено, что в зачине стихотворения Мандельштама «Еще далёко мне до патриарха…» перефразируется «Еще как патриарх не древен я…» Евгения Баратынского. По точному наблюдению Д.И. Черашней, перефразируется эта строка в духе злободневности: в июле 1931 года в Советскую Россию приехал Бернард Шоу. 26 июля в Колонном зале Дома союзов в Москве было с помпой отпраздновано его 75-летие[608]. Почтенный возраст Шоу акцентировался во всех корреспонденциях о его пребывании в СССР. Процитируем, для примера, репортаж о встрече писателя в Москве: «<П>оявляется Шоу – высокий прямой старик с белой бородой»[609]. Следовательно, современник должен был понимать мандельштамовскую строку приблизительно так: пусть мне не оказывают столь пышных почестей, как Бернарду Шоу… Сравним в «Четвертой прозе» о визите в октябре – ноябре 1928 года в СССР французского поэта Шарля Вильдрака: «Французику – шер мэтр – дорогой учитель, а мне – Мандельштам, чеши собак. Каждому свое» (III: 178).
Безо всяких дополнительных комментариев современник Мандельштама должен был понять и о какой конкретно «фильм<е> воровской» идет речь во второй строфе стихотворения «Еще далёко мне до патриарха…»:
- Когда подумаешь, чем связан с миром,
- То сам себе не веришь: ерунда!
- Полночный ключик от чужой квартиры,
- Да гривенник серебряный в кармане,
- Да целлулоид фильмы воровской.
16 мая 1931 года в столице состоялся закрытый общественный просмотр первой звуковой советской кинокартины «Путевка в жизнь» режиссера Н. Экка[610]. В фильме рассказывалось о перековке бывших беспризорников под руководством мудрого партийного работника. Украшением картины стала роль вора Жигана, исполненная молодым Михаилом Жаровым. С 1 июня 1931 года «Путевка в жизнь» широко пошла по экранам Москвы[611].
Новые для жизненной позиции Мандельштама идеологические оттенки вводятся в стихотворение «Еще далёко мне до патриарха…» при помощи утрированно советских, положительно заряженных реалий:
- Люблю разъезды скворчащих трамваев,
- И астраханскую икру асфальта,
- Накрытую соломенной рогожей,
- Напоминающей корзинку асти,
- И страусовы перья арматуры
- В начале стройки ленинских домов.
Одним из подтекстов этих строк и всего стихотворения в целом, возможно, послужила малоизвестная «Москва» (1920–1923) мандельштамовского знакомца Филиппа Вермеля:
- На площадях, на улицах кипенье
- Народа напряженней, чем когда-то.
- Гудит трамвай. Впервые прошлым летом
- В котлах асфальт варился, маляры
- Работали на обветшалых крышах.
- Как грязно, жалко все кругом – но скоро
- На месте пустырей домов громады
- Воздвигнутся, преображая вид
- Раскинувшейся широко столицы.
- Как я люблю толкаться среди шума
- По улицам кривым, холмистым, скользким.
- Мороз крепчает, градусов пятнадцать, –
- Стоит на небе красный тусклый шар,
- И я впиваю тусклое блистанье
- И новой жизни свежее дыханье[612].
Тем сильнее бросается в глаза (отсутствующий в стихотворении Вермеля) мандельштамовский эпитет «ленинских» при определяемом слове «домов». Тема ударного жилищного строительства в Москве – одна из основных для столичной прессы мая – сентября 1931 года. Более того, можно осторожно предположить, что не только к зрительным впечатлениям, как у Вермеля, но и к актуальному газетному контексту восходят мандельштамовские строки об асфальте. Выбор асфальта вместо булыжника в качестве основного покрытия для московских улиц широко обсуждался и приветствовался в средствах массовой информации того времени. На первой странице «Вечерней Москвы» от 28 мая 1931 года появилась большая подборка материалов «Строительство жилищ и мостовых – под рабочий контроль. Москву булыжную превратим в Москву асфальтированную». Номер от 15 июня открывался ликующей передовицей «25 июня начинается постройка новых асфальтно-бетонных мостовых». А на третьей странице «Известий» за это же число была помещена «проблемная» статья Эмиля Цейтлина «Асфальт или брусчатка?». Также мандельштамовские строки об асфальте и о «начале стройки ленинских домов» без особой натяжки могут быть сопоставлены со следующим фрагментом июньского репортажа Владимира Зыбина «На улицах Москвы»: «Горячая, тягучая масса асфальта переливается из большого котла в десятки маленьких <…>. Пройдитесь сейчас по московским улицам. На них тысячами квадратиков брусчатки, дымящимися асфальтовыми котлами <…> выполняется великая задача создания образцовой столицы трудящихся СССР»[613]. Процитируем еще строку из газетного стихотворения Владимира Луговского «Москва» (сентябрь 1931 года): «Асфальт лей! Старую дрянь сметай и гони!»[614].
Новая и амбивалентная по отношению к советской действительности гражданская позиция Мандельштама – хочу быть честным / хочу быть понятым и принятым – со всей отчетливостью была обозначена в заключительных строках стихотворения «Еще далёко мне до патриарха…»:
- И до чего хочу я разыграться –
- Разговориться – выговорить правду –
- Послать хандру к туману, к бесу, к ляду, –
- Взять за руку кого-нибудь: будь ласков, –
- Сказать ему, – нам по пути с тобой…
Сходным настроением окрашено большинство летних московских стихотворений Мандельштама 1931 года. Так, «отрывок из уничтоженных стихов» «Уж я люблю московские законы…» (6 июня 1931 года) завершается беспощадной и отважной констатацией: «В Москве черемухи да телефоны, / И казнями там имениты дни». Зато в стихотворении «Сегодня можно снять декалькомани…» (25 июня – август 1931 года) находим строки, защищающие советскую Москву от неких загадочных «белогвардейцев»:
- Река Москва в четырехтрубном дыме,
- И перед нами весь раскрытый город –
- Купальщики-заводы и сады
- Замоскворецкие. Не так ли,
- Откинув палисандровую крышку
- Огромного концертного рояля,
- Мы проникаем в звучное нутро?
- Белогвардейцы, вы его видали?
- Рояль Москвы слыхали? Гули-гули!
Между тем жить Мандельштаму было по-прежнему негде, так что они с женой кочевали по Москве от одних сердобольных знакомых к другим: июнь поэт провел на Большой Полянке в квартире юриста Цезаря Рысса, осенью он жил в комнате на Покровке, а в конце года Мандельштамы воссоединились в доме отдыха Болшево под Москвой (здесь поэт начал учить итальянский язык).
«Нищ, голоден, оборван. Взвинчен, как всегда, как-то неврастенически взвихривается в разговоре, вскакивает, точно ужаленный, яростно жестикулирует, трагически подвывает» – такую характеристику поэта 30 сентября 1931 года внес в свой дневник главный редактор «Нового мира» Вячеслав Полонский[615].
«С января 31-го года по январь 32-го, то есть в течение года бездомного человека, не имеющего нигде никакой площади, держали на улице. За это время роздали сотни квартир и комнат, улучшая жилищные условия других писателей», – горестно сетовал Мандельштам в письме к партийному деятелю, редактору И.М. Гронскому (IV: 146).
«Он опускался страстно, самый этот процесс был для него активным действом. Становился неузнаваем: седеющая щетина на дряблых щеках, глубокие складки-морщины под глазами, мятый воротничок», – вспоминала Эмма Герштейн[616]. А ведь еще не так давно Мандельштам, если верить А.И. Глухову-Щуринскому, отчитывал молодых сотрудников «Московского комсомольца» за «неряшливость в туалете»: он «даже выговаривал некоторым за нечистые воротнички сорочек, за немытые шеи, грязь под ногтями»[617].
Здесь самое время отметить, что мандельштамовская способность беспрестанно меняться, счастливо ускользая от однозначных оценок и характеристик, в высшей степени сказалась в его внешнем облике. «…Он был весь движущийся, не костяной, а пружинный», – не без яду констатировал Алексей Ремизов[618].
Взять хотя бы такой «постоянный» для любого взрослого человека параметр, как рост. В. Фартучному, впервые увидевшему поэта в 1931 году, он запомнился «худым и высоким»[619]. «Ростом он значительно выше среднего», – свидетельствовала Надежда Вольпин[620]. «…Рост выше среднего (я чуть выше плеча, но не до уха), и плечи широкие», – указывала Надежда Яковлевна[621].
«Низенький, щуплый, невзрачный с виду» (В. Рождественский)[622]; «Он стоял на эстраде, крохотный, острый, как собственный силуэт» (И. Наппельбаум) [623]; «Мандельштам был маленького роста» (В. Лурье)[624] – таким Мандельштама запомнили эти и многие другие мемуаристы.
«Вообще-то он был классического среднего роста, но иногда выглядел выше среднего, а иногда – ниже. Это зависело от осанки, а осанка зависела от внутреннего состояния», – резюмировала в своих воспоминаниях Эмма Григорьевна Герштейн[625].
Впрочем, сам поэт построил на противоречиях еще свое стихотворение «Автопортрет» 1914 года, где понять крылатый намек мешает мешковатый сюртук, тайник движенья прячется в закрытьи глаз и в покое рук, а прирожденная неловкость одолевается врожденным ритмом:
- В поднятьи головы крылатый
- Намек – но мешковат сюртук;
- В закрытьи глаз, в покое рук –
- Тайник движенья непочатый;
- Так вот кому летать и петь
- И слова пламенная ковкость –
- Чтоб прирожденную неловкость
- Врожденным ритмом одолеть!
В январе 1932 года Мандельштамы наконец-то получили крохотную десятиметровую каморку в Доме Герцена – «низенькую, темноватую комнатку» (как описывал ее В. Виткович)[626]. Вскоре им удалось переехать в чуть большую комнату в этом же флигеле. Впрочем, свои жилищные условия Мандельштам в письме-жалобе к Гронскому охарактеризовал так: «Помещение мне отвели в сыром, негодном для жилья флигеле без кухни, питьевой кран в гниющей уборной, на стенах плесень, дощатые перегородки, ледяной пол» (IV: 146).
«Мандельштам все время, я обратил внимание, старался держаться, прикрывая спину, – описывал Николай Тихонов одно из своих тогдашних свиданий с поэтом. – Как-то даже было непонятно, почему он жмется к стенке. Но его жена сказала:
– Не обращайте на него внимания. Он не может повернуться, потому что у него разорванные брюки сзади и такая громадная дыра, что он прикрывается газетой»[627].
И все-таки первая половина 1932 года в беспокойной жизни Осипа Эмильевича и Надежды Яковлевны стала периодом пусть краткой, но стабилизации. «Хотя новая комната была рядом со старой и окна выходили на ту же сторону, она казалась веселой и солнечной; может быть, тут играли роль светлые обои и не было перед самым окном дерева», – вспоминала Эмма Герштейн[628].
Потихоньку налаживались денежные дела. Весной 1932 года Бухарин выхлопотал 41-летнему Мандельштаму пожизненную персональную ежемесячную пенсию в размере 200 рублей за «заслуги перед русской литературой» (выплата пенсии прекратилась лишь после окончания ссылки Мандельштама в 1937 году).
Выразительное свидетельство о настроении Мандельштама в это время – его стихотворение, датированное маем 1932 года. Оно, по-видимому, было приурочено к открытию сезона в московском парке культуры и отдыха:
- Там, где купальни-бумагопрядильни
- И широчайшие зеленые сады,
- На Москве-реке есть светоговорильня
- С гребешками отдыха, культуры и воды.
- Эта слабогрудая речная волокита,
- Скучные-нескучные, как халва, холмы,
- Эти судоходные марки и открытки,
- На которых носимся и несемся мы.
- У реки Оки вывернуто веко,
- Оттого-то и на Москве ветерок.
- У сетрицы Клязьмы загнулась ресница,
- Оттого на Яузе утка плывет.
- На Москве-реке почтовым пахнет клеем,
- Там играют Шуберта в раструбы рупоров,
- Вода на булавках, и воздух нежнее
- Лягушиной кожи воздушных шаров.
Первоначально парк должен был открыться 18 мая, о чем «Вечерняя Москва» поспешила поместить бравурную передовицу Татьяны Тэсс: «Гребные лодки отчаливают от стоянок. Вода расступается, вода отлетает назад, тронутая розовым изумленным солнцем»[629]. Однако погода в столице стояла холодная[630], и парк заработал лишь 24 мая[631]. Чтобы показать, насколько злободневной для советской столичной прессы мая 1932 года была тема открытия сезона в парке культуры и отдыха, упомянем здесь и о сусальной «Поэме о парке» Ивана Молчанова, напечатанной в «Вечерней Москве» 30 числа[632].
Приблизительно тогда же Мандельштаму удалось ознакомить избранных слушателей со своей новой прозой об Армении. Оппозиционер-большевик Виктор Серж (Кибальчич), присутствовавший на этом чтении в номере одной из ленинградских гостиниц, вспоминал о Мандельштаме так: «Еврей, скорее небольшой, с лицом, полным сгущенной печали и беспокойными и созерцательными карими глазами. Мандельштам, высоко ценимый в литературном мире, жил бедно и трудно <…>. Кончив читать, Мандельштам спросил нас: “Вы верите, что это можно будет напечатать?”»[633].
Лето Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна провели в доме отдыха Болшево.
1 июля 1932 года в «Вечерней Москве» сообщалось: «Вчера в 4 часа дня над Москвой пронесся сильнейший ливень с грозой»[634]. Мандельштамовские впечатления от последней июньской грозы легли в основу второго стихотворения из его «Стихов о русской поэзии»:
- Зашумела, задрожала,
- Как смоковницы листва,
- До корней затрепетала
- С подмосковными Москва.
- Катит гром свою тележку
- По торговой мостовой,
- И расхаживает ливень
- С длинной плеткой ручьевой.
- И угодливо поката
- Кажется земля – пока,
- Шум на шум, как брат на брата,
- Восстают издалека.
- Капли прыгают галопом,
- Скачут градины гурьбой
- С рабским потом, конским топом
- И древесною молвой[635].
Датировано стихотворение «Зашумела, задрожала…» четвертым июля, но как раз в этот день (и в несколько июльских, ему предшествующих) в Москве держалась ничем не примечательная «облачная погода без осадков»[636].
В четвертом номере «Нового мира» с помощью Михаила Зенкевича удалось напечатать два мандельштамовских стихотворения, а в шестом – еще четыре (последняя прижизненная публикация стихов Мандельштама состоялась в ноябре 1932 года – в «Литературной газете»). 8 сентября 1932 года поэт подписал договор с ГИХЛом на издание своей книги «Стихотворения» (издание света не увидело). В номере газеты «За коммунистическое просвещение» от 21 апреля 1932 года появилась мандельштамовская популяризаторская заметка «К проблеме научного стиля Дарвина».
В газете «За коммунистическое просвещение» служил давний и близкий приятель Мандельштамов Александр Осипович Моргулис (1898–1938). «Осип Эмильевич очень нежно любил моего мужа, – рассказывала в своих мемуарах вдова Моргулиса, пианистка Иза Ханцын. – Как мне помнится, таким же нежным взглядом он смотрел на своего младшего брата Шуру. У нас Мандельштам как-то смягчался, его внутренняя напряженность разряжалась; кроме того, он очень доверял литературному вкусу моего мужа»[637]. В газету «За коммунистическое просвещение» («ЗКП» – будущая «Учительская газета») Моргулис устроил на редакторскую работу Надежду Яковлевну. По этому поводу Мандельштам написал одну из своих шуточных «моргулет» (всего «моргулет» сохранилось около десятка. «Их законом было начинать со слов “Старик Моргулис” и получить одобрение самого “старика”», – вспоминала Н.Я. Мандельштам)[638]:
- Старик Моргулис под сурдинку
- Уговорил мою жену
- Вступить на торную тропинку
- В газету гнусную одну.
- Такую причинить обиду
- За небольшие барыши!
- Так отслужу я панихиду
- За ЗКП его души!
Другим партнером Мандельштама по шуточным и серьезным разговорам стал его сосед по Дому Герцена, талантливый крестьянскй поэт Сергей Антонович Клычков (1889–1937). Из воспоминаний жены Клычкова В. Горбачевой, описывающих мандельштамовскую манеру чтения стихов: «Задорным петушком, таким культурным утонченным петушком выпархивает Мандельштам на середину нашей комнатушки и торжественно, скандируя, четко, кристально чисто (в сущности – это манера четкого чтения, но так как у Мандельштама, кажется, нет каких-то зубов, то, в общем, у него дикция плохая) произнося слоги, аккомпанирует замысловатому танцу ног»[639]. Из мемуаров Б.С. Кузина: «Однажды в каком-то споре с Мандельштамом он <Клычков> сказал ему: “А все-таки, О.Э., мозги у вас еврейские”. На это Мандельштам немедленно отпарировал: “Ну что ж, возможно. А стихи у меня русские”. – “Это верно. Вот это верно!” – с полной искренностью признал Клычков»[640].
Клычков в эти годы мучительно пытался выпутаться из истории, многими своими обстоятельствами напоминавшей мандельштамовскую эпопею с «Легендой о Тиле Уленшпигеле». В 7–8 номерах «Нового мира» за 1932 год он напечатал поэму «Мадур-Ваза победитель», являвшуюся вольной обработкой произведения М. Плотникова «Янгаал-Маа», созданного на основе мансийских народных сказаний. Против Сергея Антоновича было выдвинуто обвинение в плагиате. Дело «Плотникова – Клычкова» завершилось только в 1933 году – комиссия оргкомитета Союза советских писателей сняла с Клычкова обвинения в плагиате, одновременно решив вопрос о выплате материальной компенсации Плотникову за публикацию клычковской поэмы в «Новом мире». Мандельштам не без значения посвятил Клычкову третью часть своих свежесозданных «Стихов о русской поэзии» (27 июля 1932 года):
- Полюбил я лес прекрасный,
- Смешанный, где козырь – дуб,
- В листьях клена – перец красный,
- В иглах – еж-черноголуб.
- Там фисташковые молкнут
- Голоса на молоке,
- И когда захочешь щелкнуть,
- Правды нет на языке.
- Там живет народец мелкий,
- В желудевых шапках все,
- И белок кровавый белки
- Крутят в страшном колесе.
- Там щавель, там вымя птичье,
- Хвой павлинья кутерьма,
- Ротозейство, и величье,
- И скорлупчатая тьма.
- Тычут шпагами шишиги,
- В треуголках носачи,
- На углях читают книги
- С самоваром палачи.
- И еще грибы-волнушки,
- В сбруе тонкого дождя
- Вдруг поднимутся с опушки
- Так – немного погодя…
- Там без выгоды уроды
- Режутся в девятый вал,
- Храп коня и крап колоды,
- Кто кого? Пошел развал…
- И деревья – брат на брата –
- Восстают. Понять спеши:
- До чего аляповаты,
- До чего как хороши!
Е.А. Тоддес, комментируя это стихотворение, очень уместно сопоставляет его со следующим фрагментом мандельштамовских «Заметок о поэзии»: «В поэзии всегда война… Корневоды, как полководцы, ополчаются друг на друга»[641]. Вместе с тем, в третьей – восьмой строфах стихотворения «Полюбил я лес прекрасный…», на наш взгляд, аллегорически отразилась и ситуация, сложившаяся вокруг важнейшего для советской литературы начала 1930-х годов документа: постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций», ликвидирующего ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП, РАПП)[642]. На протяжении нескольких последующих месяцев бывшие рапповцы с разной степенью успеха и эмоционального накала каялись на собраниях и в советских газетах во всевозможных грехах. С ними упоенно сводили счеты вчерашние литературные враги и союзники. В частности, на первой странице «Литературной газеты» от 5 июля 1932 года, в самый разгар работы Мандельштама над стихотворением «Полюбил я лес прекрасный…», была напечатана большая статья И. Жиги «Литературное дело превратить в часть общепролетарского дела».





