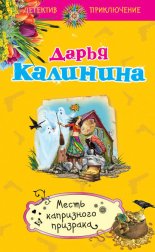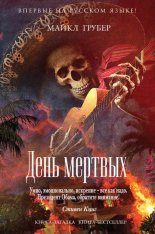Король на именинах Зверев Сергей

Глава 1
Бутырская тюрьма никогда не пользовалась среди народа хорошей славой. Ни в девятнадцатом веке, когда она еще называлась Московским губернским тюремным замком, ни потом, когда стала центральной пересыльной тюрьмой дореволюционной России, ни в советское время. По сегодняшний день Бутырка справедливо имеет репутацию одного из самых беспредельных следственных изоляторов Российской Федерации. Скоро уже двести лет, как Бутырская тюрьма собирает под своими сводами тех, кто не в ладу с законом. Только люди, никогда не переступавшие ее порог, могут восхищаться вслух архитектурными достоинствами одного из обветшавших творений знаменитого архитектора Матвея Казакова. Это здание лучше рассматривать снаружи, а не изнутри.
Для сорокалетнего Андрея Кувалова с погонялом Кувадла это была уже третья ходка, а потому и чувствовал он себя в СИЗО привычно и уверенно. Не вскакивал при малейшем шуме в коридоре, не суетился, не строил несбыточных планов. В тюрьме что главное? Уметь ждать. Как ни торопи время, оно все равно по капельке капает – быстрей не пойдет. Взяли его по глупости, с поличным, тут не отвертишься.
Промышлял он квартирными кражами. Всегда брал только деньги. Рыжьем-ювелиркой и шмотками не увлекался. Дензнаки, они все одинаковые, пойди докажи, что это краденые купюры, а вот кольцо-гайку, сережки или шубу хозяева всегда признают. Поставил квартиру Кувадла чисто. Какой бы замок хитроумный инженеры ни придумали, а все равно, против фирменной дрели с алмазным сверлом ему не устоять. Места, где люди деньги на черный день хранят, Кувалов нюхом чуял. Стоило ему только на обстановку глянуть, то сразу понимал, чем хозяева дышат. Если мебелишка так себе, без позолоты и наворотов, то деньги скорее всего вместе с документами где-нибудь в серванте в обувной коробке лежат, в конверт почтовый запакованные. Найти их – пять минут понадобится. Если же роскошь напоказ, ищи деньги в укромном месте: за книжками, за видеокассетами или в платяном шкафу в пакете со всякими рваными носками или в туалете в вентиляции.
В тот раз деньги, и немалые – почти пять тысяч долларов, отыскались в морозилке холодильника в пачке из-под пельменей. И все бы ничего, если бы Кувадла ушел сразу, как деньги взял. Но приглянулась ему побрякушка в стеллаже – футбольный мяч с автографами его любимой команды «Спартак». Дрель с аккумулятором, как всегда, в портфель положил, а мяч-то не сдуешь. Бросил его в пакет, который на кухне подобрал. А когда из квартиры выходил, то с соседкой нос к носу столкнулся. Буркнул: «Добрый день» – и в лифт. Сразу ему старушка не понравилась. Любопытная, сухонькая, нос острый. Такой нос в любую щель залезет. До первого этажа он и не доехал, лифт остановился. Думал сперва, просто так, сломалось что-то. Но когда створки дверей открылись, то увидел Кувадла на площадке ментов с автоматами. Старушка-то ушлой была, мяч с пакете мигом распознала, и не 02 позвонила, а сразу соседу с верхнего этажа, тот оперативником работал. Он и лифт отключил, и ментов вызвонил. К своему они мигом приехали. Вот так и загремел осторожный Кувадла, светила ему сто пятьдесят шестая статья пункт «В». А значит, и срок от двух до шести. Тут уж как адвокат постарается.
Денег на хорошего адвоката у Кувадлы не было, потому и получить срок по минимуму он не рассчитывал. Вот уже месяц шел, как следак его в Бутырке мурыжил – оперу спешить некуда. Но и Кувадла уже научился жить так, чтобы о времени не думать. А поскольку был он блатным со стажем, то братва его поставила смотрящим по хате. Своего адвоката, которого Кувадле бесплатно предоставили, он два раза всего и видел. Сразу понял, что толку от него никакого. Говорит, а сам в это время о чем-то другом думает. И мешки под глазами синие, как у всякого, кто выпить лишнее любит.
В наполненной не выше тюремного норматива камере шла обычная жизнь, каждый из подследственных коротал время, как умел. Кто резался в «стирки» – карты, благоразумно отгородившись на шконке занавесочкой, кто играл в нарды, в это время одновременно работали два телевизора. По одному шел футбольный матч. Но после того как из-за мяча Кувадла и загремел на нары, о футболе ему и думать не хотелось. На экране второго телевизора гордо вышагивали манекенщицы, демонстрируя высокую французскую моду. Нормальный мужик по своему желанию такое на «вольняшке» смотреть не станет, разве что за компанию с женой. И то, если сильно попросит. Но тюрьма – другое дело. Мужчины, не видевшие живых женщин кто по месяцу, а кто и по полгода, таращились на экран, пускали слюни и, конечно же, взахлеб комментировали, что бы они с такими телками вытворяли, доведись им чудом перенестись за тюремные стены.
– У меня такая же в Саратове осталась, – зычно проговорил худосочный первоход в круглых очках-велосипедах, – один в один. Ноги от ушей, а волосы, как солома желтые и длинные, до самой задницы. И глаза голубые. – Он жадно затянулся плохонькой сигареткой.
Короткий окурок сжимал между двух спичек, чтобы выкурить до последнего. Затянулся и тут же закашлялся.
– Если ноги от ушей, то и задница у нее вместо головы, – пробасил один из зрителей – любителей высокой моды.
– Пошел ты… – очки-велосипеды блеснули.
– Куда? – тут же зло прозвучал вопрос.
Мгновенно воцарилась тишина. Все ждали, что же ответит очкарик. Даже картежники выглянули из-за занавески. В тюрьме надо строго следить за тем, что говоришь. Пошлешь неосторожно не в ту сторону или про матушку собеседника вспомнишь, можешь до утра и не дожить. За решеткой все сказанное воспринимается серьезно. «Косяк» в любой момент случиться может. Кувадле не хотелось, чтобы сейчас принялись выяснять отношения. Он незлобно и тихо произнес, но в тишине слова смотрящего хаты прозвучали веско:
– Фильтруй базар, очкарик. Так куда ты его послать хочешь?
– В баню… – упавшим голосом произнес саратовец, в первый раз оказавшийся на бутырских нарах.
– Баня еще через три дня, – не стал настаивать на сатисфакции мужик, – в баню можно. Правда, лучше бы ты меня в другое хорошее место послал. Я бы не отказался.
– Вы «сеансов» насмотритесь, скоро и телевизор трахнете, – произнес Кувадла, отворачиваясь к стене. Даже на его «козырной» шконке под самым окном дышалось тяжело.
Вся камера тут же взорвалась дурацким смехом. На воле от такой шутки никто бы, наверное, даже не улыбнулся.
– Фотография телки имеется? – вызвался любопытный и тронул очкарика за плечо.
– Была… – вздохнул тот, – но я ее на свиданке брату отдал. Эх, не привык я к таким сигаретам, на воле только «Мальборо» курил.
Никто не стал выяснять – почему отдал брату фотку. Все понимали, у каждого нашлась бы подобная история. В неволе вдвойне тяжелей, если что-то напоминает тебе о свободе. Смотришь на фотографию, и сами собой приходят мысли: что блондинка сейчас делает, одна ли, вспоминает ли… Вот и отдают зэки фотографии родных и близких, чтобы лишний раз не терзаться, не переживать.
В коридоре загремели ключи, и дверь камеры отворилась. Кувадла даже не повернулся.
– Кувалов, на выход, – лениво процедил сквозь зубы конвойный «рекс».
Кувадла, не выказывая удивления, неторопливо поднялся со шконки – сохранял достоинство. В камере, как в волчьей стае, только почуют слабость вожака, тут же повиноваться перестанут. А власть свою Кувадла держал железной рукой.
– Стоять, лицом к стене, – скомандовал «рекс».
Андрей Кувалов чуть медленнее, чем следовало, повернулся лицом к шершавой стене, заложил руки за спину. Железная дверь в камеру с грохотом затворилась.
– Пошел!
Кувалова конвоировали двое: коридорный в камуфляже, вооруженный дубинкой и баллоном со слезоточивым газом, и «рекс», которого он видел впервые. Коридор следственного изолятора был разделен железными решетками на отсеки. Запоры в решетках были двойные, но закрывались все они только на один ригель. Второй запор был куда надежней – три массивных стержня могли выдвинуться из стены по команде с пульта. «Рекс» открывал решетки длинным ключом-«вездеходом», каждый раз не забывая напомнить подследственному:
– Стоять, лицом к стене.
После тесной тюремной камеры коридоры, освещенные жидким электрическим светом, казались удивительно широкими. Узнику дышалось в них легко, хотя Кувалов помнил, когда его только привезли в Бутырку, так он не думал. Тогда мгновенно в нос ударил спертый, насыщенный миазмами воздух, отчего закружилась голова. Проплывали мимо темные прямоугольники металлических дверей с номерами хат.
Кувадла не спрашивал, куда и зачем его ведут, это тоже одно из тюремных правил. За решеткой человек не принадлежит самому себе, куда ведут – туда и пошел, нет выбора. Наконец «рекс» распахнул неприглядную дверь, за которой оказалось узкое и высокое, как стакан, помещение, всю меблировку которого составляли стол и два табурета, намертво прикрученные к полу. В таких кабинетах проходят допросы или встречи с адвокатами.
Андрей Кувалов опустился на табурет и положил перед собой руки на стол. «Рекс», не сказав ни слова, вышел из комнаты. Над головой серел неровно оштукатуренный свод, помнивший еще дореволюционных сидельцев. На стене, метрах в двух с половиной от пола, чтобы не дотянуться, горели две яркие лампочки, забранные в проволочные плафоны.
Когда дверь отворилась вновь, Кувадла даже не счел нужным обернуться.
– Здравствуйте, – услышал он спокойный мужской голос и тут же почувствовал, что в помещении запахло дорогим одеколоном.
– Здравствуйте, если не шутите, – Кувадла исподлобья глянул на элегантного мужчину в дорогом костюме, темно-синей рубашке и ярко-красном галстуке.
Позолоченные пуговицы поблескивали, отражая в себе лампочки. Лицо мужчины, умное и дородное, показалось Кувалову немного знакомым, но где и при каких обстоятельствах они встречались, вспомнить не смог. Знал наверняка, что вместе им сидеть не приходилось. Мужчина хоть и не чувствовал себя подавленным в тюрьме, но «домом родным» Бутырку наверняка не считал. Попытки поздороваться за руку не сделал. Взгляд его был немного брезгливым.
– Андрей Александрович, – вкрадчиво произнес он, – я ваш новый адвокат. Зовут меня Святослав Петрович Нардов.
И тут Кувадла припомнил, что уже не раз слышал об этом человеке. Среди бывалых зэков о нем рассказывали чудеса. Говорили, что этому юристу под силу составить любую бумагу. Что даже убийц он умеет вытаскивать под залог. Даже самые безнадежные дела принимали к пересмотру и костили по ним срок в два раза. Припомнилось, что видел его он в бутырском коридоре две недели тому назад. Но тогда Нардов даже не взглянул на заурядного домушника, а теперь сидит, улыбается ему.
– Вы слышите меня?
Даже челюсть у Кувадлы отвисла, он лихорадочно соображал, что делать. Тюрьма приучила его к тому, что сюрпризы приятными не бывают, а если и случаются, то непременно к худшему.
«Подстава, – подумалось ему, – но в чем она? Какой смысл подсылать ко мне дорогого адвоката. Следакам в деле и так все ясно. Да и не стал бы Нардов пачкаться».
– Вас что-то удивляет? Спрашивайте.
Нардов подвинул к Кувалову пачку «Мальборо» и вынул из кармана пиджака маленькую раскладную пепельницу, сдвинул крышку.
– Не понял, – наконец-то выдавил из себя домушник и жадно затянулся хорошей сигаретой, но почти не почувствовал вкуса.
– Я легкие сигареты курю, – улыбнулся адвокат и, не дождавшись ответа, продолжил: – Меня попросили выступить в вашу защиту. Вам платить мне ничего не придется.
– Кто заплатит?
Нардов глубокомысленно воздел глаза к грязному потолку:
– Этот человек не хотел, чтобы прозвучало его имя.
– Тогда и разговор окончен, – резко произнес Кувалов, попытавшись встать из-за стола, но Нардов остановил его взглядом.
– Выбор упал на вас почти случайно. Подошел бы любой смышленый зэк. Я не сказал, что платить не придется вообще. Услуга за услугу. Вы выполните, что я вам передам, взамен за это займусь вашим делом. Обещать чуда не стану. Честно говоря, я еще и не знакомился с ним, но все возможное устрою.
– Что от меня требуется? Я «загрузиться» должен?
Кувалов решил, что Нардова прислали уговорить его взять на себя чужое дело. Такое случается довольно часто. Ведь по российским законам больший срок поглощает собой меньшие. И прежде уже сидевший домушник, осужденный за квартирную кражу со взломом на три года, вполне может взвалить на себя и что-нибудь поскромнее, какую-нибудь драку у ресторана. Именно это и имел в виду Кувадла, сказав «загрузиться».
Святослав Петрович вежливо улыбнулся, и было в его улыбке что-то неискреннее, восточное. Темно-карие глаза покрылись масляной поволокой.
– Вы догадливы, но ошиблись. Я не хотел бы терять с вами время. Завтра к вечеру один из ваших сокамерников должен очутиться в тюремной больнице…
– Это не ко мне, – перебил Кувалов, – лепила решает, кому в больничку закосить.
Кувадла, как смотрящий хаты, знал, что сегодня в больничке уже оказались три вора в законе, значит, готовится толковище. Авторитетам предстоит перетереть и принять решение. Не водку же пить они там станут. Самого Кувадлу, ясное дело, никто на подобные мероприятия не приглашал – цветом не вышел.
– Если бы мне был нужен лепила, я бы к нему и обратился. Все равно, кто окажется в больничке, это на ваш выбор. Но повреждения должны быть серьезными. На грани выживания. Вам ясно? Именно на грани. Морг никому не нужен.
– Чего ж не понять, – хрустнул мощными руками Кувадла, – найти терпилу и «покошмарить» по полной программе, но только чтобы не сдох.
– Все правильно. Вы согласны?
– Стремно.
– Опасаетесь администрации, сокамерников?
Кувалов даже рассмеялся.
– Боялся бы, вы бы ко мне не пришли. Не могу понять одного – зачем? А в темную играть не люблю.
– Вы не поверите, но даже я играю в темную, – пожал плечами адвокат, – так что и ответить мне вам нечего. Думайте, – он взглянул на часы, – у вас есть три минуты.
Кувалову казалось, что он даже слышит, как противно тикают на руке Нардова швейцарские часы. Предложение выглядело заманчивым.
«Но на кой хрен? – недоумевал Кувалов, – подстава, падлой буду, подстава. Надо отказываться».
– Вы уже решили? – Нардов постучал отполированным ногтем по стеклу часов.
– Сделаю, – произнес Кувалов, и обратной дороги у него не было.
Потому как в тюрьме и на зоне – железное правило: «мужик сказал, мужик сделал». Никто домушника за язык не тянул.
– Вот и чудно, – адвокат облегченно вздохнул, – надеюсь, теперь ваши дела пойдут лучше, только постарайтесь сами не засветиться, чтобы мне потом вас от еще одной статьи не отмазывать.
Нардов щедрой рукой поделился с Куваловым сигаретами, отсыпав ему половину пачки, и подсунул на подпись документ. Кувадла прочитал его от первой заглавной буквы до последней точки. Ничего особенного, обычный договор с адвокатом, о передаче ему права представлять интересы обвиняемого.
– Желаю удачи, – Нардов произнес это таким тоном, что было понятно: если Кувалов не исполнит обещанного в точности, ему не жить – что-что, а смысловые оттенки своему голосу Нардов придавать умел.
Папка захлопнулась.
– Вот и все. Охрана! – позвал адвокат. – Можете увести.
«Рекс» с бесстрастным лицом открыл дверь и скомандовал:
– На выход.
Вновь были переходы, коридоры, разбитые на отсеки-шлюзы, гремел ключ-«вездеход». Наконец Кувалов оказался перед железной дверью своей камеры. Шмонать его после встречи с адвокатом никто не стал. Сокамерники с интересом уставились на смотрящего хаты. Событий в тюрьме немного, всегда интересно узнать, как продвигается следствие у другого. На чужих ошибках, гляди, и ума-разума наберешься. Еще про один прикол следаков узнаешь и не поведешься на него.
Однако спрашивать у Кувалова не решались, если захочет, сам расскажет. Смотрящий прошелся по притихшей камере и сел на шконку, огляделся. До этого перед ним были не люди, а серая масса, которую только и надо, что держать в повиновении. Сейчас ему предстояло самому решить – кого измордованным понесут в больничку. И понесут ни за что, просто потому, что так сказал Нардов. Угрызения совести не сильно допекали Кувалова. В конце концов, в тюрьме каждый сам за себя. Если не сумеешь себя поставить – пропадешь. Но тут же приходила в голову мысль, что и его самого могут так же поставить на кон.
Двое «торпед» из татуированных блатных переместились поближе к смотрящему, на случай, если понадобятся.
– К следаку таскали? – шепотом поинтересовался один из них.
– Пошел ты… – тихо сказал Кувалов и тут же добавил, широко улыбнувшись: – В баню.
Густо татуированный арестант-«торпеда» подобострастно заржал, обнажив две желтые коронки.
Уже погасли экраны телевизоров. После отбоя камеру заливал мертвенно-синий свет. Кувалов никак не мог заснуть. Сегодняшняя встреча с Нардовым сломала его, потому что подарила надежду. А надеяться на лучшее – самое плохое для арестанта. Уж лучше приготовиться, что тебе впаяют «десятку», а потом получить «пятак», чем наоборот. Тогда и пять лет неволи покажутся детским сроком, который на одной ноге возле толчка пересидеть можно.
Во сне арестанты иногда вскрикивали. Было слышно, как плачет, не просыпаясь, под шконкой – «на вокзале» молодой шнырь. Кувалов повернулся на бок и отбросил одеяло. На втором ярусе нар поблескивали круглые стекла очков первохода. Парень боялся снимать их на ночь, чтобы ненароком не раздавить во сне. Руку он свесил вниз, то и дело сжимал пальцы, будто ловил что-то невидимое.
Кувадла сел, прислушался, никто не пошевелился. Он поднялся, прошел вдоль нар, всего на секунду задержался возле очкарика, сунул руку под самодельную подушку и тут же выдернул. И если бы не синий свет, то было бы видно, как прилила кровь к лицу видавшего виды блатного.
– Прости меня, господи, – прошептал он, уже вернувшись на место.
В тот самый день, когда адвокат Нардов появился в Бутырке, чтобы сделать Кувадле странное предложение, главный врач тюремной больницы Петр Алексеевич Барсуков слегка поправил свое материальное положение. На автомобильной стоянке, где он всегда оставлял свои «Жигули», Петр Алексеевич открыл машину, приспустил стекло в задней дверце, а затем хлопнул себя по лбу, словно что-то забыл, и заспешил прочь. Барсуков знал, что зря разыгрывает спектакль, что ничего он не забывал, а просто ему надо на время отойти в сторону. Но врач ничего не мог с собой поделать, ему было страшно, что кто-нибудь заподозрит, поймет, почему это он не спешит уехать домой, вот и прикинулся забывчивым.
Барсуков – высокий дородный мужчина с чуть обрюзгшим лицом, закурил и нервно затянулся. Сегодня ему уже пришлось поволноваться, когда по его распоряжению в тюремную больницу перевели трех воров в законе, сидевших в Бутырке. Перевод всей троицы он устроил по достойным веры диагнозам, почти не сочинял, ведь настоящих хворей у высоких авторитетов воровского мира хватало. Все-таки тюрьма – не курорт, и здоровья никому из сидельцев она еще не прибавила. По большому счету придраться было не к чему, даже если бы на доктора и наехало начальство.
«Ну да, подстраховался, – сказал бы он, – можно было и не госпитализировать, но сами же понимаете, если вдруг окажется, что законник умрет из-за того, что ему вовремя не оказали помощь… Это же грозит бунтом в тюрьме».
Начальство и слова не сказало. Сколько и кто, кроме него, получил денег за эту госпитализацию или же сделано это было взамен за услугу, Барсуков не знал и не хотел об этом думать. Его интересовала только его собственная доля.
В тюрьме работа не сахар, того и гляди подхватишь туберкулез или взбесившийся от безысходности арестант наградит тебя СПИДом, вцепившись зубами в руку. Корячиться за одну зарплату, проводя каждый божий день за решеткой в обществе преступников, нормальный человек не согласится. И потому взятки Петр Алексеевич считал справедливой добавкой к денежному довольствию. Он-то считал, но государство полагало иначе, вот и боялся всего Барсуков, боялся панически.
«Боже мой, – думал он, глядя на свою машину, поблескивающую лаком на солнце, – ведь могу же позволить купить себе хороший новый автомобиль – немецкий или японский, а езжу на отечественной развалюхе. Могу купить квартиру побольше и ближе к центру, но живу с женой в той, какую получил еще от государства. Могу поехать отдыхать за границу, но приходится ездить в Сочи и жить в дешевеньком доме отдыха… Но ничего, когда выйду на пенсию, оттянусь. Вот тогда и пригодятся мои сбережения. Пенсионерами никто не интересуется», – утешил себя тюремный врач.
Сигарета сотлела уже до самого фильтра, а Барсуков не выпускал ее из пальцев и даже время от времени делал вид, что затягивается. Он не боялся, что его обманут и не привезут обещанные деньги, он боялся, что его словят родные правоохранительные органы. На стоянку зарулил черный «БМВ» с тонированными стеклами. Автомобиль медленно ехал, словно водитель выбирал место для парковки. Барсуков следил за ним, не отрывая глаз. Возле «Жигулей» водитель даже не сбросил скорость. Вроде бы ничего и не произошло, но напряженный взгляд тюремного врача засек, как из окошка «БМВ» вылетел небольшой цилиндрик и прямиком угодил в приоткрытое окошко «Жигулей». Проехав стоянку насквозь, «БМВ» покинул ее и вскоре уже растворился среди других машин, на прощание мигнув Барсукову габаритами.
Петр Алексеевич задумчиво принялся насвистывать мелодию из Моцарта. Он возвращался к машине не прямиком, а заложив крюк, чтобы удостовериться – никто за ним не следит. Лишь оказавшись в салоне, он решился заглянуть в зеркальце заднего вида, укрепленное на ветровом стекле. Поправил его и разглядел на заднем сиденье небольшой, но тугой скруток долларов, завернутый в прозрачный полиэтилен и перетянутый аптекарской резинкой. Тут же отвел взгляд. Даже если бы сейчас на его машину налетели «маски-шоу», а омоновцы выволокли и бросили его лицом на асфальт, доказать потом было бы ничего невозможно. Отпечатков пальцев на деньгах нет.
«Подбросили!» – твердо стоял бы он на своем, и самое странное, что его оправдали бы.
В том, что при надобности у него окажется один из лучших адвокатов России, Барсуков не сомневался, сидельцы Бутырки, кому он оказывал услуги, пусть и платные, постарались бы. Лепила, если он не зверь, считай, единственная уважаемая арестантами профессия в тюрьме. И рассуждение типа: «Все равно на должность Барсукова не вернут. Зачем ему помогать?» – не прошла бы. Придет другой врач, но он будет твердо знать, что в беде его не оставят.
Примерно так рассуждал Петр Алексеевич, выезжая со стоянки. Он твердо знал, что не дотронется до денег, прежде чем не остановится в собственном дворе. Он даже дверки в машине не блокировал, чтобы потом в случае чего иметь возможность оправдаться: «Я же ни от кого не прятался. Да если бы я боялся, то закрылся бы наглухо».
Конечно, рассуждения врача были чем-то схожи с мальчишескими. Дети тоже любят по сотне раз прокручивать одну и ту же ситуацию, всякий раз пытаясь предугадать и предотвратить возможные ошибки. Они заранее придумывают, что скажут сами, и сами же отвечают за собеседника. А потом обязательно случается совсем не так, как они думали. Жизнь – она лучший режиссер.
Так же случилось и с Барсуковым…
Он старательно избегал оглядываться, чтобы случайно не наткнуться взглядом на доллары, полученные за переправку блатных в тюремную больничку. Город плох тем, что в нем много светофоров. На одном из них, когда Петр Алексеевич еще не успел заскучать, ожидая зеленого сигнала, из машины остановившейся за ним – темно-зеленого, почти черного «Гранд Чероки», вышел элегантный мужчина и тут же направился к «Жигулям». Барсуков вздрогнул, когда заметил за стеклом темный силуэт, его взгляд приковал к себе красный галстук. Рука сама собой потянулась к кнопке блокировки дверцы. Мужчина нагнулся и постучал в стекло согнутым пальцем.
– Разрешите к вам, Петр Алексеевич. Свет скоро переключат. Не стоять же мне посреди проезжей части.
У Барсукова немного отлегло от сердца, когда он признал в мужчине, обладателе красного галстука, адвоката – Святослава Нардова.
– А… это вы, – и тюремный врач приоткрыл дверцу, – садитесь.
Барсуков затравленно оглянулся, чтобы увидеть, кто же остался в машине, которую покинул адвокат. Но солнцезащитный козырек был опущен, и Петру Алексеевичу пришлось довольствоваться лишь созерцанием волевого, по-модному небритого подбородка.
– Не волнуйтесь, езжайте, как ехали, меня подберут, – адвокат улыбнулся одной из своих располагающих к искренности улыбок, – есть небольшой разговор.
«Улыбается, наверное, деньги заметил, – похолодело в душе у тюремного врача, – какого хрена ему надо?»
На перекрестке «Гранд Чероки» послушно свернул за «Жигулями».
– Я вас слушаю.
– Прошу об одной чисто товарищеской, профессиональной услуге. – Нардов довольно бесцеремонно открыл перчаточный ящик в машине и одну за другой положил на крышку пять стодолларовых купюр, придавил их пачкой сигарет. – В тюремной больнице…
«Далась им всем тюремная больница, – подумал Барсуков, – куда он клонит?»
– …так вот, в тюремной больнице, – продолжил адвокат, – завтра вам предстоит вызвать к одному пострадавшему консультанта – доктора Иванова, из двадцатой больницы. Скажете, что пострадавший, на ваш взгляд, нетранспортабельный, и доставить его в городскую больницу для консультации невозможно.
– Погодите, – возмутился Барсуков, – нет у меня сейчас в больнице нетранспортабельного больного. Нет.
– Завтра будет, к вечеру он будет точно, – голос Нардова переливался, как горный ручей, – фамилии, к сожалению, назвать еще не могу. Консультанта с реанимационной бригадой вызовите вечером, так, чтобы приехать они могли уже ночью.
– Если вы собираетесь устроить побег, то я…
– Какой побег? Стал бы я в этом участвовать! Просто одному человеку очень нужно побывать в тюремной больнице для важного разговора. Вы же знаете доктора Иванова?
– Конечно, знаю – он ведущий реаниматолог.
– Тогда чего вы опасаетесь? – Адвокат поигрывал откинутой крышкой перчаточного ящика, на которой лежали придавленные пачкой сигарет доллары.
– Начальник тюрьмы – не дурак. Мне и так уже пришлось сегодня рискнуть.
– Конечно, не дурак, и в этом я успел убедиться, мы беседовали совсем недавно. Смею вас заверить, больница в ближайшие дни его совсем не будет интересовать, – указательным пальцем Нардов прикоснулся к деньгам, – вы всего лишь перестрахуетесь, вызовете реаниматолога. Никому не хочется, чтобы арестант помер в больнице из-за того, что ему вовремя не оказали помощь. Журналисты любят обсасывать подобные трагедии. А вы проявите гуманность. Начальник подпишет пропуск на реанимобиль и спокойно уедет домой. Вы тоже.
Барсуков колебался. Подставы со стороны адвоката он не опасался, тот ни за что не стал бы рисковать своей репутацией, и не потому, что был очень честным и порядочным. Таких людей среди адвокатов, пожалуй, вовсе не отыскать – не та специфика профессии. Просто, подставив один раз, навсегда потеряешь доверие, тебе больше никто не сделает поблажки, ни за красивые глаза, ни за деньги. Единственный вариант, при котором Нардов мог пойти на подставу, если бы ему заплатили больше, чем он рассчитывал заработать на клиентах до конца жизни. А такие деньги предложить некому. Да и зачем?
«Хотя, если планируется побег, могут выложить огромные бабки, – подумал врач, – не стоит себя мучить, – решился он наконец, – надо соглашаться. Стоит только поторговаться».
– Я вас слушаю, – Барсуков бросил равнодушный взгляд на деньги.
– Я уже все сказал. Жду только вашего согласия.
В зеркальце заднего вида маячил «Гранд Чероки» с небритым мужчиной за рулем. Отражение в маленьком зеркальце прыгало, и тюремный врач никак не мог рассмотреть лицо.
– Даже не знаю, что вам и сказать. Вы меня толкаете на должностное преступление.
– Помилуйте, – засмеялся Нардов, – вся предыдущая часть разговора не более чем возможное допущение. Ведь пострадавший в больницу еще не поступал, он мирно сидит в Бутырке. Он даже знать не будет, почему угодил в больницу и почему к нему отнесутся там с подобающей цивилизованной стране гуманностью. Это только допущение, рассуждения. А факты…
Барсуков глянул на адвоката, в его глазах Нардов прочитал:
«Что ты мне втираешь? Неужели не понял, что денег мало предложил? А если тебя только на полштуки уполномочили, то выметайся из машины. За мелочовку не берусь».
Вновь раскрылось портмоне, Нардов вытащил еще две стодолларовые бумажки, подхватил сигаретную пачку, бросил их сверху пяти банкнот и тут же захлопнул перчаточный ящик.
– Вот и все, – сказал он и промокнул лоб носовым платком.
Барсуков только кивнул в ответ.
– Остановите. Дальше я сам, – попросил Нардов, – день выдался тяжелый. Но удачный благодаря вам. Теперь можно и расслабиться.
– У меня каждый день тяжелый.
– Сочувствую. Но терпение и усилия непременно вознаграждаются. Всего доброго.
«Жигули» притормозили у бордюра. Элегантно одетый Нардов выбрался из машины. Выходя, придержал рукой красный галстук. Тут же остановился и «Гранд Чероки», чтобы подобрать адвоката. Барсуков дождался, пока огромный и торжественный, словно дорогой лакированный гроб, джип отъедет. За рулем сидел явно не простой шофер – наемные люди так властно не смотрят на мир.
«Видел я его раньше или нет?» – задумался Барсуков.
Память на лица он имел плохую. Лица пациентов его никогда не интересовали, зато держал в памяти особенности строения тел тех, кого ему приходилось осматривать. Досконально помнил татуировки, но не лица.
«Взгляд у небритого странный, – решил тюремный врач, – вроде как правый глаз слегка косит, сразу и не поймешь, куда смотрит».
Барсуков благополучно доехал до своего двора, припарковал скромные «Жигули» между двумя иномарками и заглушил двигатель. На дворовой стоянке было пусто – ни одного человека. Деньги из перчаточного ящика он выгреб и, не пересчитывая, сунул в карман. Новенькие купюры захрустели. Скруток с баксами зажал в кулаке. Деньги буквально жгли руку, ему не терпелось от них избавиться. Тюремный врач не стал подниматься домой, а сразу спустился в подвал. Чем-то подвальный коридор напоминал ему бутырские переходы. Те же пронумерованные двери, такая же сырость, слабое освещение, только все исполнено в миниатюре и не хватает решеток-перегородок. Закрывшись в собственном сарае, Барсуков осторожно выдвинул из стены кусок чугунной канализационной трубы. Внешне она смотрелась как самый банальный «стояк», но на самом деле начиналась у потолка и кончалась в выемке бетонного пола. Деньги, для надежности завернутые в блестящий станиоль и закрученные в толстый полиэтилен, исчезли в ее недрах.
«Ну вот и все, – с облегчением вздохнул врач, – теперь можно по совету адвоката и расслабиться. Завтра еще немного поволноваться, а там и выходные».
Нардов тем временем еще не мог себе позволить отдых. Он вертел в пальцах изрядно опустевшую пачку сигарет. Наконец «Гранд Чероки» свернул в боковую улицу и замер у пустынного тротуара.
– Как понимаю, он взял? – поинтересовался чуть небритый мужчина, снял руки с руля и негромко включил в салоне музыку.
– Само собой разумеется, – в глазах адвоката уже не было прежней брезгливости, – я еще не встречал человека, который был бы способен отказаться от денег. Даже среди сумасшедших.
– А мне приходилось.
– Среди кого?
– Среди блатных.
– Значит, вы им мало предлагали. Барсуков тоже не сразу согласился. Половина штуки его не устроила, но семьсот взял.
– Оборзели менты, думают, что раз Москва – столица, то можно и ставки заламывать космические. Скоро за бутылку водки, пронесенную в СИЗО, по сотке станут требовать.
– Барсуков подумал, что побег замыслили.
– Ты ему объяснил?
– Как сумел. Если бы не поверил, не взял бы.
– Хорошо, теперь езжай в двадцатую больницу. Надо, чтобы реаниматолог не передумал.
– Все получится. – Нардов улыбнулся и прикоснулся ладонью ко лбу. – Я пошел?
– Валяй.
«Гранд Чероки» буквально взрыл асфальт шипованными протекторами и умчался по пустынной улице.
– С огнем играет Артист, – то ли восхищаясь, то ли осуждая, произнес адвокат вслед удаляющемуся джипу.
Глава 2
Грохоча алюминиевыми поддонами и распространяя запах тухловатой рыбы, «ЗИЛ» с ярко-голубым рефрижератором, на котором красовалась новенькая надпись «Рыба – Пеликанов и К°», отъехал от рампы. Металлическая дверь магазина с грохотом захлопнулась. Два небритых уставших грузчика в темно-синих халатах и грязных кожаных передниках сошли по ступенькам с рампы. Они устроились в тени каштана, единственного на весь двор полноценно растущего дерева. Грузчики сидели на пластиковых ящиках и курили. Перед каждым стояло по бутылке пива.
Не прошло и минуты, как к рампе подлетел темно-синий легковой автомобиль «БМВ» седьмой модели, каких в Москве тысячи. Взвизгнули тормоза, машина замерла как вкопанная, двигатель мгновенно смолк. Между бампером и бетонной рампой расстояние измерялось сантиметрами.
– Во дает! Снайпер, – нервно затянувшись сигаретой без фильтра, пробурчал пожилой грузчик. – И коробок спичечный не проскочит.
– И машины им не жалко, – в тон ему, словно автомобиль являлся его собственностью, сказал грузчик помоложе, выковыривая ногтем из глубокой морщины на запястье присохшую рыбную чешую.
Из машины уже выбрались двое мужчин лет по двадцать пять в черных джинсах и кроссовках. Оба коротко стриженные, с крепкими шеями, покатыми плечами. На одном была джинсовая рубашка цвета весеннего неба, а на другом вишневая майка без рукавов – рельефные бицепсы украшала густая, как паутина, татуировка. Парни огляделись по сторонам. По грузчикам скользнули такими взглядами, словно те были не люди, а дворовые коты, которые крутятся в надежде стащить кусок мороженой рыбы.
Мужчина в майке без рукавов посмотрел на часы.
– Ну что, идем?
– Однако и смрад здесь! – сказал его приятель, брезгливо морща сломанный нос.
– Все надо делать вовремя, чики-чики, – растопырил пальцы и пошевелил ими парень в майке.
– А это кто такие? – глядя на широкие спины парней, которые поднимались по ступенькам к обитой железом двери магазина, поинтересовался молодой грузчик.
– Инкассация, – услышал он в ответ от своего напарника.
– У вас тут хоть деньги регулярно платят? Устраивался, обещали, что задержек не будет.
– Задержки – это не для мужиков, для баб. Когда придет день получки, тогда и узнаешь, как тут платят, – немолодой грузчик с фиолетовыми прожилками на щеках и белыми склеротичными пятнышками на кистях рук сказал и отвернулся от бетонной рампы, словно все происходящее его абсолютно не касалось.
Парень в джинсовой рубашке схватился за дверную ручку, трижды дернул. Дверь не открылась.
– Не понял, – сказал он, обращаясь к двери, – это еще что такое?
Второй сжимал и разжимал напарафиненные кулаки. Лицо у него было абсолютно отсутствующим. Парень в джинсовой рубашке стал к двери спиной и трижды так сильно ударил в дверь ногой, что та задрожала, а по двору покатилось эхо. Даже голуби, сидевшие на жестяной крыше над рампой, взлетели и рассыпались в воздухе как фейерверк.
– Петрович, подожди! – раздался из-за двери женский голос.
– Какой Петрович на хрен! Открывай калитку! – рявкнул и еще раз ударил в дверь ногой парень в голубой джинсе.
– Так это не ты, Петрович? – раздраженно прозвучало из-за двери.
– Нет.
– А кто?
– Дед Пихто, дура! Инкассация.
– Ой, извините!
Парень в джинсовке говорил так уверенно, словно весь этот двор, дом и магазин принадлежали ему. Из «БМВ» летели песни знаменитого и популярного «Лесоповала». Молодой грузчик пил пиво и, сидя, притоптывал в такт музыке, он с интересом следил за приехавшими парнями. А что еще? Подтаявшую рыбу они перегрузили, пустую тару вынесли в рефрижератор, так что можно и отдохнуть, расслабиться.
Теперь уже парень в майке посмотрел на часы, сплюнул под ноги.
– Что-то настроение у меня начинает портиться. Не нравится мне.
– Чего тебе не нравится?
– «Пеликанов и K°».
– А-а, – сказал парень в джинсовке, и у него под широкими скулами забегали желваки.
Не успел в замке повернуться ключ, как парень так рванул на себя дверь, что девушка в белом халате с растрепанными каштановыми волосами вылетела чуть ли ему не на руки. Она что-то хотела сказать, но, увидев звероватые мрачные лица и татуированные бицепсы, втянула голову в плечи.
– Хозяин на месте? – почти нежно спросил парень в майке, заглядывая девушке в глаза.
Губы с размазанной помадой шевельнулись, она тряхнула головой, показывая в глубь магазина.
Ей, с огромным трудом устроившейся на работу две недели назад, хозяином магазина представлялся директор, тридцатисемилетний толстяк в льняном костюме, пахнущий дорогим, по ее мнению, одеколоном. Директор магазина Валерий Федорович Желтков только что пытался отыметь молоденькую неопытную продавщицу, и, если бы не грохот в дверь, возможно, ему бы это и удалось. Он был раздражен, сидел в тесном кабинетике под вентилятором и жадно, как рыба, выброшенная на берег, хватал прохладный воздух пухлыми губами. Жалюзи на окне были плотно закрыты.
Фима и Серый привычно прошли знакомым коридором, свернули направо, обошли два огромных холодильника и оказались перед дверью директорского кабинета. Фима одернул джинсовую рубашку, а Серый вытянул руки из карманов джинсов. Они вошли в кабинет, и там тут же сделалось катастрофически мало места. Пришельцы уставились на директора. Тот ответил им таким же вопросительным взглядом.
– Хозяин где? – Фима подошел к Валерию Федоровичу Желткову вплотную, развернул вентилятор на себя и подставил голову под упругую струю воздуха. – Что, в пот кинуло? – Хмыкнув, он уставился на темное пятно пота на майке директора магазина.
– А что вам, собственно, угодно? – Директор хотел подняться, но Фима опустил руку на жирное плечо и вдавил директора в кресло.
– Ты не понял, что ли, кто мы, по какому делу? Хозяин не предупредил?
Валерий Федорович опять попытался встать с кресла, но это ему не удалось. Он даже покраснел от натуги.
– Сиди, не менжуйся. У вас и так тут смердит, ты же не станешь воздух портить? Мы по два раза ходить не любим. Филки гони! – Серый сел на стол и стал рассматривать кулак, накачанный парафином.
– Мне хозяин никаких распоряжений не давал.
– Ах так, не давал? Забыл, наверное? – переглянулись Фима и Серый. – Пеликан забыл. Обидно. Ну, раз мы уже здесь, чтобы два раза не ходить, – сказал Фима, – ты должен будешь ему напоминать об этом каждый месяц. Ты ему будешь напоминать, договорились?
– Что я ему должен напоминать?
– Ну и лох!