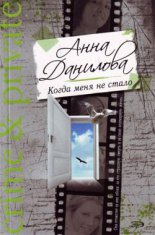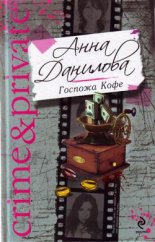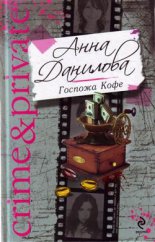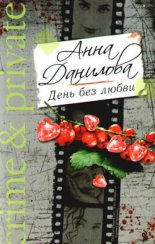Повелитель монгольского ветра (сборник) Воеводин Игорь

15 сентября 2005 года, дельта Волги, о. Средний, Россия
Энгр присел на песочек. Он сидел лицом к воде, как всегда, безучастный к происходящему, отрешенный, погрузившись в какие-то свои бесконечные и невеселые мысли.
Шайка радовалась удаче, рассматривала дублоны и спорила из-за добычи: кому-то не досталось ничего.
Бек-хан и Хозяин отошли на пригорок, к самой каменной бабе.
Солнце плавило воздух, дышало сверху тысячью печей, но баба, так же равнодушно, как и тысячи лет, смотрела вдаль, поверх людских ссор и дрязг, поверх камышей, лодок и волн, лицо ее было бесстрастным, и только плотно сжатые губы выдавали затаенную горечь и вековую скорбь.
– Слушай, – начал Хозяин, – я всегда знал, что ты умный и храбрый человек. А это стоит дороже золота, сколько бы там внизу его ни было.
Бек-хан не ответил.
– Эти – быдло, человеческий материал, серая масса, планктон, – продолжал бритоголовый, – да и сынок мой тот еще слизняк. Дело, Хан, дело некому делать! Давай забудем распри, ты будешь мне правой рукой, компаньоном, другом. Неужели ты не понимаешь, что мне, по большому счету, плевать на это золото, как тебе или этому твоему шизику? Мне просто интересно делать дела. Хан, мы с тобой такое замутим! Да пойми же ты, нас мало, совсем мало, тех, кто над толпой, и мы должны наконец-то научиться договариваться, а не жрать друг друга!
Бек-хан медленно поднял свои глаза-бойницы на говорившего. В них не было ни боли, ни огня, ни отблесков внутренней борьбы. В них была только сосредоточенность.
– А что же ты не пришел ко мне с этими словами сразу? – выговорил он.
– Недооценил тебя.
– Нет. Нам не по пути.
– Хан! Ты понимаешь, что, если мы не договоримся, я буду вынужден вас убить, и тебя, и психа твоего? Я не могу жить, ожидая мести…
Бек-хан только пожал плечами.
– Что ж…
– Много там, внизу?
– Много.
– Ладно. Возьми Ферта, нырни с ним, покажи все и возвращайся. Не к лицу тебе на побегушках…
Бек-хан, повернувшись к нему спиной, начал спускаться к воде.
– Эй, Ферт! – крикнул Хозяин. – Нырнешь с ним…
Ферт заныл:
– Алексеич! Алексеич! Прикажи, чтобы бабки мои, пока нырять буду, никто не стырил…
– Ныряй, сука, не дешеви, – вполголоса произнес главарь, и Ферт понуро начал раздеваться.
Оставшись в красных синими цветами семейных трусах, он попытался распрямить плечи, дабы выглядеть грознее, но под ядовитый смех приятелей снова сдулся и побрел за Бек-ханом в воду. Хозяин подошел к Энгру.
– Встань.
Тот поднялся и повернулся к нему лицом.
– Ну что, юродивый? Жить хочешь?
– Неужели ты думаешь, что властен над жизнью и смертью? – чуть усмехнувшись, ответил тот.
– А вот сейчас и посмотрим, – очень серьезно сказал Хозяин. – Кончайте его, хлопцы. И Бека, как вынырнут.
Один из гориллообразных медленно пошел к Энгру, держа руку за спиной.
– Что же ты прячешь нож? – спросил его Энгр. – Я не баран, не испугаюсь…
Хозяин насупился еще больше и вдруг, как-то страшно хекнув, выдохнув, стал оседать. Стрела пробила ему грудь, вой дя со спины.
Изумленно обернулась горилла, и вторая стрела, пущенная с пригорка от каменной скифской бабы, вошла ему в горло.
Гнус бросился к лодке, а вторая горилла и Граф врассыпную.
Нож, старый боевой нож, кинутый с пригорка, настиг широкоплечего у самых кустов, и в этот момент Гнус выхватил со дна байды автомат:
– Ша, пацаны! – Он передернул затвор «калаша» и дал очередь веером от живота.
Бек-хан еле успел отскочить за статую, и осколки камней брызнули по пригорку.
Гнус подскочил к Энгру и упер дуло автомата тому в спину.
– Хан! Эй, Хан! – заорал он. – Ты где, падло?!
Ему никто не ответил.
– Хан! – истерично продолжал орать он. – Считаю до трех! Не выйдешь, каюк психу! Раз! – Энгр сглотнул слюну и искоса взглянул на Гнуса. – Два! – Ствол автомата дрожал.
– Эй! – раздался окрик сзади, из воды. Гнус на секунду, на полсекунды повернул голову, и Энгр, развернувшись, левой рукой схватив автомат, ребром правой ударил его по горлу, разрубив кадык.
Что-то булькнуло, глаза Гнуса начали закатываться, и он медленно осел на песок.
Подскочивший Бек-хан ударил его сзади ножом, но это вряд ли уже требовалось.
В воздухе, раскаленном воздухе, отчетливо пахло кровью.
Но все так же смотрела вдаль скифская баба, только щербинки от пуль на ее бесстрастном лице были похожи то ли на оспины, то ли на слезы.
– Эй, пацаны! – раздался дрожащий голос из кустов, и к ним медленно начал приближаться Граф. – Пацаны, это… А вам верный человек неужели не нужен? А, пацаны? Ты, это, Хан. Он – Барон. Ну а я вроде как Граф… А, пацаны? Договоримся?
7 июля 1921 года, Урга (Улан-Батор), Внешняя Монголия
– Михаил Левонтьевич, Михаил Левонтьевич! Хозяин, вы здесь? – Дородная деваха телом крупна, лицом красна, деликатно стучалась-царапалась в резного дуба дверь кабинета. – Барин! Да барин же! Люди к вам какие-то.
Рожков, доверенный пушной лондонской фирмы «Сурки Биндермана», нехотя откликнулся:
– Войди…
Он только-только успел разложить, схоронить до лучших времен по потайным ящичкам бюро красного дерева дневную выручку. Ящички закрывались со стуком. Замочки скрипели. Затейливый ключик с шелестом скользнул в карман атласного жилета. Жилет был желтый, китайского материала, но птицы на нем русские, сказочные, алконост, да сирин, да гамаюн.
– Дак люди ж к вам, Михайло Левонтьич, – скороговоркой повторила девка, – дак и люди-то – одно название… Поди, беженцы, што ли?
Рожков поморщился. Маленький, юркий, щупленький, шорт, как называли его монголы, с раннего утра он носился по ургинскому базару, вынюхивая, где бы по сходной цене закупить привозимое монголами сырье. В карманах у него всегда водилось серебро, довод для монголов решающий. Оно манило, слепило, сетями опутывало души простых и наивных детей степи, и весь базар, вся Урга, вся степь – ну, не вся, но наполовину – была в сухоньких ручках Рожкова. К вящему неудовольствию всех шибаев[47], как ургинских, рядских, так и пришлых.
Еще черти в кулачки не бьют, а уж шорт весь товар скупил, – гудели за чаем в русском трактире даурские купцы степенные, дородные, бороды лопатами, кафтаны киндяковые[48], алтабасовые[49], наопашь[50], жилетки поверх бязевых рубах.
Дак што уж, после Рожкова на базаре не пообедаешь, – вторили им староверы с Мухоршибири, ширококостные, плосколицые, волосы в скобку, армяки нараспашку, жилетки аксамитовые[51] застегнуты на все пуговки, широкие тиковые штанины пущены, свисая, вдоль «граммофона» – сапог гармошкой.
Лица красны у тех и у других, «пара чая» превращалась в седьмой-осьмой стакан. Пили с блюдец, держа их в растопыренных мясистых ладонях. Дули на блюдца, пот лоснился на медных лбах, кто пил вприкуску, кто цедя чай меж зажатого в крупных, лошадиных зубах кусочка сахара, половые же, то китайцы, то монголы, то баргуты, «вприглядку», жадно следя раскосыми глазами, как быстро тает колотая никелированными щипцами сахарная голова.
– Вс-с-с-с… – цедит чай старовер.
Даурец перевернул пустую чашку на блюдце вверх дном. Чашка стукнула.
Повинуясь звуку, «человек» – китайчонок лет десяти-одиннадцати – поставил на стол бараний бок с гречневой кашей, с рубленым луком, яйцами, да «белую головку», да чайные стаканы, протерев их подолом длинной замашной[52] русской рубахи.
Мухоршибирец глянул одобрительно.
– Кушайте, – пригласил даурец и, засучив рукава, всей пятерней отломил себе кусок.
Оно, конечно, и еда нечистая, иноверцы готовили, и посуда поганая – раскольники осквернили, но негоция дело тонкое, как бы «бобра не убить»[53], не обмишуриться, да и голод не тетка, и кержак тоже засучил рукава.
– А энтого? Того-c? – мигнул глазом даурец на штоф. – Да не сумлевайтесь, не водка, а чистый киндер-бальзам!
Но от этого угощения его визави стойко отказался.
Рожков, скользнув к выходу мимо девахи, не удержался и ухватился маленькими ладошками за ее внушительные груди. Та притворно ойкнула и вроде как запротестовала. При сунувшись ближе, Рожков скомкал ей подол и ухватился обеими ручками за огнедышащий зад.
Девка обняла его так, что хрустнули позвонки в узенькой хозяйской спинке. После, шепнула дородная кокодетка, прижимая его к себе: «Опосля, как энтих спроводишь…»
И доверенный «короля сурков», как звали Биндермана на лондонской пушной бирже, напевая «Гром победы раздавайся», спустился вниз.
Четверо посетителей – трое мужчин и одна женщина, плохо одетые, изможденные и явно голодные, – ждали его в гостиной.
– Михаил Леонтьевич, здравствуйте, – в пояс поклонился один из них, молодой человек лет тридцати. – Не помните меня, Михаил Леонтьевич? Федора Демьяныча, купца второй гильдии Носкова, сын, дела с вами имел…
– Помню, помню, – нахмурившись и брезгливо сторонясь от придвинувшегося к нему человека, выговорил Рожков. – Да вы садитесь, садитесь, господа! – спохватился он и уселся в кресла сам.
Гости опустились на стулья.
– Позвольте, батюшка Михаил Леонтьевич, спутников моих представить, – начал гость. – Купец первой гильдии Шнуров, адвокат иркутский Келлер и вдова полковника Сокова, Клавдея Алексеевна…
Рожков, кланяясь, мельком глянул на даму и мимоходом отметил ее еще не угасшую красоту, влекущую стройность и вопиющую незащищенность.
– Еле вырвались из Чеки, Михаил Леонтьевич, – продолжал рассказ Носков. – Мои все так и сидят в Чрезвычайке…
Гость просил дать денег на выкуп семьи и приюта на несколько дней, пока не устроятся.
«А возни с ней, может, и немного будет, – лениво думал Рожков, краем глаза отмечая, как зарделась дама, как волнуется ее грудь. – Куда ей деваться… Отмыть, откормить, и это… Айда…»
– Что ж, господа, – сказал он, поднимаясь, – на фатеру вас сейчас же разместят, а вот с деньгами, милостивые государи, прямо и не знаю, как и быть, – нету денег-то… Так что-с, прошу пардону, но асикурировать[54] никак-с не могу-с…
Гости встали. Говоривший проситель комкал в руках шляпу из фетра, порыжелую, в пятнах.
– Hy-с, а вас, государыня, устроим-с мы отдельно-с, – не произнес – пропел Рожков и придавил пупочку звонка. – Устрой гостью нашу, Меланья, – скомандовал он вплывшей в покои девке, – а господ проводи во флигелек…
…Вечерело. Флигелек, а это оказался сарай не сарай, барак не барак, а бывшая столярная мастерская, любил когда-то Рожков мастерить, погружался во тьму. Двое мужчин расположились на кути[55], третий – на верстаке.
Картошка остывала в чугунке, на столе сиротливо стояли чайник и стаканы.
Ветер, бесприютный монгольский ветер-скиталец лез во все щели, теребил полы летних пальто беженцев, сушил их глаза.
– Эх, господа! – отставив стакан с недопитым спитым чайком (чаю щедрый хозяин отсыпал мало, и приходилось заваривать нифиля), начал адвокат. – А я ведь, господа, мальчишкой с папашей на царских обедах московских, коронационных, присутствовал! Вот жизнь была, сам себе не верю!
И несмотря на то, что собеседники никакого видимого интереса к теме не высказали, рассказчик продолжал:
– Вот, к примеру, меню обеда обычного, так сказать, партикулярного: суп раковый с пирожками, дикая коза, котлет ки-с куриные, заливное, какое же заливное-то подавали? Дай бог памяти…
– С судаков, поди? – подсказал было Носков.
– С ершей! С ершей, судари вы мои, чтоб мне пропасть!
– Да, навар с ерша богатый, – уважительно отозвался Носков. – Да-c… Значит, потом дичь на жаркое, да салаты, да горох стручковый, да мороженое…
– А вы, стало быть, и коронацию помните?
– Вот смешное ведь дело! Коронацию не помню, а обеды, меню их, на всю жизнь в память врезались… Батюшка-то мой из немцев, изволите видеть, хоть и обрусевших, но на кухню внимания не обращал, бутерброды да яишня, а у меня-то глаза и разбежались, даром что мал, да удал…
Смеркалось.
Налив еще чайку, адвокат продолжал:
– А вот что не меня, мальчишку, потрясло… Да меня там и быть не могло, батюшка домой программку принес, сановники даже поражены этакой роскошью были!.. Так это обед в самый день коронации, для членов Царствующего дома да правительства…
– А ваш-то батюшка, позвольте спросить, каким боком там оказался?
– В охранном-с отделении служил, революционеров вылавливал, да, видать, не всех поймал… Так вот, господа, помирать буду, тот обед не забуду, хоть сам и не едал, и не видал… Значит, перво-наперво на специальных столах были собраны все закуски русские, которые только из истории известны, 160 блюд, господа! А обедавших было ровно 150 персон… Затем само меню шло: копченые рыбы да соленые – семужка, лососинушка, осетринка, белужка, севрюжка, нельмушка, белорыбица, сиги, сиги, господа! По полпуда каждый… Да сельди, сельди, сосьвинская сельдь да жупановская, да залом, да омуль байкальский, да муксун – это, господа, из солидных рыб, царских. А уж корюшек ленских да ряпушек ладожских и не считал никто, так-то…
– Ну а за рыбой? – сглотнув слюну, спросил Носков.
– Да, вот тут-то чудеса и начинаются. Значит, икорка черная зернистая, паюсная, само собой, и впервые, впервые-с, господа, осетровая черная, так и называемая императорская. Красная семужья, мельничья-с, кетовая, да рыбы горбуши, да кижучовая. Салаты-с из раков севанских да крабов сахалинских с яйцами да с красной икрой.
Он перевел дух и огляделся. Флигелек тонул во мраке, и третий спутник – степенный купец – затеплил припасенный сальный огарок.
– Грибки, – не сказал, а выстонал рассказчик, – грибки-c, господа… Рыжики соленые, белые, грузди белые вологодские да черные тверские, сморчки да строчки, век тех строчков не знал, да все попробовать желаю… Затем колбасы шли: страсбургская из гусиных печенок, тюрингенская, гамбургская, брауншвейгская – все от Елисеева, да окорока тамбовские. Затем паштеты: куриный, перепелиный, куропаточный да гусиный, да копченый телячий язычок-с… Да все под блинки, под блиночки-с гречневые да гречнево-пшеничные…
Он замолчал.
– Ну же, ну же-с, – задыхаясь, торопил Носков, – а супы? Супы-то были?
Но адвокат ничего не ответил, а лишь, махнув рукой, отвернулся к низенькому сумрачному оконцу – не окошку, а амбразуре – и глухо зарыдал. Тощая его шея, торчавшая из воротника нелепого драпового грязного пальто с намотанной какой-то тряпкой, тряслась и вздрагивала.
– А большая он сволочь, этот твой Рожков, – промолвил весь день молчавший Шнуров и макнул картофелину в соль. – Знал я, да молчал, надеясь, может, исправился человек – ан нет, экую аванию[56] нанес…
– Так вы его, оказывается, знали, Степан Пантелеевич? – оживился Носков.
– Знавал-с. В коммерческом вместе обучались. Да он у нас, мухортенький, вечно битым бывал за то, сударь вы мой, что жрал по ночам один да доносил. Да что там? Крамарь[57] он и есть крамарь, хоть ты его на золоте корми, паскудная душа…
– Эх, кабы знать заранее, – сокрушенно добавил он погодя и перекрестил зевающий рот. – Ну да делать нечего, господа хорошие, давай-ка лучше спать. А я тут неподалеку, к знакомцу, пока суть да дело, прогуляюсь…
…А Меланья грызла кулак в своей каморке и прислушивалась к шуму в хозяйских покоях наверху.
8 июля 1921 года, Урга (Улан-Батор), Внешняя Монголия,3 часа утра, помещение военной комендатуры
– Сукин сын! – Поднятый ташур барона опустился на сухонькую головку подвешенного на дыбу человечка. – Нет денег, нет?!
Палка стукнула и раз, и два.
Рожков дернулся и заверещал. Вывернутые в плечах руки хрустели, и отвратительный этот звук мог свести с ума кого угодно, но не барона.
– Позвольте-с, ваше высокопревосходительство, я спопробаю. – Полковник Сипайлов, главный палач Урги, маньяк и садист, начал подходить-подкрадываться справа. – С этими, пардон сказать, людьми по-иному-с надо…
И железные огромные щипцы опустились на жа ровню.
– Так нет денег на армию?! – Немигающие голубые страшные глаза барона придвинулись к самому лицу доверенного «короля сурков». – Нет?!
– Да нету же, нет! – выстонал-выкрикнул пытаемый.
Дверь в пыточную отворилась.
Нойон Жамболон, посланный с нарядом к Рожкову, молча кивнул на угол троим с ним вошедшим.
Сгибавшиеся под тяжестью мешков казаки свалили их в угол.
Жамболон встретился глазами с бароном и сдержанно кивнул.
Барон, подойдя, распорол кинжалом, выхваченным из-за кушака у казака, бок одного из мешков.
Золото, золото хлынуло ручьем на политые кровью опилки и растеклось.
Стало тихо.
Барон криво усмехнулся.
– Люди, люди, – произнес он, – порожденье крокодилов…
И вышел вон.
…Мешки давно унесли, подобрав золото с пола.
Сипайлов и Рожков остались одни.
– Что ж, – прошипел-прошептал палач, – значит, добрый самаритянин принял дорогих гостей, накормил-напоил да спать уложил?
Он поднял маленькие, черным огнем горевшие глазки на Рожкова, и тот, выдержавший взгляд барона, содрогнулся.
Сипайлов взял щипцы.
– Добро пожаловать в ад, – ощерился он.
16 сентября 2005 года, Казахстан, побережье Каспийского моря
Рита лежала на спине, связанные руки были примотаны длинной веревкой к языку рынды корабельного колокола над обеденным столом, под навесом, где вечерами собиралась за ужином шайка Бек-хана.
Сынуля сидел, расставив ноги в ковбойских сапожках, на лавке под навесом. Было жарко, удушающе жарко, но он не сменил «казаки» на более легкую обувь.
Он лениво шевелил прутиком, возя Маргарите по лицу. Та молча отворачивала голову, когда прутик залезал ей в рот или царапал веки.
Внезапно она одним точным движением, будто змея, вскинулась, поймала прут зубами и с маху перекусила его посередине. Темные ее глаза наотмашь хлестнули Сынулю по лицу.
Тот отпрянул.
Взяв себя в руки, он принужденно засмеялся и покосился на Белую, та загорала на днище перевернутой лодки и вроде бы ничего не видала. Ее оттянутые груди свисали, стекали на обе стороны, и пожухлые вялые соски с коричневыми ареолами темнели под беспощадным солнцем.
– У-у-у, c-сука, – процедил Сынуля, воровато оглянувшись, и ударил Риту носком сапога в ребра. – С-сука…
Рита закусила губу и замычала.
– Эй, сын противный, а по-другому бабу уговорить не умеешь? – раздался голос, и Граф шагнул из-за шалмана ветхого сарайчика – на солнцепек.
Сынуля вскочил и вытер враз вспотевшие ладони о джинсы, узкие дубовые «Rifl e», заправленные в сапоги. Джинсы были из редких теперь серий, способные стоять на полу сами по себе.
– Где… – Он сглотнул. – Где отец? Остальные? Бабки? Бабки где? Нашли, нет?
– Нашли, нашли, не суетись, – спокойно ответил тот и присел в теньке. Заметив, как корчится Рита, он процедил: – Что ж ты, сука, дешевишь? – и смерил Сынулю взглядом.
– А ты, Граф, часом, на ней не потел? Или щекотал ее, а не п…здил, когда за перстенек пытали? – распетушился тот.
– То за дело, – уронил урка, – а ты, марамойка, стой там, ходи сюда, базар к тебе небольшой имеется…
– Сюда смотри, – холодно процедил Бек-хан.
Они стояли с Энгром на беспощадном, жадном, белом всесжигающем свету, и короткие тени прятались позади. Глаза Сынули вылезли из очков.
– Ка… – начал он и осекся, – ка-а-а…
– Эй, Белая! – не поворачивая головы, не сводя глаз с Сынка, уронил Хан. – Развяжи ее…
Подхватившаяся подруга Сынули мигом влетела в халат и кинулась к Рите.
– Щас, щас, Ритуля, – зачастила она, – щас, я мигом, мигом… Вот готово, готово, Ханчик, – забормотала она и стала совать веревку то Хану, то Графу, просительно и жалко улыбнувшись Энгру.
Но никто не посмотрел на нее, она замолчала, и бельевая бечевка вялой белой гадюкой скользнула к ее ногам. Рита встала.
– Хан, Хан, я это, это, я ее не того, ты не думай, – заныл Сынуля. Внезапно лицо его сморщилось, слезы потекли по щекам, и он прошептал: – А где же папа?
Хан глянул ему прямо в глаза, и Сынуля завизжал.
– A-a-а! – голосил он. – A-a-а! Папуля, папочка, папа!
Граф, повинуясь взгляду Энгра, вытащил из-за спины «TT».
– Нет! – заголосил Сынок и повалился в ноги Бек-хану. – Нет! Не надо!
Белая стояла как в ступоре.
– Пожалуйста, брат… Видишь сам – кровь притягивает кровь… – сказал Энгр.
– Брат, мы не можем их отпустить, – с трудом выталкивая слова, сказал Бек-хан. – Они будут мстить…
– Нет! – визжал Сынуля. – Нет, не будем! Нет! Скажи, скажи, Натаха! – полез он на коленях к Белой.
Та подняла голову, глянула на пистолет и опустила ее. Граф взвел курок.
– Ладно, – сумрачно сказал Бек, – пусти их, пусть валят…
– Ты уверен? – спокойно переспросил тот.
– Пусти, – повторил Хан, и Граф, плавно вернув курок на место, убрал пушку.
Сынуля на четвереньках, а потом полувыпрямившись, кинулся к «чероки». Белая еле успела плюхнуться на сиденье рядом с ним, как мотор взвыл, и машина, плюнув песком из-под колес, развернувшись на месте, снеся шалман, полетела в гору.
Рита со стоном упала на грудь Бек-хану.
– Пойду посмотрю, чего пожрать имеется, – сказал Граф и направился к баркасу.
…Остановив машину в километре, по ту сторону вершины сопки, откуда ее не могли видеть с побережья, Сынуля, продолжая подвывать и причитать, вытащил из багажника завернутую в холст «СВД». Приклад снайперской винтовки был отполирован тканью и руками стрелков. Высвобожденный из-под ветоши, тускло блеснул оптический прицел.
– Ты что, ублюдок?! – вцепилась в винтовку Белая. – Ты что, гад, задумал?! Да нас же на куски порвут!
– Ты, ты, джеляб[58]! – заорал он. – Пикни, и я тебя первой тут же положу!
Та отпрянула.
Ползком, ползком взобравшись на макушку горы, он лег в пыль и прах.
Чахлый саксаул тянул к нему сучья, цеплял за одежду, божья коровка села на щеку.
Он зло шлепнул по щеке.
Затаив дыхание, поймал в прицеле фигуру.
Хан и Энгр сидели у кромки прибоя. Энгр, безучастный ко всему, смотрел на воду, туда, где, чуя еще далекую, но долгожданную вечернюю прохладу, чертили над зыбью и кого-то кликали чайки.
Потянуло дымком – Граф запалил сучья, что не брал топор, и приходилось расшибать их молотком.
Бек-хан следил за его действиями.
– Знаешь, брат, в чем разница между нами? – внезапно спросил он.
– Нет, – ответил Энгр.
– Вы – люди Запада – всегда садитесь лицом к воде, – ответил тот. – Мы, степняки, никогда не поворачиваемся спиной к опасности…
В волосках прицела Сынуля видел его лицо так отчетливо, что мог разглядеть оспинки на шее, между ухом и плечом.
Он перестал дышать.
Он не знал, что снайпер перестает дышать и ловит промежуток между ударами сердца, чтобы не сбить мушку.
Он просто сходил с ума от страха. Он чуть не выл. Но он не обмочился.
Большим пальцем он снял винтовку с предохранителя. Указательным придавил курок, тот плавно подался. Внезапно Энгр, повинуясь чему-то, чему нет названия на языке, резко дернулся.
– Пли! – крикнул он. Бек-хан недоуменно повернулся.
И голова Энгра заняла место лица Бек-хана в прицеле. Но Сынуля уже спустил курок.
Граф поднял башку и прислушался. Повернулась Рита, латавшая в теньке платье. Белые бретельки тугого лифчика врезались в ее плечи.
Что-то дунуло в воздухе, что-то, обещавшее прохладу, и сон, и покой, и безмятежность.
Энгр увидел домик, небольшой двухэтажный домик, где по фасаду плющ, и сосны, и сосны, повсюду сосны и ели, и веселый вислоухий пес, что прыжками бросился от крыльца и, встав на задние лапы, передними толкнул в грудь, и отпрянул, и прыгнул в объятия опять, норовя лизнуть горячим языком в щеку.
И кот, лениво наблюдающий за псом с подоконника.
И детские качели, что чуть скрипят, чуть протяжно скрипят на долгожданном вечернем ветерке, на лужайке возле дома, вокруг которого – ветхий и старый дощатый зеленый забор.
И чуть нахмурившаяся синь озера за забором, и маковки куполов церквушки, часовенки неподалеку.
И тени на желто-зеленом лугу.
На крыльцо вышел отец и пристально посмотрел ему прямо в глаза, чуть насмешливо, чуть лукаво, чуть с укоризной, но с радостью и добром.
– Входи, – сказал он.