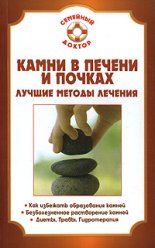Это не страшно Щуров Евгений
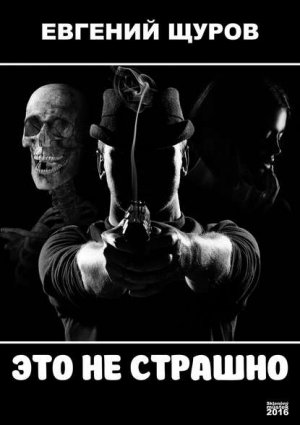
Глава первая
Когда пошел четвертый подряд месяц его, с Лыкиным, дежурств через день, по 34 часа, с четырнадцатичасовым перерывом на все про все, мир вокруг изменился. Потухли краски и оттенки жизни, эмоции куда-то исчезли, еда стала безвкусной, сон перестал давать утреннюю бодрость и, казалось, это – навсегда. Даже то, что «навсегда», не вызывало эмоций: навсегда так навсегда, до смерти или пенсии. Часто дергалась голова, открывая глаза, вдруг одно какое-нибудь веко стало «западать» и его приходилось открывать руками. Мочиться стало трудновато или наоборот, еле добегал; а пару раз и не добегал…. Ну, это уже не от дежурств. Идет сорок шестой год его жизни.
Много лет Иван Николаевич Турчин проработал врачом-терапевтом в провинциальной больнице небольшого южного города. В самом начале его трудовой деятельности было трудно: обилие писанины, обилие пациентов; помаленьку привык, сумел находить свободное время, даже на работе, иногда во вред работе, но, это издержки. Вечерком любил выпить сухого винца, иногда – пива, умеренно, не перегибая палку. Развелся, жил один. Старался побольше читать, следил за своей внешностью и был безумно влюблен в свою замужнюю коллегу, со взаимностью, но без видимых перспектив на семейную жизнь. Это обстоятельство частенько подрывало его внутреннее состояние безмятежности. Приходилось уходить от реальности при помощи упомянутых напитков. Курил Турчин немного. К еде относился без пристрастия, спорить не любил, вредным не был, с оппонентом соглашался, но если чувствовал свою правоту – все равно делал по-своему. От работы никогда не бежал, но и лишнего не искал. К больным относился с искренним состраданием, но только во время общения. После работы – все немощи прочь из головы!
Неравнодушный врач всегда несчастен, в России, в любой другой стране, неважно. Но везде – по разным причинам. В России врач страдает от бессилия, в Европе – от всесилия и заморочек Закона, юридического и этического плана. И вряд ли что изменится в мире больных и врачей в ближайшие века, если Господь дозволит нам столь долго впадать в грех. Все Человечество – это больные и врачи, и эти группы людей периодически перетекают одна в другую. Вот Лыкин и перешел из славной когорты врачей в категорию истинных больных. И дополнительная работа свалилась на плечи доктора сорокапятилетнего. Лыкину же только тридцать. Но Лыкин пива выпивает раз в десять больше. И с солененькой рыбкой. А так – мужик неплохой. И курить периодически бросает, и до зарплаты в долг всегда дает… Но вот сразил его недуг неясной этиологии.
Лирическое отступление.
Самый дурацкий, якобы шуточный, вопрос представителя бесчисленной группы больных:
– А разве доктора болеют?..
Тупо, да?
Но не может же он, доктор Турчин Иван Николаевич, дежурить постоянно! Начались принудительные дежурства тех, кто всегда отвергал дежурства из принципа, от нежелания спать вне дома, по причине наличия несовершеннолетних детей и вообще – а мне надо? Заставить нельзя! Чувство долга? Оно у большинства врачей, медсестер и санитарок атрофировалось и, как рудимент цивилизации, рассосалось, отторглось. Какое-то чувство локтя сохранилось у друга, да нет, просто хорошего товарища, Константина Евгеньевича Шастина, заменившего на время больного Лыкина.
Состояние Ивана Николаевича Турчина усугублялось. Утром четко выступали на первый план симптомы похмелья: тяжесть в голове, тошнота, слабость, неистребимое желание спать и пить много жидкости, стали появляться подобия суицидальных мыслей. Хотя алкоголь заскакивал в организм последний раз пару месяцев назад, на день рождения, в дозе, не превышающей 5–6 кардиологических дринков, а один кардиологический дринк равен 12,5 г чистого алкоголя. Стало вспоминаться, как было когда-то, еще до сорока: «Вчера выпил лишнего. Опять подрался с женой. Голова не хочет слушаться. Монотонно колотит мысль: как же дерьмово вокруг! Надо сходить за пивом. А времени еще мало. Идти пешком – далеко. Придется брать такси. Кружится голова при поворотах. Зачем вчера надрался? Опять наступил на грабли. От граблей болит голова. Тошнотворно звонит мобильник. Привет, Фридрих! Привези пива домой. Крепкого. И три литра сразу. И позвони вечером. Может оказаться мало. Где же жена? Ах, да! Она давно уехала и вышла замуж. Плевать на неё. Скоро будет пиво. Мир примет привычные очертания. Язык начнет слушаться мозга, можно будет осознанно общаться с самим собой хотя бы, раз никого нет рядом. Да и кому я нужен? Такой. А другим становиться неохота».
Так же вела себя голова «с Большого Бодуна» тогда, давно, когда в больницах были лекарства, еще можно было достаточно эффективно лечить пациентов. Если чего-то, импортного, не хватало – на ухо родственникам – доставали сразу и никто из этого не делал кошмара. Попробуй сейчас узнай «страховая», что доктор Урюпин посоветовал приобрести для быстрейшего выздоровления какой-нибудь современный цераксон для любимой тещи – штраф плюс полная оплата этого же самого цераксона из своего кошелька плюс большой пистон от начальства, а начальству – дефектурку, это у них так маленькое замечание называется. Дефектурки накапливаются, собираются в тучки, кучки, начинают нервировать, а там, глядишь, сняли, как не соответствующего. Все для больного! Пациент не должен умереть в больнице! Впрочем, мысль верна – терминальный больной должен скончаться дома, в своей постели, среди родных стен и родственников. У нас почему-то заведомо умирающего больного, с четвертой клинической группой рака, раковой интоксикацией, силой тащат в стационар.
Вот! Сейчас голова мыслит уже не такими короткими фразами, и опыт появляется, и литературку почитываем, и по интернету лазим, а лекарств все меньше.
– Доктор, чем Вы меня лечите?
– Что есть – тем и лечим!
– А чего есть?
– Да ничего почти и нет, милейший.
– А как же я?
– На все Божья воля!
Двадцать первый век, век полетов в космос, на Марс, передовых военных технологий для изощренных мгновенных убийств одного и целых тысяч вражеских солдат; всяких компьютерных, генно-инженерных технологий, магнитно-резонансных томографов, эндоскопических операций, операций в условиях холодовой кардиоплегии, пересадок сердец, печени, легких, почек, яичек, ушей, грудей, пенисов, пластических операций и прочей хрени. В провинции разговор остается коротким:
– Доктор, чем же Вы меня лечите?
– Что есть – тем и лечим!
– А что есть?
– Да ничего почти и нет, уважаемый.
– Как же так?
– На все Божья воля! В храм ходите? Терпите. Тяжело в лечении…
– Легко в гробу??
– Сами сказали.
Хорошие врачи встречаются и среди провинциальных, но те, в некоем Центре, живут много лучше этих, провинциальных; они не только – хорошие, с ежегодно подтверждаемыми сертификатами, высшими категориями, но и занимающие высокие, и, порой, руководящие должности. Да и тот хочет жить лучше и лучше! Нельзя оставаться в одном и том же состоянии на протяжении череды лет, это ниже «современного человеческого достоинства», тем боле, если этот человек – врач, а врач должен расти профессионально и, тем более, в смысле благосостояния. А как расти, если утром – настолько тяжело вставать, что хочется послать все и всех подальше и спать, спать, спать… А на работе – в свободную, выкроенную для себя, любимого, минутку, лечь на диван и спать, спать, спать… Депрессия. Синдром хронической усталости. Все равно, что будет, с кем будет, как будет. Неравнодушный врач, как хорек в зимнюю спячку, становится пассивным и равнодушным, хороший врач – посредственным, посредственный – вообще никаким, никем, диспетчером, настоящим хорьком, ремесленником, в нехорошем смысле этого слова; врачу некогда быть хорошим врачом: участковый на приеме обслуживает 40–50 человек, ординатор в стационаре – 30–40. А главное, надо все записать! Посмотрел пациента – напиши, что-то сделал – напиши, а не сделал ничего (а надо было) – напиши самым подробнейшим образом! Страховые компании рыщут по всем подразделениям отечественной агонирующей медицины, выискивая многочисленные огрехи замученных врачей. Врачи страховых компаний – сами бывшие врачи, только они настолько уже не могут работать в практической медицине, что капитулировали окончательно, согласились стать «шакалами минздрава», зашибать спокойную деньгу, разгребая говно наших витруальных поликлиник и стационаров и перестали носить гордое – негордое в наше время звание врача а стали просто «экспертами». Когда-то раньше только патанатомы считались «лучшими диагностами», непогрешимыми в последней инстанции, людьми самой спокойной специальности в медицине, сейчас и их проверяют, то же высокомерное племя экспертов страховых компаний, тоже крайне спокойных и самодостаточных в своей непогрешимости. Руководящее звено, администрация, к ним не относятся – им есть что терять, среди них идет постоянная борьба за жизнь в номенклатуре, за хорошие бабки, за теплые местечки руководителей, они тоже «пилят свой местный бюджетик, оставшийся от Федерального Большого Бюджетного Дуба Больших Дядек», им как и нам – тяжело, они тоже потеют, болеют, не спят по ночам, страдают гипертонией, анорексией и булемией, когда и диареей, отрываются на домашних и подчиненных, ревут и депрессируют, да и в бутылочку заглядывают тайком. И становятся самыми настоящими главнюками, в большинстве своем. И нет мира в сонме русских врачей! Где она, профессиональная корпоративность? Где сплоченность рядов современных эскулапов? Нет корпоративности, нет сплоченности; есть нездоровая треморная конкуренция, грязные инсинуации в коллективах разных уровней, чем выше уровень – тем гнуснее да изощреннее интриги.
Как-то Шастин сказал. Христианский мир совсем не странен обилием дней памяти своих святых: ежедневное воспоминание в церкви не дает душе расслабляться наблюдением мирских военных событий и участием в них. Мудро.
Столкновение с неожиданностями сельской жизни – это как на говешку наступить. Впрочем, русская действительность – сплошь неожиданности и говешки. Если бы европеец или америкос так часто сталкивались бы с неожиданностями и спокойно переживали их (ну, пусть даже с легким душевным трепетом, как то: вот ведь пришла зима – зараза, нежданно, в декабре,) кем бы они стали? Правильно, русскими. Русский – не национальность, а состояние души.
Вот только идеи русской нет, вокруг которой следовало бы объединиться!.. Здорово было бы! Все население Земли, по духу – РУССКИЕ, только у некоторых языки разные и цвет кожи, и все сматериться могут, вот времена!.. Мечтатель ты, Турчин, похмельный!
Врачи на приеме и в стационаре судорожно меряют давление всем своим пациентам подряд, дабы изобразить, что они их обследуют, долго и с умным видом выслушивают шумы легких и тоны сердец у семидесятилетних, якобы по их легочным и сердечным шумам можно сказать что-то очень конкретное, определенное, доискаться, наконец, до причины болезни и лечить ее, мерзкую, лечить! А годков-то пациенту – 79–84, а у врача-то он был последний раз лет этак 10, а то и 20 назад: «приезжали, давление мерили, а как же! А флюшку дык кажный год таскают делать». А врачей в селах в 8-10 раз меньше, чем положено по нашим рассейским нормативам, да и самым молодым уж давно за тридцатник. Читаем ли мы что новое в медицине? А коров когда терапевту доить, акушерке гусей щипать, детей кормить и в школу отводить, в огороде-садике работать? Муж-то законный после работы своей, физически и этилированно устал, на отдыхе, храпит. Крыша подтекает? Ага! Кто полезет? Конечно рентгенолог, хозяин, а че, не мужик? О чем это вы – о новом в медицине? Знаем и о новом, только это новое стоит в сто раз дороже эналаприла, стрептоцида, ципрофлоксацина и левомицетина (который, говорят, если втихушку мужу в водку подмешать – рвать будет за три метра, может и рефлекс условный приобретет, если не преставится). А в наших провинциальных больницах лекарственные препараты, выпущенные три десятилетия назад и которые можно перечислить по пальцам рук, до сих пор сражаются с недугами под страшными заморскими названиями; нет компьютерных томографов, разве что один-два аппарата ультразвуковой диагностики на пятьдесят тысяч населения, один рваный тонометр на сорок человек в терапевтическом отделении с одним размером манжеты и на толстую, и на тонкую руку; покупка медицинских халатов, ручек, бумаги, пластыря, клея за свой счет и много чего другого. Кто-то и денег бабкам дает на лекарства и свои лекарства им приносит…
Да! Зашибись. Агонирует медицина. Но пока останется хоть одна клинически мыслящая башка в каждом отделении, не сетующая по мизерной зарплате, которую совершенно законно можно назвать подачкой или милостыней – будет наша горе-медицина агонировать еще Бог весть сколько времени! Качественно и эффективно лечить уже не будет… И здоровых уже нет – есть недообследованные.
Так нехотя рассуждал Иван Николаевич Турчин, лежа на продавленном диване в ординаторской: так много людей хотят, чтобы я жил, что хочется умереть.
Из вышеподуманного выскочила следующая мыслишка.
Младшему сыну посвящается.
Откуда у тебя появится мудрость? Ты не читаешь книг, не смотришь хороших картин, не трудишься для заработка хотя бы на карманные расходы, не живешь по совести. Откуда у тебя самоуверенность? Да. Молодежь любой эпохи самоуверенна, но обычно иначе: конструктивно революционна в лучшем случае, преступно анархична – в худшем, а ты – вызывающе пассивен. Кто же тебя будет кормить через несколько лет? Папа врач? Держи карман шире!
А мы стареем:
- «Никуда не деться
- От собственного детства!
- Сами обхохочемся,
- Окружающих смеша,
- По дороге мочимся,
- До толчка не добежав»
«До 10 лет себя не помню, после 20 – стараюсь забыть, это немного перефразированный Бегбедер, стыдно; осталось в жизни десять золотых лет: тут и первая любовь, первая женщина, первая зарплата, первая подлость, никем не замеченная, принесшая дивиденды.»
Мысли Ивана Николаевича метались в широчайшем диапазоне человеческих познаний, пока мозг не заснул.
Вечер. Дежурство, сутки, воскресенье. Он лежит на продавленном диване, уперев взгляд в цветные пятна телика, не осмысливая происходящего. Его же мысли продолжают метаться по просторам виртуальной Вселенной, опережая друг друга в приоритетах, тут же забываются, рождаются новые, ничего в голове не откладывается.
В ординаторскую заглянула медсестра:
– Доктор, в двенадцатой бабке плохо, у окна, справа. Давление нормальное. Посмотрите.
Физическое страдание постороннего человека вызывает у него чувство досады, раздражение от потревоженного кисло-сладкого самопогружения: как прожить до зарплаты.
Входя в палату он преображается автоматически, это выработано с годами: на лице сочувственная озабоченность, быстрый собранный шаг, удавка на шее – фонендоскоп.
– Что случилось?
– Доктор, сердце…
– Что «сердце»?
– Болит. Все болит…
– Как болит? Давит, колет, режет, ноет?
– Все болит. Не знаю. Дышать тяжело, болит сердце…
– Сколько уже болит?
– Всю жизнь болит…
Выходя из палаты, на ходу бросает сестре:
– Сделай ей элзепам и анальгин.
В истории дописал в назначения амитриптилин, да побольше, да почаще.
Что происходит с нашими бабушками? В больнице как медом намазано! Тянутся в больницу осенью, зимой, как паломники в Мекку. Терапевтическое отделение – без ремонта несколько лет, вонь смеси мочи, старости и табака отбивает желание не только перекусить, даже дышать. К этому быстро привыкаешь, но выйдя из отделения и появившись в нем снова остро чувствуешь этот запах геронтологии.
– Доктор, в тринадцатой у бабки Стасюк давление 220.
– Сейчас, подойду.
Восьмидесятилетняя бабка Стасюк – одна из «звезд» местной «терапии» на все времена! Поступила сегодня, с утра, «по скорой». Ложится в отделение практически ежемесячно. Примечательно, что после очередной выписки она совершенно сознательно бросает принимать какие бы то ни было лекарства, кроме корвалола, и ждет очередного гипертонического криза, чтобы на «скорой» торжественно приехать в благословенное терапевтическое отделение! Нет нужды объяснять ей, что лекарства от давления больному нужно принимать постоянно, независимо от уровня давления. Стасюк дома упорно лекарств не пьет. Из всех препаратов, заслуживающих внимания, для Стасюк существует только эналаприл, который она потребляет уже лет десять и в неимоверных количествах – по шесть и восемь десятимиллиграмовых таблеток в день. Благо, препарат дешевый. Родственники ее ведут себя то нагловато, то таинственно, с заискиванием.
– Что случилось? Где болит? – Он уже неэмоционален, даже раздражения нет в его голосе.
– Ну, вот, опять, давление прыгает и голова кружится, все в стороны бросает, побилась уже вся, вона где только синяков нет!
– А что пьете сейчас?
– Да то и пью, что ты мне давеча прописал…
– Как же, помню: лозап, сотку, вечером, берлиприл плюс, утром, беталок, 50 миллиграммов, утром и кардиаск, вечером, и что, все равно давление не падает? А что участковый рекомендует?
– А что, участковый? Нет его сейчас у нас в селе, вот и глотаю горстями энам и, как его, «капоприл» или как его там, и ничего, все так же…
– Я же Вам все расписал, что же Вы моих рекомендаций не слушаете? Все лекарства надо в вашем возрасте пить постоянно!
– Да дорого все, милый! Это ж полпенсии отдать надо.
– А жить-то еще хочется?
– Да надо бы еще пожить! – вздыхает Стасюк. – Вот бы голова не кружилась.
– А давайте мы Вам в мозг новые молоденькие сосуды вошьем, без бляшек холестериновых? Хотя, через год, вы их снова макаронами, картошкой да жирными куриными потрохами испортите. Бесполезно!
– Ну, Вы хоть покапайте меня; я, знаете, после десяти капельниц прошлый раз месяц себя хорошо чувствовала.
– И только корвалол и глотала… Ладно, ладно, Галина Моисеевна, придумаем что-нибудь.
– Уж покапай меня, милый!.. В долгу не останусь.
«Не останешься ты в долгу, уж знаю, не первый день лежишь, мозги паришь», – думал доктор, плетясь в ординаторскую на свой продавленный диван. Вроде и надоели эти бабульки со своими хворями, жалобами, да без них вообще не прожить – подбрасывают на жизнь, подкармливают слегка: кто денежкой, кто курочкой, уточкой, мяском, яйцами, колбаской, сахаром и прочим съестным. А и то к слову сказать, всегда дома коньячок с водочкой, вино разное, «самогоночка, на фруктах, чистейшая», конфеты шоколадные, мед килограммами. Вообще, лучше бы все это денежкой!.. А денежка, почему-то раз на раз не приходится: то густо, то пусто, рассчитать бюджет невозможно.
Ещё в советские времена сердобольная медицина подсадила наш народ на жесткий фенобарбитал, основной компонент валокордина, корвалола, валосердина и прочих «сердечных» препаратов. Наши старики килограммами выпивают этот фенобарбитал (препарат психиатрических отделений, снотворный, тормозящий волю и возможные эпилептические припадки). Раньше им эпилепсию и лечили. Сейчас лечат все подряд. Вне России лекарство, содержащее фенобарбитал, без рецепта не купишь. Мы же плодим фенобарбитальных наркоманов, сознательно. Тоже, видимо, политика государства: трудно стало кормить армию пенсионеров. Инвалидам выдают бесплатно лекарства самые дешевые, без учета все-таки прогрессирующих медицины и фармакологии. Чтобы тоже быстрее сбросить баланс бюджетной нагрузки?
– Наташа! Поставь Стасюк «полярку», пусть порадуется. Да амитриптилин, по 12 с половиной, три раза, не забудь. Я запишу.
– Только быстрее историю отдайте, записанную, мне в шесть смену сдавать, а то будете тянуть до последнего, знаю я Вас.
– Не ворчи, а то ещё кого подложу.
Насколько доктор не суеверен, в отделении творится какая-то бесовщина: скажи запретную определенную фразу – обязательно произойдет как всегда и как не надо; общение врачей и среднего медперсонала или сводится к минимуму или всегда произносятся одинаковые слова, как заклинания: не напомнит Наташа доктору, чтобы быстрее историю болезни написал, не будет над душой стоять – точно, к концу её смены «скорая» тяжеленького привезет. Вспомнит кто вскользь: что-то давно у нас Пукина не лежала – ровно через час звонок из приемного: Пукину привезли, придите посмотреть. Слова «давненько у нас никто не помирал» вообще под запретом; кто вдруг ляпнет – в один день «закон парных случаев».
Глава вторая
Вперед, на диван! Люблю я вас, воскресные дежурства! В будни толпы озабоченных сбитых с толку медработников среднего звена носятся взад-вперед исполняя распоряжения старших по званию. В воскресенье все по-другому. К инструментальным обследованиям готовить никого не надо, клинические анализы крови с утра кромешного не берут, гладкие бутылочки с растворами для внутривенных капельных инъекций, как снаряды, уже заряжены и ровными, красивыми блестящими рядами теснятся на стерильных столиках, ожидая своей участи воткнуться иглой в склерозированную старостью вену и излиться в дряхлеющий организм, подпитав противоестественным образом живительной влагой. Сколько раз доктора говорили своей геронтологии: пейте жидкость через рот, полтора литра в день и больше, у кого нет противопоказаний. Все без толку! 200–400 миллилитров, но через вену! Как же – лечение! Потерянное поколение больных. Пытались назначать капельное введение препаратов по показаниям: сколько было жалоб главному и в «страховую»! Отказались, только бы жалоб не было. Мы – сфера обслуживания. Бейте нас по головам всех и всем, чем попало. А насколько приятно врачу, с верхним образованием, чувствовать себя «сферой обслуживания», как продавец за прилавком продуктового магазина, рыбного, овощного, официант в ресторане и еще много каких фантазий на эту тему.
Любит Иван Николаевич воскресные дежурства! Коллеги завтра с постными лицами потянутся на работу с тоской отгоняя мысли о целой рабочей неделе впереди. А ты с утра воскресенья уже на работе: начальства нет, сестры расхлябаны, не шугаются от глаз всякого вида начальства, которое отдыхает, больные спокойнее, истерик заметно меньше: демонстрировать-то свою немощь некому, дежурные врачи стараются прятаться по своим ординаторским, а то и прятаться в реанимацию, потягивая пиво и жуя семечки.
Воскресные дежурства чреваты другого рода неприятностями: наш народ как привык? Ну, заболело, а вдруг пройдет? А оно не проходит. Ну, еще подождем. А оно не проходит. Вечер уже, а дома-то уже страшновато оставаться и – куда? На прием к дежурным врачам! Вот вечером и начинается амбулаторный прием, почище, чем в поликлинике. До 22–23 часов дежурные врачи со скрежетом зубовным отфутболивают хроников, паникеров, депрессиков. И только после 23 начинается настоящая ночная больничная жизнь: идет перемешивание отделений по половому и алкогольному признакам. Дежурство с 31.12 на 01.01 – совершенно особый случай! Это действо вкратце можно охарактеризовать как замедленное оказание экстренной медицинской помощи легкораненными врачами и медсестрами.
Дежурство в разгаре, доктор лежит на своем продавленном диване, вечер. В дверь ординаторской постучали.
– Да! Войдите! – кричит док, не вставая со своего места.
В ординаторской оказываются средних лет женщина и мужчина, негромко спрашивают:
– Вы Иван Николаевич?
– Точно, – ответил док, поднимаясь с дивана.
– Простите, что помешали отдыхать.
– Ну, что Вы! Просто прилег, еще до завтрашнего вечера работать.
Было заметно, что посетителям неловко начать разговор, ради которого они пожаловали. Мужчина выглядит довольно импозантно, с холеным, добрым лицом, без тени заносчивости. Женщина весьма миловидна, стройна, невысока, на лице и шее мелкие морщинки выдают возраст: за 50. «На жалобщиков не похожи, так, может рублем одарят за присмотр за родственником», машинально подумал док.
– Иван Николаевич, простите еще раз, – начал мужчина. – Мы насчет Миловановой, Екатерины Григорьевны, у Вас, в пятнадцатой лежит.
Док мгновенно вспомнил тихую, но полностью выжившую из ума, довольно чистенькую бабулю, кажется, 1922 года рождения, с постоянной формой фибрилляции предсердий. Бабка входила в ту категорию 75 % пациентов, которые практически не нуждаются в стационарном лечении, а только в адекватном домашнем уходе и наблюдении участкового терапевта.
– Вполне сохранная бабушка, давление нормальное, ритм нарушен, уже очень давно, но его частота за рамки допустимых параметров не выходит, пациентка нуждается только в уходе, коррекции поведения и приеме антиаритмических препаратов.
Мужчина и женщина немного помолчали, помялись, не зная, как продолжить разговор. Наконец, женщина начала:
– Видите ли, доктор, мы живем не здесь, достаточно далеко, нам трудно часто посещать маму, а сиделки от нее отказываются. Месяц-два ее терпят, затем уходят, не выдерживают. В дом престарелых не берут, там столько формальностей и ужасная очередь.
– У нас вопрос другого плана, – вступил в разговор мужчина. – Меня зовут Виктор Петрович, жена – Анна Николаевна, извините, сразу не представились. Вопрос в том, сколько мама еще сможет прожить, только честно?
– Ну, знаете, дорогие мои, на все Божия воля! На сегодняшний момент я, например, не вижу причин в скорой смерти, нет никаких объективных медицинских предпосылок. Вот и говорю – на все воля Божия. Вообще христианин должен умирать дома…
– Мы можем забрать ее домой? – спросила Анна Николаевна.
– Конечно! Рекомендации по лечению я дам, а дальше пусть участковый наблюдает, и психиатр.
Женщина и мужчина замолчали, переглянувшись. Виктор Петрович откашлялся.
– Можно мы присядем? – спросил он.
– Да, конечно, извините, что не предложил, присаживайтесь. Чай, кофе?
Анна Николаевна сглотнула слюну.
– Если можно, кофе. Мы Вас не отвлекаем?
– Что Вы! Не переживайте, вызовут – подождете здесь. Вы же о чем-то хотите со мной побеседовать?
– Да, Вы правы, – сказал сдавленным голосом мужчина.
– Ну, тогда сначала кофе! – Турчин вдруг оживился от странности ситуации и с нетерпением ждал ее развития, хотя и с некоторой опаской, слишком таинственно вели себя посетители.
Он включил общественный «Тефаль» и стал расставлять кофейные приборы. На столе появились сахар, кофе, Анна Николаевна достала из сумочки небольшую коробку шоколадных конфет.
В дверь заглянула Наталья.
– Ну, что, Иван Николаевич, где история Стасюк?
– Все, Нат, иду на пост и пишу при тебе.
– Мне же скоро смену сдавать, – заныла медсестра и закрыла дверь.
– Извините меня, хозяйничайте, – сказал Иван. – Мне кофе – две ложки, две сахара, я через пять минут буду. Извините.
По больничному коридору туда-сюда сновали бабушки-пациентки (или пансионерки, точнее будет), кто с родственниками, кто группами, парами, на посту – небольшая очередь за порцией измерения давления. Медсестра Наталья крутилась без передышки – конец смены, а документации – немерено, еще неготовой. Кто придумал в наших больницах такое количество журналов, тетрадей, листиков, книг учета? У медсестры отделения времени свободного практически нет: то процедуры, то писанина. У врача – хуже. Писанина отнимает, пожалуй, 90 % рабочего времени. Бытует даже врачебная шутка: ребята, больные нам мешают – писать про них некогда. Компьютеров понаставили, зачем, если все данные по три раза дублируются от руки?
«Чего же они там удумали?», размышлял Иван Николаевич, машинально дописывая историю болезни. Наталья стояла над душой, мысленно подгоняя врача.
– Все! Забирай! Ну, ты и вредная, мертвого достанешь. Как с тобой муж живет?
– Потому еще и живет, что вредная, так бы спился уже давно.
Иван Николаевич вернулся в ординаторскую, где стоял ароматный запах кофе. На столике дымились парком три небольшие кофейные чашечки.
– Как просили, две на две ложечки, доложила Анна Николаевна.
– Спасибо!
Пока рассаживались, Виктор Петрович что-то проговаривал себе под нос, совсем неясно и тихонечко.
– Нас тут никто не может слышать? – спросил он, чуть громче.
– Не думаю, что провинциальная больница может представлять собой какой-либо промышленный или военный интерес.
– Видите ли, уважаемый Иван Николаевич, дело наше настолько деликатного свойства. что не может быть рассмотрено под определенным мещанским углом зрения и не нуждается в посторонних свидетелях.
– Говорите, я слушаю, – подбодрил док.
– Наша бабушка прожила долгую и достойную жизнь. Мы все ей безгранично благодарны, пытаемся создать ей максимально комфортные условия дома, но в последние год-два мы не чувствуем в ответ ни человеческой благодарности, ни теплоты, ни спокойствия. Она становится домашним деспотом, тираном, за ней нужен постоянный уход, даже не столько помощь в обслуживании себя, сколько зоркий глаз. Екатерина Григорьевна всех нас подозревает в подготовлении каких-то козней против нее и сама начинает действовать, чтобы якобы опередить нас. Она создает нам в быту всевозможные трудности, мне даже не хочется говорить о них, думаю, Вы меня понимаете. Мы также понимаем, что это органические изменения в головном мозге, которые невозможно устранить.
Виктор Петрович замолчал. Анна Николаевна произнесла тихо:
– Доктор, мы Вас очень хорошо отблагодарим, если бабушка не выйдет из больницы, поймите нас правильно. Нам невозможно уже оставлять ее дома одну, а о гостях мы и думать забыли. Помогите! – и еще тише добавила: – Десять тысяч долларов! Аванс – сразу.
И покраснела. Тут же румянец появился на лице Виктора Петровича. То ли воздействовал горячий кофе, то ли живая еще совесть подкинула адреналин в сосуды.
Иван Николаевич смотрел в пол и молчал. Молчали и гости. Иван сделал глоток кофе, еще один, как бы растягивая время, и неожиданно буднично сказал:
– Я согласен.
Напряженные лица Виктора Петровича и Анны Николаевны расслабились, на них даже появилась легкая улыбка. Анна Николаевна тут же открыла сумочку и протянула Ивану Николаевичу толстенький пакет.
– Как только Вы позвоните нам, что уже все – мы привезем вторую половину. Конечно, на вскрытие ведь не будете посылать, возраст?
– Думаю, что нет, справку о смерти сам выпишу.
– Оставьте Ваш телефон, доктор, – попросила Анна Николаевна.
– Конечно! И Вы свой оставьте, я позвоню.
Гости поднялись из-за стола, поблагодарили за кофе и, как ни в чем не бывало, стали прощаться.
– Мы еще к бабушке зайдем. Здесь-то она тихо себя ведет? – спросил Виктор Петрович.
– Соседки пока не жалуются. Ну, до встречи!
Иван пожал руку мужчине, приложился губами к дамским пальчикам. Левый карман халата приятно оттопыривался.
Деньги во все времена, в любом виде, имели наиболее притягательную форму: то были красочные бумажки, оформленные слитками кусочки серебра или золота, красивые раковины, жемчужины, бычьи головы. Для каждого отрезка исторического времени символом благополучия в основном служили денежные знаки, а не предметы обстановки, наличие уникальных художественных текстов, знакомство с удивительными персонажами, обладание несметными и сокровенными знаниями. Деньги никогда не облегчали участь человека, но и не обременяли его своим количеством.
Иван Николаевич, не закрывая на ключ ординаторскую, достал из левого кармана пакет с деньгами. Пачка долларов хорошо пахла и была достаточно толстенькой. Иван пересчитал: стодолларовых бумажек оказалось ровно двадцать, остальные – десятки и полтинники, и серии, и номера не повторялись. И помятость их была неодинаковой. Иван вытащил наугад одну бумажку и понес её в процедурный кабинет, включив кварцевую лампу. Слово «взятка» не засветилась. «А может, там и совсем другие методики?» – подумал индифферентно Иван и положил банкноту в карман.
На часах было уже 22 часа. Бабульки разбрелись по палатам, с мужской половины отделения туго несло табаком и мочой, но ужу никто по коридору не шатался. На сегодняшний день мужчины решили не поступать в отделение.
Радость хорошего заработка понемногу остудило хорошее настроение и привело Ивана к реальному осознанию выполнения обязательств. Ожидать от Миловановой скоропостижной смерти не было никаких оснований. Тем не менее, Иван вспоминал, как несколько лет назад пытался купировать пароксизм мерцательной аритмии, быстро приведший к смерти. Но это был пароксизм! У Миловановой фибрилляция несколько лет и тахиформа встречается редко. С ощущением небольшого страха Иван Николаевич думал о введении большой дозы сердечных гликозидов, без калия. Опять же, когда их вводить? Как это осуществить? Что должно способствовать наступлению смерти? Вопросов тьма! Ответов пока нет. Надо ложиться спать. Утро вечера мудренее. Ощупав плотненькую пачку американских денег под подушкой, Иван Николаевич лег спать.
Ночь прошла абсолютно спокойно.
Утро оказалось мудренее вечера разве что только на 5 минут, пока не вспомнилась новая задача по увеличению летальности в отделении. Все время в течение утренней планерки Иван размышлял над смертью Миловановой. Вопрос решился сам собой: в утреннюю запарку в процедурной, когда на столиках расставлены бутылочки-бомбы для внутривенных вливаний, в бомбу для старушки ввести огромную дозу гликозидов и добавить новокаинамид, которым давно уже никто не пользовался в отделении.
К 11 часам, когда процедурная сестра начала лихорадочно подцеплять капельницы, Иван уже все подготовил в одном 20-мл шприце. На доктора, заходящего в процедурную никто не обращал внимания. Несколько секунд – и смертельный раствор, пузырясь, ушел в нужную бутылочку.
Сердце Ивана учащенно билось уже около двух часов, когда в ординаторскую забежала дежурная медсестра и довольно спокойно сообщила, что Милованова не дышит. Иван взял фонендоскоп с несколько излишним спокойствием и пошел за сестрой. Действительно, бабушка была мертва, видимо, уже около 15 минут, так тихо она скончалась; никто из пятерых соседок и не заметил. Только одна обратилась к сестре, что у бабуси капельница кончилась, а та спит и не замечает. А уж сестра быстро смекнула – что к чему.
Больные в палатах терапевтического отделения как-то спокойно, даже с чувством некоторой гордости, реагируют на смерть своих соседей: не кричат, не паникуют, только тихо перешептываются: вот и прибрал Господь!..
Милованову накрыли простыней и выкатили в закуток у лифта, где она должна пролежать еще 2 часа. Иван доложил заведующему, что бабушка Милованова почила, дал команду спускать ее в подвал и пошел звонить Виктору Петровичу. Тот ответил удивительно быстро и спросил, когда нужно приехать.
– Через два часа можете забирать, – с легкой долей скорби произнес Иван. – Возьмите в регистратуре ее амбулаторную карту и принесите мне. Завтра, после обеда, зайдете за справкой о смерти… Когда приедете сегодня, подниметесь ко мне?
– Конечно, конечно, – сказал Виктор Петрович, поняв намек. – До встречи, Иван Николаевич. Но ведь вскрытия не будет? Точно?
– Нет, не будет.
За окошком бушевал климат, обычный для этих мест: жара сменялась дождем с сильным ветром, вновь возвращалась, захватив с собой еще и повышенную влажность, сидеть в ординаторской или бродить по палатам не хотелось, хоть убей, и Иван отправился бродить по больнице в приподнятом настроении. До приезда клиента оставалось еще около часа, не меньше, можно было, делая вид, что работаешь, пошариться по больнице. Сегодня, как раз дежурила Юлишна, точнее, Юлия Ивановна, та самая, в которую Турчин был неистово влюблен, она отвечала ему взаимностью, и, если она была не на выезде, недурственно оказывалось напомнить о себе, в очередной раз. Ведь в последний раз они были близки недели три назад, как не больше.
Иван сильно скучал по ней! Заявлялся в их отделение и, если Юлька была там, мог просиживать с ней, пока та не уезжала на вызов. Все в больнице прекрасно знали об их отношениях: кто-то относился равнодушно, как к обычному флирту, некоторые даже пытались им чем-то помочь, скорее поощрениями их совершенно определенным отношениям. Но все оставалось по-прежнему.
Глава третья
Юлия!
С виду – серая мышка, замужем, одеваться могла бы гораздо лучше, но почему-то не одевалась, не следила за модой; ее наряды, порой, были несуразны. Мало пользовалась косметикой: при объективно красивых коже, фигуре и ножках крайне редко одевала юбку, причем, если и одевала, то по длине – не выше середины голени, даже немного косолапила; но что-то в ней было такое, что притягивало Ивана Николаевича к ней с такой силой, что часто созревала мысль физического устранения ее мужа, тем более, что Юлька часто жаловалась на «своего», что и дома иногда не ночует и попивает, и явно блядствует. Все остальные доводы в пользу оставления в покое сего мужеского существа заканчивались тем, «что дети его любят» (у Юльки были сын 10 лет от первого мужа и девочка 4 лет от настоящего). Да официального брака-то и не было, так, сожительство. Но дети называли его «папой», души в нем не чаяли, в семье ему дозволялось ни работать, ни быть добытчиком, настолько он хорошо ладил и следил за детьми. Загулы Сашки, честно говоря, были достаточно редки по деревенским меркам – 1–3 раза в месяц, при том, что Юлька отдавалась ему не чаще одного раза в 10–15 дней. Временами даже Иван спал с ней на дежурствах и до 5 раз за месяц.
Иван Николаевич спустился на первый этаж. Юлька сидела в общей комнате. Увидев любимого доктора, все подвинулись и, как обычно, Иван сел рядом с Юлькой. Началась обычная болтовня, с шутками да смешками. Интересно, при появлении Николаича в совокупности с Юлей, у всех поднималось настроение, начинали развлекаться. Шутить и намекать на счастливое будущее доктора и их маленькой Юлии Ивановны. Иван Николаевич определенно нравился коллективу отделения гораздо больше, нежели вечно угрюмый гражданский Юлькин мужик. Она о нем и вообще говорила крайне редко. Ивану было приятно, что в его присутствии никто, даже Юлька, не вспоминают Александра.
Болтали недолго. Заиграл телефон Ивана, звонил» заказчик».
– Ну, все. Опять без меня – никуда, – деланно проворчал Иван и пошел к себе в отделение. – Я еще зайду!
– Всегда ждем-с, – чуть не в унисон подхватили Юлькины коллеги.
Виктор Петрович стоял в холле и быстро выдвинулся к Ивану Николаевичу.
– Вот, как договаривались, – тихонько сказал он и передал Ивану полиэтиленовый пакет. – Там все.
– Сейчас Вам справку вынесу, давайте паспорта, – также тихонечко произнес Иван, взяв пакет и пошел в ординаторскую.
Справка была готова уже с утра. Это первое, необычное убийство, оставило в душе совершенно странное ощущение: какое-то чувство неминуемого наказания где-то в будущем или нечто тревожное состояние в ближайшее время. Разум подсказывал: сколько ты видел уже таких тихих смертей, сколько еще увидишь в своей геронтологии! Может и раньше, в результате передозировки или неверного назначения ты уже отправлял своих пациентов на тот свет, ты переносил это спокойно, буднично. Чего сейчас-то тревожиться? Спокойствие разлилось по всему Иванову телу.
Иван, поизоброжав лечебную деятельность, побрел в отделение к Юльке. Настроение начало приподниматься до обычного.
Юля уже уехала на вызов. Иван Николаевич уселся на диван у диспетчера и завелся неторопливый, об обычных больничных сплетнях, разговор. Все, кто находился в ординаторской, полунамеками и почти впрямую говорили, что вот была бы пара – Иван да Юля. Да жаль, что та несвободна, хотя официально и не замужем; да вот и девочка у нее от Саши, хотя и балбес он, и лентяй, и гуляка, и изменщик. Иван с мучительным удовольствие слушал болтовню коллег.
На дежурствах Юлька отдавалась ему с удовольствием, без всякой скромности, от души; видно было наверняка, что она его любит. Только раз, за почти три года их знакомства, они встретились на квартире Лыкина, когда Иван Николаевич выпросил на пару часов, днем, ключи от собственной лыкинской квартиры, когда дома никого не было. Этот день Иван запомнил на всю жизнь. Это была сказочная встреча, накануне Юлиного дня рождения. Тогда Иван подарил ей золотой кулон, прекрасно сознавая, что Юля его вряд ли когда оденет.
Все равно, Иван был влюблен практически безнадежно. Юлька как-то сказала: давай родим ребеночка, а Сашке скажу, что от него…
Иван хотел совсем другого: жениться на Юле и сделать ее счастливой навсегда.
Иван встал с дивана, сказал, что еще зайдет, и пошел к машине.
Доехал до ювелирного и купил Юльке тонкий золотой браслет; к ее миниатюрной фигурке такой был в самый раз. Выйдя из магазина, вспомнил, что его любимая женщина носит простенькие золотые сережки-обручи, снятые с дочери. Вернулся. Купил еще сережки-обручи, чуть больше размером, что носила Юлька.
Вернулся в больницу Иван уже к концу Юлькиной смены. Та уже была на месте. Иван заглянул в ординаторскую и позвал подругу выйти с ним.
Зайдя в комнату дежурного врача, Иван достал подарки и передал их любимой женщине.
– Что это? – изумилась Юля.
– Померяй. Давай помогу.
– Иван! Зачем?
– Я люблю тебя, носи обязательно! Придумай что-нибудь – скопила, например.
– Спасибо!.. Я люблю тебя, – Юлька обняла Ивана и крепко прилипла к его губам в полном нежности и благодарности поцелуе.
Дни летели.
В отделении все текло своим чередом: поступали очередные полубольные амбулаторные, хроники и, крайне редко, действительно больные пациенты, нуждающиеся в экстренной помощи.
Однажды, осмотрев вновь поступивших пациентов, Иван занялся ненавистной писаниной. До конца рабочего дня оставались считанные минуты, а писать придется еще как минимум час. Позвонила Юля, сказала, что поехала домой и что будет с нетерпением ждать завтрашнего вечера, когда они с Иваном дежурят – она как раз выходит в ночь. Нечто горячее и очень приятное сжало сердце Ивана, он представил себе, как Юлька возвращается домой, привычно целует Сашу, детей, начинает шуршать по хозяйству. Разве такую жизнь готов предоставить ей Иван, если его любимая женщина согласится выйти замуж за него? Как все пошло, примитивно! Три года Иван работает здесь, в простой городской больнице, три года по выходным страдает от невозможности организовать культурный отдых. Город маленький, около двухсот тысяч населения; редко когда заезжают хорошие артисты, интересные коллективы, выставки. Удивительно спасает только интернет. В выходной можно просидеть в сети хоть целый день – всегда найдется что-нибудь познавательное, чего раньше не ведал, хотя Иван Николаевич Турчин слыл энциклопедистом и великолепным разгадывальщиком кроссвордов, которые откровенно не любил, но другим подсказывал всегда с удовольствием.
«Что там Юлька, интересно, делает?» – часто думал Иван.
Тоже, конечно, интересно получается: он без ума от нее, только и думает постоянно; с радостью – редкие короткие встречи, с другой стороны – как представит ее в образе жены, общий дом, ее дети, хозяйственные заботы, огород, сад, животные, птица и прочие радости сельской жизни – выть хочется! На всю жизнь! Так быт может совсем заесть. Потом Иван думал, что будет ревновать Юльку к бывшим мужьям и прочую ерунду. В сердце закрадывалось сомнение о страстном желании жить вместе. Вот если куда уехать! С ней, конечно, с ее детьми… Он тоже может быть заботливым отцом. Да и от Юлии ребеночка надо родить. Она не против.
Так рассуждал Турчин о возможных раскладах жизни.
Про Катерину, бывшую жену, он уже почти не вспоминал, развод оформили три года назад. Перезванивались, подслушав их разговоры можно было подумать – брат и сестра. Печально было оттого, что они – венчаны, и надо совершить тот самый обряд развенчания, чтобы привести в состояние стабильности нематериальные силы. Для начала надо было вновь вернуться к прежнему образу жизни и посещать храм. Исповедаться. Причащаться. Молиться чаще. Для Ивана на сегодняшний день – задача сверхтрудная!
Вот и семь часов вечера. Давно уже пора домой. Впрочем, можно еще беспрепятственно просидеть хоть до двенадцати, но после дежурства и сохраняющегося трепетного состояния после состоявшегося недавно убийства, пора было ехать домой.
Спать не хотелось.
Иван вышел на стоянку у больницы и уже издалека стал любоваться своим «шевроле». Он называл его «котик». У всех подряд «ласточки». А у него «котик». Этот достаточно шикарный автомобиль был, пожалуй, пределом мечтаний: не надо никаких «мерсов», джипов и прочей прожорливой братии. Совсем ранняя осень залепила все машины опавшими листьями, довольно сильный ветер изредка перебрасывал листву с одного капота на другой. Моросил мелкий противный дождик. Изредка налетали порывы сильного ветра. И это после дневной жары!
Время года и погода не предрасполагали к веселью и Иван сразу поехал домой, хотя в хорошую погоду он частенько после дежурств заезжал в пивнушку, рядом с домом. Около дома он остановился, не выходя из машины, достал деньги и пересчитал их. Просто так. Это была приятная процедура.
В доме хорошо пахло: новой мебелью, чистотой. Иван Николаевич не очень любил, когда приходил с работы домой и в воздухе висел аромат ужина или застойный запах перегара Катерины.
Застарелая привычка ужинать в одиночестве, с красным вином, сыром и жареным мясом. Не изменил ей Иван Николаевич и сегодня. После душа приготовил ужин и сел на кухне перед телевизором. Нега, истома, хорошее настроение сопровождали физическое тело Ивана на протяжении почти часа, пока он смаковал домашнее красное с большим куском мягкой ароматной жареной говядины, вприкуску с сыром. Выпив первый бокал появилось желание общения с прекрасной половиной человечества, но к концу ужина желание отпало напрочь. Время близилось к одиннадцати. Иван вымыл посуду и пошел в спальню, где завалившись на кровать почти моментально уснул под не выключенный телевизор.
Ночь принесла Ивану массу цветных снов, никаких кошмаров, какие-то обрывки случайных встреч со знакомыми и незнакомыми женщинами, мужчинами, неизвестные улицы неизвестных городов, парадоксальные события, небывалые приключения, связанные с деньгами и золотом.
Пробуждение было обычным; воспоминание и домысливание отрывков снов, обыденно гнусное воспоминание о предстоящем рабочем дне и последующем ночном дежурстве, перетекающим в очередной рабочий день. И только завтра, вечером, домой. Радовало только то, что сегодня Юлька – в ночь, вместе с ним, и деньги вдруг завелись.
Следующая мысль – о бабушке Миловановой. Иван Николаевич пристально вдумался в совершенный им поступок, нет, не просто поступок, а чистое убийство… И ничего не откликнулось в его внезапно одеревеневшем сердце: ни сожаления, ни раскаяния. Только мысль о толстенькой пачке денег грела это одеревеневшее сердце.
На работе как и прежде. Геронтология, беготня туда-сюда, и нескончаемая писанина!
Мысли постоянно заняты пациентами, бесконечные их вопросы по поводу собственных заболеваний, точнее, неизлечимой хрони. «Лет этак 20 назад надо было начинать лечиться, или еще раньше», постоянно твердит Иван Николаевич своим бабусям. «А сейчас положение ваше можно спасти только пересадкой сердца, а кому-то – сосудов головы, или лучше самой головы, у кого она постоянно кружится. Ваш холестерин в сосудах накапливался десятилетиями! И вы хотите выздороветь за месяц?» На протяжении многих врачебных лет Ивана Николаевича положение дел с бабушками и дедушками так и не изменилось. Он только отмечал про себя, что городские несколько трепетней относятся к собственному здоровью.