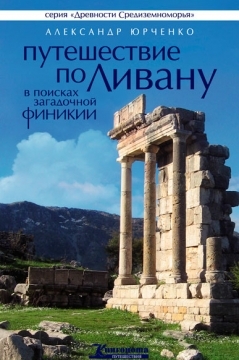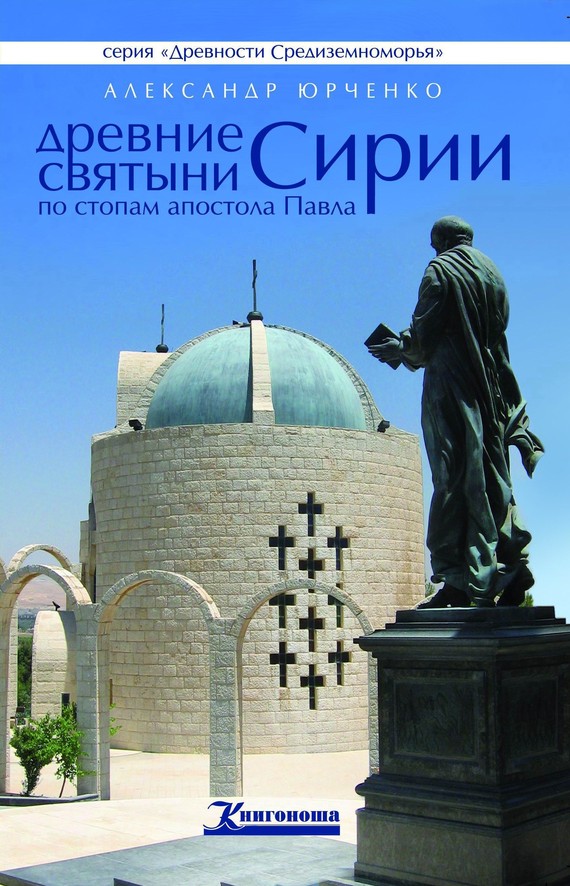Фауст: о возможном Сбитнева Светлана

– Да, Пантелей Сидорович, на совесть Нюра самогон гонит, не жадничает. – Петрович потянулся за ополовиненной бутылкой. – Давай еще по пять грамм, – Петрович наполнил оба стакана до половины, ровнехонько, ни на миллиметр не обидел ни себя, ни товарища.
– Ну, давай за наши молодые без возврата ушедшие годы, – с тоской в голосе изрек Сидорыч и опрокинул в себя все полстакана, закусил селедочным хвостиком, лежавшим на столе в старой промасленной газете.
Петрович посмотрел на свой стакан, обреченно вздохнул и выпил свою порцию залпом, поморщился, зажмурил глаза, пока водка огненной лавой проливалась по пищеводу в желудок, оставляя после себя отчетливый пылающий след. Сознание сразу как-то замутилось, захотелось всплакнуть.
– Что там твой Колька? – Куда-то в пространство спросил Сидорыч. – Все работает? В городе, небось? Все деньги делает?
– Делает, – подтвердил Петрович, в кивке свесив голову на грудь. – У него в этом городе ни минуты свободной нет, все трудиться. А что делает, почем трудится, пес его разберет. Наташка его ребенка ждет, какой месяц брюхатая ходит, а мужа и не видит толком с его трудом.
Петрович вздохнул, вспомнив своего старшенького. Всего детей у Петровича и покойной Марфы четверо народилось, три сына и дочурка Василиса, или Васька как ее бабы деревенские за буйный нрав окрестили – не по-девчачьи это такой шустрой быть. Васька любимицей всей деревни была, маленькая, да проворная, зато сердце у ней доброе, большое сердце. Васятка, самый младшенький, в школу еще ходит. Школа-то одна на деревне. В ней Василиса, как сама отучилась, преподавать стала, да так и преподавала, пока в соседнем городе, за тридцать километров, университеты не пооткрывали и она туда преподавать не перевелась. Мишка, второй после Кольки, балбес балбесом! Вот шесть лет уже как из дому родного ушел, за цыганами в лес убёг, с девушкой цыганской история у него случилась. Разъехались все. Какое-то время Петрович с Марфой вдвоем жили, кое-как без помощи с хозяйством управлялись, а потом Марфа по зиме в прорубь упала, застудилась сильно, слегла. Через месяц не стало Марфы. Никто из старших на похороны не приехал. Кольку из города работа не отпустила, Мишкин след вообще затерялся. Отправили ему телеграмму до деревни, где он по сомнительным сведениям обосновался, а он только пару недель назад на телеграмму ту ответил, что не знал ничего, в деревне его, мол, той не было, дескать, уезжал. Сочувствие свое выразил, официальным таким слогом, словно чиновник какой про чужого человека сочувствие свое высказывает… Василиса тоже в телеграмме отписала, что, мол, не может, не от нее, мол, зависит. Правда на сорок дней приезжала. Взрослая такая стала, сурьёзная, наряды себе городского типа завела, волосы остригла. Вспомнилось ему все это, и вслед за этими воспоминаниями другие потянулись, о прежних далеких днях, спокойных деревенских денечках. Колька тогда только ходить начал да слова кое-какие произносить, коверкая их на детский лад. Марфа Мишку ждала, круглая ходила, ссутуленная – Мишка тяжелый был, богатырь. Бывало, Марфа стирает что-нибудь или стряпает у печки, а в глазах такое тихое счастье светится, что у Петровича от одного только взгляда на нее благодать в душе расцветает… «Давай воды тебе, что ли, наношу», – неуверенно скажет Петрович, а Марфа посмотрит на него своими большими телячьими глазами, улыбнется доброй, какой-то детской улыбкой, едва заметно кивнет, и Петрович со всех ног кинется ей воду из колодца таскать, ощущая внутри, где-то под сердцем, радостное урчание. Так и жили. Иной раз так день пройдет, и не заметишь. А вечером придет Сидорыч, с компанией, «похлебать аликсиру» звать, а Петровичу и идти не хочется, дома, с женой остаться приятнее. «Нет, Сидорыч, – говорил он тогда, – Вы как знаете, а мне вон Марфе надо воды натаскать». Сидорыч понимающе кивал, как-то даже завистливо улыбался, и шел к мужикам. Его благоверная нраву была препротивного, за каждый шаг мужу выговаривала. Детей у них с женой долго не было, да Сидорыч и не сильно печалился по этому поводу. Детям любовь нужна, а где тут в их с Прасковьей отношениях любовь-то? Нету ее, и не пахнет.
Сидорыч посмотрел на опустевшую бутыль, взял ее в руки, посмотрел на свет. Пуста, голубушка, даже на донце капелька не перекатывается. – Эх, Петрович, – жалобно пробасил он. – Вот она, жизнь. То целая бутыль ее, то бац – и нет ни капли. А мы словно и не жили.
Петрович затуманенным взглядом посмотрел на товарища. Прав был товарищ, прав, что тут скажешь? Жизнь, как и водка, заканчивалась быстро, нелепо, даже вкуса почувствовать ее не успевал. А ведь надо вкус почувствовать… Ведь одна она, жизнь…
Сидорыч вдруг вскочил с места и кинулся к шкафу. Петрович хорошо знал этот шкаф. Когда Прасковья еще не сбежала к своему слесарю в соседнюю деревню, в этом шкафу рукоделия ее хранились. Ох, и мастеровитая баба эта Прасковья, столько всего руками выделывала! То валенки сваляет какие-то необыкновенные, все в каких-то висюлях да оборках, то воротничок на свадебное платье – кружева лучше английских, да все не по готовому узору, а так, из головы, то одеяло сошьет из остатков да лоскутков. И детские вещички делала. Любила она деток; своих, правда, Бог не послал, так она соседским раздаривала. Сейчас шкафчик был пустой. И только на нижней полке стояла литровая бутыль самогону…
– Вот, к рождению припас, заранее запрятал.
Сидорыч резким жестом достал бутылку, откупорил и наполнил стаканы. Время словно остановилось, перестало существовать для этих двух отщепленных от всего мира душ, нашедших друг друга в своем одиночестве.– Ой, вы к-о-о-о-о-ни мои кони, – то и дело пуская петуха надрывался Петрович. Его голос, огрубевший от водки, резким басом катился по ночной деревне. Луна, словно безмолвный надзиратель, провожала Петровича до его одинокого прибежища, до его опустевшего, одичавшего дома. Петрович споткнулся о какую-то корягу, упал, встал, крутанулся, чтобы устоять на ногах, и пошел в противоположную от дома сторону.
– Ооооой, в-ы-ы к-о-о-о-н *ик* и, – уже тише и без прежнего задора промычал Петрович, пытаясь разглядеть в ночной дали силуэт хоть чьего-нибудь дома.
Луна скрылась за тучей, и смущенный Петрович, вконец отчаявшись, махнул рукой и поплелся в сторону леса, аккомпанируя каждому второму шагу раскатистой икотой. Деревня давно осталась позади, теперь Петрович шел дорогой, ведущей вдоль леса. Впереди у обочины замаячил какой-то холмик. «Откуда в лесу гора?» – собрав остатки сознания в кучу, подумал-таки Петрович. На вторую мысль остатков сознания не хватило, и Петрович, не напрягая уставшего рассудка по пустякам, плюхнулся у подножия «горы». «Мягко», – прорвалась наружу очередная мысль, и Петрович осознал, что сидит на старой телогрейке. Туча в этот момент сползла с луны, и Петрович в лунном свете увидел дырявый башмак, какие-то картонные коробочки и пакеты из-под молока, ленты, подбитую временем кружку – все это и многое другое прорисовывалось во тьме и навело Петровича на очередную здравую мысль: «Это свалка!». Петрович, поняв, что холм, у которого он так удобно устроился, является свалкой, не смутился. Он полуприлег на старой телогрейке и обвел взглядом свой случайный ночлег. Вдруг Петрович ойкнул и широко открытыми от изумления глазами уставился на верхушку мусорного холма. На этой самой верхушке, чуть-чуть сбоку, он отчетливо увидел очертания профиля человеческой головы. Кому принадлежала голова, мужчине или женщине, Петрович определить затруднялся. Петрович, только что переставший икать, снова начал икать, теперь уже от испуга. «Что делать?» – лихорадочно, насколько только было возможно в его положении, соображал Петрович, зыркая по сторонам. «Пойти поближе посмотреть что ль…Да боязно…вдруг это мертвяк…Ох, вдруг это Васька Кузнец, он бишь с шестого дни дома не был…» – Петрович присмотрелся. «Он, родимый, кто ж еще». Петрович нервно поерзал попой на телогрейке. «Ох, страсти-то какие…Бежать отседова надоть, бежать и виду не показывать, что я чевоть знаю, видел». Петрович, совсем было решившись на побег, попытался встать на ноги. Ноги, то ли от принятого алкоголя, то ли от страху, держали Петровича еле-еле. Сам не зная, почему, Петрович сделал шаг в сторону головы. Напрягая глаза, Петрович уставился в то место, где была голова, и разглядел довольно длинные белокурые волосы, причудливо раскинутые в разные стороны устрашающим ореолом. «Ух ты ж, Господи! Баба!» – громким шепотом изумился Петрович и сделал еще один шаг по направлению к страшной находке. Теперь Петрович разглядел, что это и впрямь «баба»; глаза «бабы» были открыты и были неестественно большие, рот тоже был почему-то открыт буквой «о». Опять туча набежала на луну, и голова утонула в темноте. Петрович стал шарить по карманам в поисках спичек. В кустах, неподалеку от кучи, что-то хрустнуло. Петрович выронил найденный спичечный коробок, похолодел телом. От страха сердце ёкнуло куда-то в пятки и в виски одновременно, руки задрожали. Хрустнуло еще раз. «Ну, все, – мелькнуло у Петровича в голове, – Теперь убьют». Когда в кустах хрустнуло в третий раз, Петрович, за эти секунды успевший представить во всех подробностях, как его будут убивать (непременно долго и большим ржавым топором), вздохнул и повернулся в сторону кустов, выпятив навстречу опасности свою худую впалую грудь. Под кустом сидела собака и равнодушно сверкала глазами. «Нужен ты мне, старый!» – читалось в этих глазах. «Тьфу ты, нечисть!» – сплюнул в сердцах Петрович и нагнулся за оброненным коробком. Пошарил по мусорной куче, нашел. Может и не свой коробок нашел, да спички там были. Подняв спички, Петрович почти вплотную подошел к голове. Всего остального, что к этой голове по законам мироздания должно прилегать, Петрович под мусором разглядеть не мог. «Странно, что рот открыт», – подумал Петрович, – «Может, жива еще?» – неохотно, но все же шевельнулась в его душе надежда. Петрович протянул руку и коснулся «бабьей» щеки пальцем – плоть под пальцем прогнулась, а когда Петрович в ужасе отдернул палец, щека приняла прежнюю форму. Петрович открыл рот почти такой же ровной буквой «о» как и голова. Минуты три Петрович не мог пошевелиться. Очнулся он только тогда, когда из его открытого рта вылезла слюнная капля и упала ему на торчащую в запахе рубахи обнаженную грудь. Очнувшись, Петрович кинулся к голове и начал руками раскидывать мусор, громоздившийся поверх остального тела. Петрович ухватил тело за бока и извлек из мусорной кучи женщину. Надувную женщину…
Петрович уже третий день не выходил из своей избы. Сидорыч заходил к нему, узнать, что он да как, но Петрович в дом не пускал, отговаривался, что нездоровится ему. Соседи видели, как к нему зашла баба Нюра, принесла что-то в переднике, скорее всего, литр. У Петровича пробыла недолго, минут десять. По просьбе соседей, да и по своей бескорыстной инициативе, пыталась баба Нюра разведать, что такого стряслось с Петровичем, с чего это вдруг он таким нелюдимом заделался. Но Петрович только мямлил что-то про «нездоровье» да «всякие такие причины». Так и ушла баба Нюра, не солоно хлебавши. А Петрович прятал от соседей незамысловатую тайну – свое счастье…
Три дня назад, после своего необычного приключения, принес Петрович надувное чудо домой, рассмотреть при свете. Оказалось что-то вроде куклы, да как на совесть сработанной! Долго, правда, кумекал Петрович, отчего у куклы рот так странно открыт, но решил, что это она разговаривает как бы. Кукла была совсем нагая, но неприлично женщине голой быть, рассуждал Петрович. Нашел кое-какие платья Марфы и вырядил свою «гостью» по всем правилам, даже волосы ей в косу заплел. Петрович сам не заметил, как стал называть ее Марфой, как стал к ней обращаться, словно к живой… А у нее рот открыт, словно отвечает… Бывало, усадит ее за стол с собой, поставит перед ней чашку с чаем и рассказывает ей о своей жизни, потом начнет вспоминать, как им с ней, с Марфой, хорошо жилось, детишек каких они разумных да трудолюбивых воспитали.
– Детишки-то наши во какие умные (при этих словах Петрович поднимал указательный палец вверх), в городе живут. Василиса вон и младшего с собой в город на все лето забрала, мол, пущай маленький цивилизацию посмотрит. Мишка только непутевый у нас, ну да у него свое счастье, нескладное, а все-таки счастье…Да ты пей чай-то, пей, свежий заварил, душистый, – приговаривал Петрович, пододвигая «Марфе» чашку с холодным нетронутым чаем.
Неделя прошла, а Петрович так и сидел в избе, никуда не выходил, кроме как во двор к колодцу за водой. Для чая… Соседи, увидев старика, окликнут его, а он притворится, что не слышит, и шустро в избу, и дверь затворит.
– Что-то нехорошо мне, Марфинька, – сказал как-то Петрович. – Что-то скребет, скребет на душе, а что скребет, не знаю. Все вроде хорошо у нас, слаженно, и ты вон вернулась ко мне, старику. А долго тебя не было, Марфинька, истосковался я весь душой. Поначалу-то на детишек смотрел, радовался да в тоске своей утешался, все-таки твои они кровиночки. А что детишки? Разбежались детишки… Город их сманил из родной деревни, из родного дому. Ох, нехорошо мне, – Петрович приложил ладонь к груди и посмотрел на сидевшую перед ним куклу: рот по-прежнему открыт, глаза выпучены, без выражения.
– Прилягу я, Марфинька, ты уж тут без меня похозяйничай.
Ночью Петрович проснулся от шума. Что-то колотило по деревянным стенам дома, кругом все галдело, кричало, причитало. Петрович в темноте не мог разглядеть, кто там шумит.
– Марфа, – еле слышно позвал Петрович.
– Я тут, – каким-то не своим голосом отозвалась Марфа с печи.
– Ох, Марфушка, кто же шумит-то так? Ночь ведь на дворе глубокая.
– Это, наверное, Мишка во дворе колет дрова, – ответили с печи.
– Ночью? – Удивился Петрович. – А все спят?
– Спят, спят, не волнуйся. И ты спи. Тебе теперь спать надо. Засыпай, а я тебе спою, хочешь? – И голос запел. Петрович раньше никогда не слыхивал этого голоса, это был не Марфин голос, а какой-то другой. Голос был еле различим в ночной тишине, слов песни Петрович не разбирал, да ему и не хотелось их разобрать. Он слушал голос, и от этого голоса ему стало так спокойно на душе, все страхи куда-то ушли, оставив только благодатное спокойствие и ощущение тихого спокойного счастья. Голос, словно воздух, входил в сознание Петровича, и только где-то далеко, где-то не здесь, слышался звук ударов чего-то тяжелого о стены дома. «Все колет, труженик мой, кормилец», – подумал Петрович и заснул спокойным сном.
Утром соседи нашли только обгоревшие остатки бревен там, где до этой ночи был дом Петровича.»
Я закрыл тетрадь и спрятал в ящик. Но в голове навязчиво металась какая-то мысль, или, скорее, догадка, которая никак не могла оформиться в мысль. Я снова достал тетрадь, полистал. Снова закрыл и отложил в сторону, на край стола. Потом снова взял, открыл на последней странице и прочитал последнюю запись, которая, как я вспомнил, была задумана как глава романа, моего будущего романа…
«Жизнь не закончится, если я освобожусь от этой любви. Я лишь начну ее новый этап. Эта тетрадь стала свидетелем моей первой, настоящей, самой прекрасной и в то же время самой несчастной, просто убийственной любви. Я жил этим чувством (лучше сказать, этим безумием) долго, долго не решался расстаться с очевидным: я не хотел верить, что первая любовь не станет моей единственной. Нам с ней не по пути. Нужно идти своей дорогой, нужно терпеливо ждать и дождаться другой любви. Я столько лет жил в мире своих необоснованных фантазий, столько лет наполнял свою жизнь только ей, и мне осталось только поблагодарить ее за это. Я благодарен жизни за то, что родился человеком, способным на такое сильное чувство. Благодарен за то, что влюбился, что, благодаря этой любви, узнал и обрел себя. Любовь выпала как раз на годы роста личности. Но личность сформировалась, и пришло время двигаться дальше, не оглядываясь назад. Эта история закончилась – самое время начать другую. Это не значит, что я больше ни строчки не напишу в эту тетрадь, которая стала символом любви. Нет, Дневник в данном случае мой единственный собеседник, которого не смущает ни «бедность слога», ни резкость выражений, ни излишняя откровенность.»… Дальше я читать не стал. Сейчас эти незамысловатые строки напомнили мне о том, чего я хотел от жизни тогда, когда был еще окрылен оптимизмом и верой в то, что для человека, наделенного интеллектом, нет ничего невозможного. Я был бесстрашен. Возможно, это легко объяснить тем, что мои нервы были тогда крепки и неуязвимы, а разум не боялся мыслей… Мир представлялся мне безопасным, добрым, полным возможностей, помощником и сообщником в моих самых смелых предприятиях. Я был спокоен и уверен. Я, кажется, знал что-то такое, что наполняло меня спокойствием и уверенностью в том, что мир вокруг меня прочен, непоколебим. Я был уверен, что моя жизнь в безопасности, что все стабильно, что мне по силам все, что бы я ни задумал. Я мог выбрать любую дорогу, заняться любым делом, и я был бы успешен на том пути, который избрал бы для себя. А чего я хотел тогда? Я долго не мог понять, чего хочется мне. Рядом всегда оказывалась мать со своим настоятельным плоским представлением прошлого века, или другие «взрослые», которые подсознательно готовили меня к тому, что мой выбор сделан за меня, что я, как и все, должен страдать, работая с утра до вечера, должен терпеть, должен зарабатывать деньги, много денег, что только ради денег я должен получить образование, получить красный диплом престижного вуза. А мне никогда не хотелось денег ради денег. Деньги должно приносить любимое дело, и их должно быть не излишне много, а достаточно на все. Я сошел с приготовленного мне пути, не пошел после диплома работать туда, где мне светил карьерный рост. Но я забыл, для чего я сделал этот шаг. То, что я устроился в такое место, где мне можно работать дома, раз в неделю приезжая в офис за зарплатой и заданием, не было простым стечением обстоятельств. Это было спланировано мной. Просто мое желание воплотилось в возможность, которая проплыла перед моим носом и которую я не упустил. Но я не начал делать то, чего хотел, не начал заниматься делом, которым хотел заниматься. И все это породило чувство какой-то безысходности, бессмысленности, даже ощущение смерти, которое не покидает меня последнее время. Особенно ощущение смерти мне непонятно: мне очень страшно о смерти думать, но, в то же время, я ее словно жду, или, скорее, опасаюсь. Возможно, это все объясняется расстроенными нервами. В таком случае становится понятно, почему мне в голову постоянно лезут какие-то страсти, мерещатся катастрофы, несчастные случаи. Я даже всерьез начал бояться конца света, что уж совсем на меня не похоже. Может быть, раньше я не воспринимал все это всерьез, не поддавался страхам и фобиям современной суетливой жизни потому, что не боялся смерти. Но тогда почему я начал испытывать этот страх? А может быть, этот страх есть не что иное, как проявление моего нереализованного желания? То есть я ведь наметил себе некоторое будущее, я очень хотел стать писателем и какое-то время я держал эту схему в голове: вот я выучился, вот устроился на работу, оставляющую мне много свободного времени на книгу, вот я работаю над первой книгой, заканчиваю ее, издаю. И вот оно, несоответствие: устроившись на работу, я забыл про книгу. Конечно, прежде чем я начал искать работу, я пересмотрел свои желания и каким-то образом старался изменить свои планы, свои представления о будущем, но это все было ненатуральное, это не являлось истинно моим желанием. Но ход воплощения моего первого плана был уже запущен, и я нашел работу с более чем частичной занятостью. Но все остальное было мной забыто. И вот мой рассудок, или моя душа, помня «программу», намекают мне на несоответствие и вызывают в моем организме все эти страхи. Моя бабушка как-то сказала мне, что депрессия бывает только у ленивых, ничего не делающих людей. А ведь даже ее слова можно использовать в подтверждение моей теории: у человека должно быть дело, занятость. И неважно, как к этому делу относиться – как к предназначению или как к обычной занятости, – но оно непременно должно быть.
А какое же место в моих планах занимала тогда любовь? По-моему, я очень долго пытался разлюбить Яну, а когда, наконец, мне это удалось, я пересмотрел свое отношение к любви и решил, что не буду больше страдать из-за девушек. Я даже хотел стать одним из тех, кого называют мачо, и влюблять в себя девушек, наслаждаться их любовью, их обожанием, оставаясь неприступным и хладнокровным. Но это скучно. Отношения имеют смысл, если они согревают. К тому же, в глубине души я всегда хранил надежду на то, что когда-нибудь я найду свою единственную, которая мне предназначена, которая поймет меня и примет, которую я смогу полюбить, но уже не болезненной, а здоровой естественной любовью. Я верил в существование той, которая «сделана» специально для меня. Опять в голове возник образ Фауста. Фауст, в конце концов, обрел знание и обрел Маргариту. Выходит, они были друг другу предназначены. Но почему они несколько лет не могли определить значимость их встречи, хотя эти годы они были так или иначе близки: сначала жили под одной крышей, потом стали любовниками, и все равно не сразу «узнали» друг друга. Очень хочется перенести их ситуацию в наше время и попробовать ее объяснить. Если предположить, что они современные герои, то что-то будет понятно. С одной стороны, Фауст, возможно, терзался сомнением, любит ли он Маргариту. Фауст сомневался во всем, даже в очевидном. А если это очевидное было прекрасным, то можно сказать с уверенностью, что Фауст обязательно усомнится в очевидности этого прекрасного. И здесь вряд ли дело в комплексе неполноценности. Просто Фауст не решил для себя важных вопросов, не выбрал, чему верить – ему нужна была непреложная Истина… Значит, это, скорее, неверие в существование счастья, которое он ассоциировал с Истиной. Сложно получается. А может, Фауста мучило чувство обреченности, потому что связь с девушкой возраста и положения Маргариты подразумевала, что они поженятся, иначе он будет преступником, обрекшим бедную девочку на страдания. Из них двоих он взрослее и, следовательно, должен был понимать, к чему ведет эта связь. А Маргарита могла спокойно позволить себе потерять голову от любви. Мысль о свадьбе вполне могла спровоцировать чувство обреченности, поскольку в голове Фауста наверняка развился и утвердился стереотип о том, что свадьба представляет собой некий финал. А финал легко может ассоциироваться в сознании или подсознании (скорее, второе) со смертью. А если взять наше время, то этот страх можно притянуть ко многим ситуациям и объяснить им то, что очень мало пар складывается «раз и на всю жизнь». Многие находят свою половинку (или единичку для пары), когда жизнь уже клонится к середине. Обычно до этого люди переживают один или два неудачных романа. А почему так происходит? Иногда виноват банальный страх, на который так горазд современный человек. Девушки, возможно, боятся не дождаться принца и утратить свою привлекательность, так никого и не встретив; мужчины, может быть, боятся потерять силу и не продолжить род (в таком случае ими руководит сложившаяся в ходе эволюции потребность к продолжению рода). А может, и теми, и другими руководит засевшая в голове «схема жизни»: учеба, диплом, свадьба, дети. А может, некоторые просто «тугодумы» по жизни и не сразу понимают, что и как делать, или как выбрать себе человека не просто для совместной жизни, а для счастливой совместной жизни. Если сравнить жизнь со школой, то найдется масса схожего. В жизни, как и в школе, есть отличники и двоечники. И, как и в школе, встречаются среди них ботаники, ученики одаренные, которым не надо прилагать усилий, у них и так все получается (такие обычно живут, что называется, без забот, у них все происходит своевременно и грамотно), есть, наоборот, менее одаренные, а есть лентяи. Ботаники чаще всего самые несчастные. Они всегда стремятся к видимости, стремятся сделать эту видимость идеальной. Им всегда важно, как их поступки оценивает тот человек, которого они привыкли радовать, а не расстраивать. Чаще всего таким человеком является мать, которая с детства втолковывала ребенку, что он у нее молодец и должен быть лучше всех. А для некоторых детей выделиться, отличиться – значит добиться внимания, получить дополнительную порцию любви. Из-за всего этого по-настоящему подходящего человека люди находят довольно поздно – в 30–35 лет. Они к этим годам взрослеют, становятся мудрее и спокойнее. Они уже кое-что знают о жизни. И, все-таки, почему влюбленные (даже «предназначенные влюбленные») встречаются так поздно? А может, они встречаются раньше, но сомнение в правильности выбора, страх и нежелание принять неизбежность трудностей не дает им быть вместе… Примером подобной ситуации становятся пары, которые распадаются, а потом, спустя какое-то время, снова сходятся. А может, Судьба дает «половинку» только тогда, когда убедится в том, что время действительно настало?..
Я посмотрел на стопку листочков на диване (это материал для пересмотра и переписывания в одну тетрадь) и сообразил, что так и не нашел список. Следующий на очереди шкафчик-тумбочка в прихожей, где когда-то стоял телефон. Из-за того что телефон стоял именно на этой тумбочке, в ней тоже копились стопки листочков с записанными номерами, адресами и именами. Список вполне мог быть там.
Спустя сорок минут я понял, что списка там нет. Самое обидное, что, пока я ковырялся в бумажках, желание позвонить Кате стало пропадать. Но отступать рано. Если решил, надо постараться еще. В делах Судьбы всегда так: надо быть настойчивым, не отступать и смело и уверенно преодолевать все трудности.
Еще примерно через полчаса поисков заветный лист оказался, наконец, в моих руках. Ура! Но ни одной Кати в нем не было. Мой энтузиазм заметно ослабел. Если Судьба благоволит нашему с Катей союзу, все должно происходить если не быстро, четко и как по маслу, то хотя бы без лишних затрат нервных клеток и времени. Так, надо напрячь извилины и подумать, где я могу взять Катин номер. Надо вспомнить, с кем она общается в редакции. Я видел ее несколько раз с Никой (тоже из ее отдела девушка), и однажды она, как мне показалось, мило беседовала с Пашей, и, судя по интонации и вольности разговора, они явно состоят в приятельских отношениях. (Предполагать между ними более серьезные отношения я не рискнул, чтобы не прогнать необоснованными страхами свою пугливую решимость). Телефон Ники на листе был. Так, теперь надо придумать, с какой целью я прошу у нее телефон (причем мобильный) Кати. Ника довольно любопытна и к тому же болтлива, ей говорить все, как есть, не годится. Я глянул на часы: до конца рабочего дня остается час, нужно звонить. Я заметался по комнате, стараясь придумать хоть что-то правдоподобное.
– Мяу, – кот уселся прямо передо мной и смотрел на меня спокойно, по-профессорски.
– Веня, ты гений! – Кот натолкнул меня на мысль. Катя как-то предлагала мне скрестить моего Веню со своей кошкой, потому что они оба породистые (оба заграничные голубые), и у них может быть ценное потомство. Катя не вдавалась в подробности, собирается ли она торговать котятами или хочет просто еще пару кошек, но я тогда пообещал подумать и позвонить ей, если надумаю, но (трус, тряпка, размазня, идиот, потому что ежу понятно, что в данном случае не взять номер действительно глупо!) не взял номер телефона. Я схватил трубку и набрал рабочий Ники. Но мне никто не ответил. Нет, конечно, есть много мест, куда Ника могла уйти от своего рабочего стола, но все-таки если я на правильном пути, и Судьба все-таки решила дать нам с Катей шанс, то Ника должна была бы схватить трубку с первого гудка. Энтузиазм опять стал меня покидать. Я уже спокойно ходил по комнате, внутренне готовя себя к разочарованию. Я понимал, что мне стоит попробовать позвонить еще раз и, возможно, еще, но мне уже не хотелось. Я сидел и смотрел на трубку, раздумывая. Нет, надо сделать то, что наметил. Нельзя сейчас поддаваться эмоциям и так на все реагировать. Без всякого желания я снова набрал номер. После пятого гудка включился автоответчик, и я был вынужден отключиться. Настроение было на нуле. Мои радужные надежды на счастье были разбиты. Я пытался убедить себя, что это еще ничего не значит, пообещал, что если и от третьего звонка не будет никакого толку, я прекращу свои попытки, и все будет так, как было до сегодняшнего дня – без особых событий, плавно и… скучно. Чтобы не дать себе возможности передумать, я нажал кнопку быстрого набора последнего вызова и приготовился считать гудки. Но на этот раз Судьба надо мной сжалилась, и я услышал голос Ники. Даже не сообразив, что случилось, я выпалил в трубку:
– Привет, это Андрей, мне нужен номер Кати Сазановой, потому что мы договаривались с ней, что я ей позвоню, когда буду согласен спарить своего Вениамина с ее кошкой, но потерял ее номер. Продиктуй мне его, будь добра! – Ника подозрительно засопела в трубку, но ничего не спросила и просто продиктовала телефон.
Отключившись, я понял, как это все прозвучало и почему Ника засопела и воздержалась от вопросов. Я почувствовал, как покрылся румянцем. Но у меня был телефон Кати, и мне должно быть абсолютно все равно, что там подумала Ника.
Когда первая эйфория прошла, и я вновь смог здраво соображать, я понял, что теперь предстоит самый трудный, решающий шаг. В моей голове забегали мысли. То я думал, что кот и на этот раз может послужить вполне приличным предлогом для звонка, то мне хотелось избежать этого ребячества и позвонить ей просто с предложением встретиться и пообедать, то мне начинало казаться, что Катя меня отошьет, что я недостоин ее, такой красивой, такой милой. Я почувствовал, что мои руки слегка дрожат. И это у взрослого тридцатилетнего мужика! В конце концов, я сделал глубокий вдох и пообещал себе позвонить через два часа, когда она уже будет дома. Отсрочив, таким образом, то, что меня пугало, я выбил себе два часа трепетной неизвестности. Я мог представлять себе, как пройдет наш телефонный разговор, представлять, что она скажет, и придумывать остроумные ответы на все ее фразы; я мог поразмыслить над тем, с чего начать разговор, стоит ли с начала беседы взять шутливый тон или, наоборот, деловой; я мог попрактиковаться в правильном тембре голоса, мог даже подойти к зеркалу и представить, с каким лицом я буду разговаривать по телефону (я прекрасно понимаю, что по телефону меня не видно, но тембр голоса во многом зависит от выражения моего лица, позы и даже жестов). Два часа прошли, я должен был приступать к действиям. Еще какое-то время я сидел, уставившись на экран мобильного с набранным номеров, и не мог решиться нажать кнопку вызова. Часы показывали уже почти половину десятого, когда я все-таки нажал кнопку.
– Алло, – Катин голос по телефону звучал еще спокойнее и нежнее, чем в жизни.
– Катя, привет, это Андрей из редакции (я там один Андрей, поэтому фамилию называть не стал). – Сначала голос мой был хриплым, но к третьему слову я странным образом успокоился и перестал думать о том, что и как я произношу. Я сел на диван и расслабился.
– Привет, рада тебя слышать. Где ты раздобыл мой телефон? – Я чувствовал, что она улыбается.
– У Ники. Мне пришлось придумать целую историю, чтобы выманить у нее эту информацию.
– Неужели она сдала меня за историю?
– Ну, на самом деле у меня был запасной план, который включал в себя пытки раскаленным железом и хитрыми средневековыми приспособлениями, о чем я честно предупредил Нику, после чего она выбрала из двух зол меньшее и согласилась выслушать историю. – Катя расхохоталась. У нее такой добрый открытый смех. Я ведь никогда не слышал, как она смеется. – На самом деле я сказал ей, что собираюсь скрещивать своего кота с твоей кошкой.
– Очень разумная выдумка. А ты собираешься?
– Предлагаю обсудить это как-нибудь за обедом в спокойной обстановке. Как насчет субботы?
– Заманчивое предложение. Мне взять свою Джульетту, или сначала должны пообщаться сваты и обсудить детали?
– Думаю, сначала сваты. К тому же Вениамин будет занят весь субботний день – у него по программе субботнее обжорство и валяние на диване. Он не может пропустить эти важные дела. – Катя опять рассмеялась.
– Договорились, в субботу назначим деловой обед. – Мы выбрали место и распрощались. Я счастлив! Я ликую!
Вдруг вспомнился приснившийся Фауст со своими страхами и нежеланием наслаждаться моментом, и я заметил, что становлюсь в этом на него похож. В голову полезли всякие мысли: что не надо радоваться прежде времени, что нашу встречу даже свиданием можно назвать с натяжкой, что Катя могла согласиться из вежливости, а рассмеяться над сидевшей рядом подругой или племянником, который в момент нашего разговора корчил ей смешные рожицы… К черту сомнения! Если что-то не так, я об этом рано или поздно непременно узнаю, и даже если разочаруюсь или окажусь отвергнутым, то потом и расстроюсь. Сейчас я счастлив, и буду радоваться! Тут я задумался, что это тоже своего рода «замирание» момента – я не хочу глядеть в будущее, продумывая, что будет, если у нас «не сложится» или, наоборот, если все будет хорошо; не хочу оборачиваться к прошлому, вспоминая, сколько лет я жил пресно, позволяя страху и опасениям отгораживать меня от жизни; я живу настоящим и радуюсь ему, выкинув из головы мысли о возможном несчастье. Это действительно здорово! Чувство радости пробудило во мне деятеля: мне захотелось срочно сделать что-то важное, что-то масштабное, куда-то деть свою энергию, направить ее в правильное русло. Я включил телевизор, но я настолько привык относиться к нему как к фону, что он уже не мешал моим мыслям. Пришлось выключить за бесполезностью. Сел за компьютер, полез в интернет. Два раза проверил почту, прокомментировал фотографии друга в социальной сети, ознакомился с новинками в мире кино и музыки, но мне по-прежнему недоставало деятельности. Мне хотелось как-то выразить всю эту энергию, что-то создать самому, что-то спеть, что-то написать, что-то придумать. Я сел к столу и положил перед собой кипу белых листов. И просто начал писать. Ручка словно сама порхала над листами, оставляя после себя след из неразборчивых каракуль. Прошел час, потом другой, потом еще один, а я все сидел и писал. Я не задумывался над тем, что я пишу, мысли сами оформлялись в слова и предложения, я ни разу ничего не зачеркнул и не остановился перечитать, чтобы внести исправления. Когда я закончил, за окном уже рассвело, были слышны голоса школьников, идущих к первому уроку. Я только сейчас заметил, что ноги мои затекли от долгого сидения, и сладко потянулся. Я не ощущал усталости, но ощущал удовлетворение, спокойствие и довольство. Я радовался спокойной уверенной радостью. В моем сердце царила уверенность, что я понял что-то важное, нашел что-то свое, и теперь моя жизнь станет другой, она будет радостной, счастливой, наполненной смыслом. Я думал о том, что почти всю свою сознательную жизнь я мечтал о том, чтобы стать писателем, но ни разу не взял в руки ручку, чтобы что-то написать. Я думал об этом, но никогда у меня не доходило до действия. Всегда находилось что-то, что останавливало меня, разуверяло в возможности осуществить задуманное, пугало или убеждало в том, что у меня ничего не получится. Я был настоящим Маниловым, который никогда не воплотит в жизнь ни одну из своих идей. Но мечты и реальность – это разные миры, и надо научиться их пересекать. Я посмотрел на листы перед собой. Их было много. Первый лист начинался словами:«Дневник.»
Март, 18…года???
Вот все, что я помню о сегодняшнем дне (записано по той причине, что я сам еще хорошенько не верю в реальность произошедшего, но постараюсь сохранить на бумаге все, что мне пришлось пережить сегодня или, быть может, кажется, что я это пережил):
Вспышка. Яркий свет возник из ниоткуда и осветил пространство вокруг меня, осветил меня самого, просветил меня насквозь. На мгновение я перестал понимать, где я, казалось, даже забыл, кто я; меня словно поместили в безвременье, хаос, в котором нет ничего и который сам есть ничто. И вдруг другой свет, свет солнца, яркого «живого» солнца заставил меня зажмуриться. Ветер, легкий, едва ощутимый ветер, пахнул мне, казалось, в самое сердце, как будто вновь зажигая жизнь в моей груди. Жизнь. Это странное уже почти забытое ощущение жизни, ощущение ощущений, завладело всем моим телом. Я вздрогнул. Наконец, я открыл глаза. Посмотрел на свои руки. Они словно появлялись из воздуха, обретая плоть здесь и сейчас. Я беспорядочно перебирал пальцами, с каждой секундой все отчетливее чувствуя каждую клеточку тканей своих кистей. Мои ступни ощутили твердость земли под собой. Сердце неистово забилось от резкого осознания жизни, осознания возможности ее, – ощущение, которое я не надеялся больше испытать. Я чувствовал, я видел, я осязал – я жил!..»