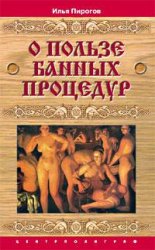Рижский редут Трускиновская Далия

– Я был бы только рад, если бы такая приятная и достойная фрау вступила в законный брак! – отрубил я. – А теперь могу ли я позавтракать и уйти на службу? Мой прямой начальник вице-адмирал Шешуков будет очень недоволен, не найдя меня в канцелярии.
– Ступайте, – подумав, разрешил квартальный надзиратель. – Но знайте, что я еще буду беседовать с вами об этом деле, герр Морозов, и не пытайтесь скрыться.
– Я сам хочу, чтобы это дело поскорее прояснилось, – отвечал я, и тем допрос закончился.
Фрау Шмидт, не глядя на меня, предложила герру Блюмштейну еще сладких сухариков к кофею, а я пошел к себе в комнату, куда по условию нашего с ней уговора мне должны были подать завтрак.
По дороге в порт я немилосердно костерил добродетельных бюргеров, заставивших меня провести ночь в сыром погребе.
Уже на Замковой улице я вдруг обернулся.
Квартальный надзиратель сопровождал меня, даже не пытаясь это скрывать. Он шествовал за мной саженях в двух, не более. Мне оставалось лишь ускорить шаг и пересечь Замковую площадь едва ли не бегом. На Цитадельном мостике я обернулся. Герр Блюмштейн остался возле замковых конюшен – сопровождать меня до самого порта он не стал.
Я пошел медленнее – и только теперь осознал всю сложность своего положения в полной мере.
Квартальный надзиратель, расспросив семейство Штейнфельдов, может догадаться, кто и почему убил бедную Анхен (тут память моя достала из своих сундуков и показала ее лучший портрет, с золотящимися кудряшками; волосы Анхен имели именно такой цвет от природы и вились сами, без папильоток). Тогда он перестанет меня преследовать. Но может и не догадаться. В самом деле, мог ли быть враг у молодой, несколько легкомысленной женщины? Последние два года она постоянно меня навещала, и если бы в ее прошлом имелся ревнивый злодей, он бы уж давно дал о себе знать.
В чем и перед кем провинилась моя Анхен, которая не желала ни богатств, ни славы, а просила у Бога лишь немного любви флотского офицера и потом – немного любви почтенного бюргера, чтобы родить детей и найти счастье в материнстве? Она не раз говорила мне о будущих детях, эти младенцы стояли между нами непреодолимой преградой: стать моей женой Анхен не могла, а рожать незаконное дитя не желала, да и я тоже не стремился поскорее стать отцом.
Впрочем, она ведь хотела просить у меня совета. Что-то случилось – а я, занятый мыслями о Натали, даже не прислушался к Анхен.
Я обозвал себя дубиной стоеросовой и, уже подходя к порту, додумался до неприятной вещи: если герр Блюмштейн не догадается, кто убил Анхен, то начнет докапываться, где и как я провел вечер. Если бы я не сказал ему о своей прогулке и о книгах! Я мог бы заявить, что сидел в своей комнате и преспокойно читал, а потом, услышав шум на лестнице, увидел упавшую Анхен и убегающего убийцу! Теперь же я выставил себя в самом дурном свете – прогулка с книгами подмышкой в поисках лавочки под деревом посреди переполненной людьми и скотом Риги выглядела совершенно несуразно.
В порту мне сразу же рассказали новости. Левизу удалось вывести немалую часть отряда. Он возвращался к Риге, а пруссаки висели у него на плечах.
– Я спорить готов, что наш гениальный комендант не отдал приказа разобрать наплавной мост сразу после того, как Федор Федорович проведет по нему пехоту и проскачет последний казак. Тришка, где треуголка моя? – Николай Иванович решил сам навестить фон Эссена в Рижском замке, благо идти было недалеко. – Морозов, ты пойдешь со мной, прочитаешь мне донесения внятно и вразумительно.
Предполагалось, что я, читая глазами по-немецки, произносить буду по-русски.
Я рассчитывал по дороге рассказать Шешукову о случившейся со мной неприятности, но за вице-адмиралом увязалось немало народу со своими заботами и вопросами. Наши шесть канонерских лодок и прочие мелкие суда находились в боевой готовности, но, чтобы выводить их и выстраивать живой стеной вдоль Двины, требовался приказ Шешукова, приказа же пока быть не могло – он знал о положении дел слишком мало.
Дела же обстояли прескверно. В замке мы узнали о потерях – шесть сотен убитых, да три сотни попали в плен. Фон Эссен не желал слушать упреков, на все у него был один ответ: пушек-де у Граверта и Клейста втрое больше.
Следующее, чего нам следовало ожидать, – это появление вражеских разъездов на левом берегу Двины. Там у нас были укрепления, но оборонять их с новобранцами фон Эссен не решился. Именно это мы обсуждали со штабными офицерами, пока начальство за закрытыми дверями ругалось и искало выход из положения.
– Черт возьми! – воскликнул я. – Если пруссаки, никем не остановленные, подойдут к самому берегу и сумеют поставить там свои батареи, Рига пропала! Город не выдержит настоящего обстрела!
Что такое пушки, я знал не по рассказам. Я был в сражении у Дарданелл, я был в сражении у Афона, я видел, как далеко летит пушечное ядро и какие разрушения оно производит.
– Как будто у нас пушек нет! – возразил мне приятель мой, адъютант полковника Третьякова, начальника Рижского артиллерийского округа, по фамилии, кажется, Смирнов. – С весны стоят на новых лафетах и платформах, тяжелые – на главном валу, легкие – на равелинах. Да вот хоть на бастионе Хорна!
Этот бастион, примыкавший к Рижскому замку, был один из четырех, глядевших на реку. И мы поспешили туда – причем с необъяснимой радостью и азартом, как будто наше присутствие на бастионе обеспечивало городу непробиваемую защиту. Очевидно, мы просто не могли больше находиться в помещении, меня, во всяком случае, штабная обстановка просто раздражала.
Из рук в руки переходил бинокль – мы старались высмотреть, не покажутся ли вдалеке казаки Левиза. Но взоры наши упирались в здания Митавского предместья. Вдруг Смирнов закричал: он высмотрел, как из-за угла появляется колонна пехотинцев.
Левиз-оф-Менар и его офицеры замыкали отступающий отряд.
– Брошу все к чертям, переведусь к Левизу! – услышал я за спиной. – Один он только и есть у нас настоящий командир!
Колонна приближалась к наплавному мосту. Несколько всадников промчались вдоль нее, подбадривая солдат. И на мост наши пехотинцы взошли, чеканя шаг, ровным строем, как если бы возвращались с победой. Мост слегка колыхался, и мелкие волны, гонимые от устья, били в почерневшие торцы бревен. Лица солдат были грязны и суровы, это были уже лица видевших смерть воинов – хотя самому старшему из солдат я не дал бы более двадцати пяти лет. С нашей стороны к мосту уже катили повозки – чтобы принять раненых и тотчас везти их в лазарет.
Я вспомнил о начальстве своем и побежал в замок, искать Шешукова. Обнаружил я его уже в Северном дворе. Он был сердит, как и всегда после разговоров с фон Эссеном.
– Где тебя черти носят! – напустился он на меня. – Беги скорее в порт, у тебя ноги долгие, голова легкая! Прикажи найти старшину перевозчиков! Чтоб к моему приходу стоял у двери! Мост разбирать пора, выдвигать лодки – принимать тех, кто застрял в дороге!
Мы вышли на Замковую площадь и почти одновременно с нами на ней появились всадники – Левиз-оф-Менар со своими офицерами. Они торопились к замковым воротам.
– Федор Федорович! – закричал Шешуков. – Что там, как там?
– Неприятель в пятнадцати верстах от Двины! – отвечал Левиз-оф-Менар. – Ночью, того гляди, подойдет вплотную! Потом поговорим, Николай Иванович, потом!
Его гнедой конь держал морду чуть ли не у колен – так устал за эти несколько суток, но командир держался в седле прямо, даже чуть более прямо, чем полагалось бы на марше, не желал уронить своей шотландской гордости. Так он и въехал под высокую арку замковых ворот.
– Господи Иисусе, дождались… – пробормотал вице-адмирал. – А ты чего стоишь, Морозов?!
Я побежал к Цитадельному мостику.
День был столь заполнен новостями, что я просто-напросто забыл о бедной Анхен. Кабы не война, я непременно сидел бы один в своей комнате, вспоминая все хорошее, что было с ней связано, тоскуя и сокрушаясь, статочно, пролил бы немало слез – я не утратил способности плакать и знал это про себя. Пишу это не затем, чтобы оправдаться. Всякий, побывавший на войне, поймет меня и без таких объяснений.
Были посланы люди в Митавское предместье, на левый берег Двины, чтобы поторопить обывателей перебираться в крепость. Потом весь вечер разбирали мост и отгоняли плоты выше по течению, туда, где обычно причаливали приходившие из верховий Двины струги. Там их вытаскивали на берег.
У левого берега стояли лодки перевозчиков на случай, если вернется еще кто-то из отряда Левиза или же какой-нибудь растяпа-обыватель не успеет уйти вовремя через мост. Наконец Митавское предместье подожгли.
Лето выдалось сухое, а на левом берегу стояли еще и большие склады мачтового и корабельного леса, вот все это и заполыхало с поразительной силой и быстротой. Мы в порту смотрели на этот пожар молча и молились в душе, чтобы Господь уберег от огня правобережные предместья и саму крепость. Вскоре левый берег сделался пустынен – никто уж не мог подкрасться к реке незаметно.
Тогда только я отправился домой.
Идя по Замковой улице, я едва не свернул на Большую Песочную. Меня неодолимо влекло к Натали. И пусть мысли мои были об Анхен, пусть обстоятельства ее смерти и допрос, произведенный квартальным надзирателем, требовали размышлений, – я невольно стремился туда, где Натали, как ручеек пролитой воды находит на наклонной доске единственное подходящее ему русло.
А между тем я не имел права появляться у своей невесты – за мной могли следить, да и не только, меня могли случайно увидеть входящим в дом булочника Бергера люди, которые догадаются рассказать об этом квартальному надзирателю Блюмштейнуу, те же соседи с Малярной улицы, к примеру. Но я должен был как-то предупредить ее о своих неприятностях, чтобы Луиза нашла другое жилье. Как его искать, когда каждый угол в Риге занят беженцами, я понятия не имел. И способа предупредить беглянок тоже не находил.
Войдя в прихожую своего жилища, я столкнулся с фрау Шмидт.
– Вас ждет наверху герр Вейде, – сообщила она, делая обязательный неглубокий книксен.
– Кто сей господин, фрау Марта?
– Наш частный пристав, герр Морозов.
Очевидно, герра Блюмштейна сочли недостаточно ушлым, чтобы расследовать смерть Анхен, подумал я. И поднялся к себе в комнату.
Там уже горели на столе две свечи в подсвечнике, лежала раскрытая книга – судя по виду, один из тех старых московских журналов, что я раздобыл в портовой канцелярии.
Мне навстречу встал из-за стола мужчина, вид которого вселил в душу мою неосознанную тревогу. На вид ему было лет около тридцати – то есть маловато для частного пристава. Он был высок ростом – выше меня по меньшей мере на полголовы – сутуловат, с маленькой и аккуратно причесанной головой, с мелкими и незначительными чертами лица. Не знаю, смогу ли дать полное понятие о его внешности, если скажу, что голова эта казалась вырезанной из кости и надетой на длинную палку.
– Добрый вечер, герр Морозов, – негромко сказал частный пристав. – Позвольте представиться – Николаус Вейде. У меня к вам вопросы. Надеюсь, что получу на них правдивые и благоразумные ответы.
Он, видать, был из тех, что поднимаются вверх по служебной лестнице решительно и быстро, ибо ничего иного в их жизни нет – только чины и труд, труд и чины. Сам я не охотник гоняться за чинами, и потому таких людей обыкновенно побаиваюсь. Да, не знав страха перед пушечными ядрами, я боялся тех, для кого я – ступенька, тех, кто поставит на меня ногу, поднимаясь наверх, даже не обеспокоившись, что там хрустнуло под жесткой подошвой.
– Охотно отвечу, потому что хочу поскорее избавиться от нелепых подозрений, – сказал я, садясь к столу. – Спрашивайте, герр Вейде.
– Как вы понимаете, я днем собрал кое-какие сведения об этом деле. Я беседовал с женщинами из семьи герра Штейнфельда. И они рассказали мне все, что знали о бедной Анхен… – тут он замолчал, внимательно на меня глядя.
– Я не намерен оправдываться, – отвечал я. – Наши с покойницей отношения называются попросту незаконным сожительством. Я ее ни к чему не принуждал, она приходила сюда добровольно.
– Катрина Бюлов тоже приходила сюда добровольно?
Я не сразу понял, о ком речь.
– Простите?
– Племянница герра Штейнфельда, дочь его сестры, которую нашли убитой четырнадцатого мая на чердаке амбара Голубя.
– Герр Вейде, эта девица сюда ни разу не приходила! Вы можете спросить фрау Шмидт, которая всегда дома и наблюдает за порядком.
– Фрау Шмидт объяснила мне уже, что к вам в комнату можно попасть двояко – с улицы и через двор, причем дверь, ведущая во двор, открыватся почти бесшумно, и фрау даже не всегда слышала, как к вам приходят ваши соседки.
– Как же она может утверждать?..
– Она не слышала стука двери и шагов на лестнице, но голоса сверху до нее доносились.
“То есть ежели фрау Марта слышала неразборчивые голоса, то это означает присутствие в комнате моей Катрины Бюлов?
– Герр Морозов, – проникновенно сказал частный пристав. – Я пришел сюда в надежде, что вы дадите разумное объяснение многим странным вещам, которые удалось мне обнаружить. Я не хотел прежде времени поднимать шум, опасный для вашей репутации, и докладывать начальству моему о поимке преступника. Согласитесь, мало приятного ждет меня в случае ошибки – ваш патрон вице-адмирал так этого не оставит. Разве не так?
– Вы правы, – согласился я. – Спрашивайте, я отвечу.
По дороге домой я заготовил весьма правдоподобное объяснение тому, что пришел после службы за книгами. Я придумал, что будто бы собирался отнести их приятелю своему по его просьбе, но совсем забыл, что приятель, казачий урядник Соколов, отправился в составе Левизова отряда проводить разведку боем. Так что мне пришлось, оставив книги в казармах Цитадели, совершить прогулку в одиночестве. С Соколовым мы и впрямь менялись порой книжками, об этом все знали, и он бы охотно подтвердил мои слова.
Но вранье мое не потребовалось – обвинение, изобретенное частным приставом, было куда страшнее смехотворных упреков в глупом блуждании по городу с книгами под мышкой.
– У Катрины Бюлов был любовник. Сами понимаете, для девицы из порядочной семьи это позор. Когда старшие женщины догадались и стали ее расспрашивать, она назвала вас, герр Морозов.
– Меня? Но это же ложь! – воскликнул я. – Уже около двух лет мы с Анной Либман…
– Женщины мне и это объяснили. Сперва, поселившись в доме герра Шмидта, вы соблазнили Катрину Бюлов, потом переметнулись к Анне Либман. Заметьте, я вас ни в чем не упрекаю, до ваших мелких грешков мне дела нет. Я просто излагаю события в их последовательности, – заметил герр Вейде. – Катрина Бюлов затаилась, но лелеяла месть. Когда стало ясно, что к ее сопернице Анне собрался посвататься богатый человек, Катрина пригрозила, что расскажет ему о грехах Анны. Анна пожаловалась вам. Замужество это много для нее значило, да и вы, как человек порядочный, хотели хорошо выдать замуж любовницу вашу. Поэтому вы, пообещав Катрине Бюлов, что дружба ваша возобновится, заманили ее в амбар Голубя и закололи.
– Складно… – помолчав, сказал я. – Весьма складно.
– Да, я сам так считаю. Пока история похождений ваших получается связной. Далее – у вас начались ссоры с Анной. Возможно, вы хотели, чтобы нежная дружба продолжалась и после ее свадьбы. Возможно, была еще одна причина, более основательная. Тут я утверждать не берусь. Последняя ссора произошла вчера вечером. И вы, не сдержав ярости, убили бедную Анну. Герр Морозов, я буду рад услышать ваши опровержения.
– Все неправда, кроме того, что я соблазнил Анну Либман, – сказал я. – И никто не мог слышать нашей ссоры в тот вечер по той причине, что мы не ссорились. Я пошел прочь, а она вернулась домой.
– Ее весь вечер не было дома, – возразил Вейде. – Мне это подтвердили родственницы. Надо полагать, она все же была у вас.
Эти слова прозвучали столь весомо, что я даже поверил частному приставу. В голову мне пришла странная мысль, что, если Анхен наловчилась открывать дверь моей комнаты? Она действительно, не желая объяснять родственницам причин своего дурного настроения, могла прийти ко мне и преспокойно сидеть у окошка с рукодельем, дожидаясь моего возвращения. Но доказать это совершенно невозможно. Потому я перешел в наступление на частного пристава уже на другом фланге:
– Помилуйте, какой резон был бы мне убивать ее дома, если я присмотрел столь подходящее место, как амбар Голубя, к которому обыкновенно и близко не подхожу?
– Очевидно, все же подходите. Я посылал туда своих людей. В день после убийства вас видели бродящим у амбара Голубя, – сказал он.
– Не я один любопытствовал поглядеть на место, где свершилось преступление.
– Откуда же вы знали о преступлении?
– Мне сказала Анна Либман.
– Которая мертва и не может подтвердить слов ваших.
– Это правда.
– Правда и то, что преступника всегда манит на место его злодеяния.
Тут я не нашелся, что ответить и лишь развел руками.
– Я бы поверил в прогулку ради любопытства, герр Морозов, но вспомните, о чем вы расспрашивали прохожих и работников, разгружавших фуру с провиантом.
– Я расспрашивал работников?
– И прохожих. Мои люди выяснили это совершенно точно. Вы пытались вызнать у них, не найдены ли рядом с телом улики, позволяющие полиции напасть на след убийцы.
– Я расспрашивал про улики? – переспросил я в полнейшей растерянности.
Вдруг я понял – это обычная полицейская провокация, чтобы загнать меня в угол.
– Да, и пытались также узнать, когда и кем найдено тело. Вас опознали не только по мундиру вашему, а также по русской речи.
– Дешевые кундштюки, герр Вейде! – воскликнул я. – Достойные балагана, что стоит за эспланадой! Никто не мог вам этого сообщить, поскольку я никого не расспрашивал!
– Увы, такой человек есть, и его показания уже записаны нашими канцеляристами, – печально произнес герр Вейде. – Коли угодно, я вам их покажу.
– Они еще не доказывают моей причастности к убийству. Многие почтенные горожане приходили узнать подробности – не так часто случается в Риге столь жестокое убийство! У вас нет никаких доказательств! – я начал горячиться. – И заколоть Анхен Либман, к которой я был искренне привязан, я не мог!
– Я ведь говорил, что для убийства фрау Либман у вас была и более основательная причина, чем ревность. Коли угодно, я назову ее, – и тут частный пристав непонятно откуда добыл небольшой пистолет и наставил на меня. – Вы уж простите, но я произвел в комнате вашей тщательный обыск.
Я был как можно более аккуратен и все имущество ваше расположил в прежнем порядке. Но в теплом сюртуке, что висит под простыней, я обнаружил спрятанные драгоценности на немалую сумму. Я показал их герру Штейнфельду, и он их опознал. Эти драгоценности были украдены у него, но он не знал, кто из домашних постарался, и подозревал одного из подмастерьев своих. Теперь же ясно, что сделала это Анна…
– Ложь! Низкая, подлая ложь! – закричал я, поняв, что попал в страшную ловушку.
– Не кричите, герр Морозов. Если вы можете объяснить все это так, чтобы я поверил в вашу невиновность, то объясняйте, – холодно сказал полицейский, целясь мне в грудь. – Если же нет – эту ночь вы проведете в полиции, в особом помещении, и далее, поскольку вы на службе, судьбу вашу будут решать господин обер-полицмейстер и господин комендант. Говорите же! Я сделал для вас все, что мог, я дал вам возможность оправдаться без того, чтобы докладывать об этой истории начальству вашему.
Я мысленно проклял ювелира. Видя, что все грехи падают на мою голову, он решил поживиться на моем несчастье.
– Итак, я жду объяснений, – преспокойно произнес герр Вейде. – С чего вам угодно будет начать? Может быть, для вашего удобства, начнем с драгоценностей? Как они к вам попали и почему находились в столь неподходящем месте?
– Насчет места – неужто вам непонятно? Фрау Шмидт, делая в моей комнате приборку, всюду сует свой нос, и у нее есть ключ от комода. Это разумная предосторожность, прятать дорогие безделушки. А что до них – думаю, герр Штейнфельд непременно сказал, будто их взяла Анна Либман и отдала мне, потому что я сумел ее разжалобить.
– Да, примерно так он и выразился.
– Но нет ли в этом нелепицы? – спросил я. – Допустим, Анна отдала мне эти вещицы. Это свидетельствовало бы о ее страстной любви ко мне. Но тогда она вовеки не согласилась бы выйти замуж за богатого бюргера – как, бишь, его звали?
– Его звали Карл Шнитке, он состоит в цехе портных, как и отец его, и дед. Лучшей партии вдовая фрау и вообразить бы не сумела.
– Я не представляю, для чего она могла бы отдать мне украденные у своего свояка драгоценности.
– Фрау Либман жила в доме герра Штейнфельда из милости и своих денег почти не имела. Ей было бы стыдно выходить замуж с пустыми руками. Она просила вас продать эти вещицы как бы от себя, – тут же объяснил мне эту интригу частный пристав. – А теперь я хотел бы знать ваше мнение.
– Мое мнение таково – герр Штейнфельд врет. Он к этим драгоценностям никакого отношения не имеет.
– Хорошо, ваше слово – против его слова. Кто из друзей ваших подтвердит, что видел у вас эти вещицы до того, как вы сошлись с фрау Либман?
– Никто не подтвердит. Но у меня есть мысль! – я встал и достал из комода миниатюру, которую вынул из медальона, но забыл отдать Луизе. – Герр Вейде, пусть герр Штейнфельд скажет, какой портрет находился в украденном у него медальоне! Вот он, я сжимаю его в кулаке. Вы ведь обратили внимание, обнаружив драгоценности, что в медальоне нет портрета?
– Дайте сюда портрет! – приказал частный пристав.
Я по природе доверчив, но тут вся подлость натуры человеческой предстала предо мной наяву.
Это сговор! Если бы Вейде был честен передо мной, он оставил бы портрет мне, даже не попытавшись на него взглянуть. Сейчас же он протянул руку. Нетрудно вообразить себе и дальнейшее – он перескажет приятелю своему Штейнфельду, что изображено на миниатюре, и у них будет одной уликой более. И частный пристав, раскрыв разом нынешнее и давнее преступление, удостоится похвал и наград!
А кто удобнее на роль убийцы, чем человек, чужой в городе? Конечно же Шешуков постарается меня выручить – но он ведь может и поверить уликам!
К счастью, при мне был кортик – какое ни есть, а оружие. Я заметил, что вооруженный мужчина рассуждает совсем не так, как безоружный, и клинок, даже короткий, придает особую уверенность в себе.
Эти кортики, которые навязало нам Морское министерство лет десять назад, напоминали скорее детскую игрушку. Длиной они не более девяти вершков вместе с рукоятью из слоновой кости – судите сами, хорошо ли они были против кривых и длинных турецких сабель. Кортики наши имели, впрочем, перед ними одно неоспоримое преимущество: они не стесняли передвижений в тесных каютах, кубриках и в узких коридорах, не мешали при скором спуске по трапу. Однако семь вершков лезвия – это не для боя, и даже портупеи, украшенные позолоченными львиными мордами, нас не радовали, малые дети мы, что ли, которым нужны такие забавы?
Очевидно, мысль моя была уловлена хитрым Вейде, но не сразу – сперва он понял, что я не собираюсь отдавать ему портрет, а затем, переходя в наступление, выложил свой главный козырь:
– А кстати о длинном клинке, которым были заколоты обе женщины, – нельзя ли взглянуть на ваш кортик, герр Морозов?
Я несколько мгновений смотрел на него в недоумении – он полагал, будто я совершил эти злодеяния офицерским кортиком? И вдруг я понял, что оружие мое действительно очень подходит для короткого и проникающего вглубь, до самого сердца, удара.
Но это было оружие морского офицера, побывавшее в бою вместе со мной, и я не мог допустить, чтобы рука частного пристава, замаранная подачками и явной взяткой хитреца Штейнфельда, прикоснулась к нему.
– Извольте! – сказал я, перекладывая миниатюру в левую руку, правой берясь за рукоять, и далее действовал по наитию.
Я сделал шаг вперед, словно бы и впрямь желая отдать Вейде оружие мое, одновременно потянул кортик из ножен и получил возможность кулаком, в котором был зажат эфес, и предплечьем резко и сильно ударить частного пристава в бок. Можно сказать, всю душу вложил в этот удар, он же не ждал подвоха, отлетел в сторону, и путь из комнаты моей оказался свободен.
Я сбежал по узкой лестнице не менее быстро, чем носился по трапам «Твердого» и выскочил на Малярную улицу. Вейде, разумеется, погнался за мной, но я был моложе и быстрее. К тому же я знал, куда бежать, – к кварталам каменных амбаров, где очень легко запутать след.
Мне удалось оторваться от моего преследователя, и я, убедившись, что в ближайшие часы ничто мне не угрожает, пошел шагом, обдумывая свое нелепое положение. И чем дальше я уходил от Малярной улицы, тем больше возникало в голове моей доводов в пользу бегства.
Если б Вейде всерьез за меня взялся, ему удалось бы разозлить меня, – я не вспыльчив, однако и не кроток, так что мог бы сгоряча брякнуть лишнее. Всплыли бы загадочные книги, которые я неведомо куда уволок, началось бы разбирательство – где же я провел время после ссоры с Анхен – и частный пристав, ухватившись за какую-нибудь мою обмолвку, мог докопаться до Натали и Луизы.
Это сразу в какой-то мере оправдало бы меня – явилась бы на свет причина ссоры моей с покойной Анхен, явилось бы и то, как ко мне попали драгоценности. Но именно такого исхода я никак не мог допустить. Разоблачение Натали погубило бы ее в глазах света, да еще она оказалась бы впутана в дело о двух убийствах. Следовало выкарабкиваться так, чтобы о моей невесте никто и никогда не узнал.
Я решил, что ранним утром проберусь в Цитадель, а оттуда в порт, проникну к Николаю Ивановичу и покаюсь ему во всех своих грехах. Он любит меня и непременно что-то придумает. Ему я, пожалуй, скажу всю правду – пожурит да и простит, сам ведь был молод, а губить честь женщины для офицера – последнее дело…
Следовало позаботиться о ночлеге.
Ночи были теплые, и даже усевшись на каменную скамью, я чувствовал бы себя лучше, чем в погребе герра Шмидта под одеялами. В случае, если ко мне привяжутся мазурики, я отогнал бы их кортиком. Но все-таки хотелось бы переночевать под крышей, и я остановился посреди узкой улицы в глубокой задумчивости. Я чувствовал, что такая возможность есть – и она действительно вскоре явилась.
Глава пятая
Я оказался за реформатской церковью, среди амбаров. Там жили обыватели-айнвонеры – по сути, те же добропорядочные немцы, но только или недавно перебравшиеся в Ригу и не имеющие дедушки-рижанина, или происходящие от незаконного сожительства. Сейчас именно тут теснились беженцы.
Положение этих беженцев было незавидно – они знали, что Московское предместье в случае наступления неприятеля решено сжечь, но фон Эссен колебался, и бедняги то прибегали с узлами и коробьями под защиту рижских стен, то возвращались обратно. При этом в городе ночевали и те, кто не имел такого права в мирное время.
Эта суматоха непонятным мне образом возбудила в людях самые низкие страсти. Мужчины, не знающие, где проведут следующую ночь, сгорающие от беспокойства за свою судьбу, почему-то делались легкой добычей жриц любви, которые перебежали сюда из Ластадии и ютились чуть ли не по десять нимф в одной комнатушке. Так что, пока две-три красотки принимали там кавалеров, остальные шатались по улицам, хватая проходящих за руки и уговаривая пойти с собой. Впотьмах они могли перепугать своими приставаниями до полусмерти.
К счастью, наши жрицы любви были дамы образованные – знали не только по-немецки, но и по-английски, и по-русски. Поэтому мои резкие слова поняли сразу и единственно верным образом.
Они-то и навели меня на мысль понаблюдать, куда ведут и откуда выпускают кавалеров. Оказалось, что иная прелестница согласна расположиться и на мешках в амбаре. Я в свете фонаря увидел большие дубовые ворота приоткрытыми и, недолго думая, вошел.
Внутри было не совсем темно – где-то горела свечка. Сложенные стеной мешки подступали к самому входу, я заметил дорожку меж ними, откуда шел свет, раздавался смех, и здраво рассудил, что здешний сторож, очевидно, выгородил себе нору, где устроил ложе и даже, возможно, сдает его за небольшое вознаграждение. Забавно, подумал я, как простой люд извлекает выгоду из войны и осады города. Не только каждый чердак и подвал – каждый угол в тесном дворе приносит, возможно, прибыль, потому что в нем сложено имущество беженцев и мужчины спят поверх узлов, охраняя их.
Я прошел дальше, достиг стены и едва не рухнул в другой проход. Там бы я и остался сидеть, пристроившись на туго набитом мешке, возможно, даже задремал бы, но тут разумная мысль посетила меня: хотя грузы и поднимали лебедкой на верхние ярусы каменного амбара, но где-то же должна быть и лестница, вряд ли ее намертво заложили мешками с провиантом и фуражом.
Лестницу я нашел и полез во мрак, размышляя, какой именно провиант хранится в мешках и лубяных коробах. Во время плавания я пристрастился к ржаным сухарям, и если бы удалось их тут раздобыть, они составили бы мой ужин. По милости герра Вейде сладких блинчиков фрау Шмидт мне сегодня не досталось. Лестница с веревочными перилами казалась мне бесконечной, и лишь упершись головой в крутой скат, я понял, что впотьмах благополучно миновал дверцы, ведущие на ярусы амбара и поднялся под самую крышу.
Пошарив по стене, я отыскал дверцу и оказался в помещении, более всего напоминавшем шалаш, наподобие тех, в которых я еще ребенком прятался вместе с дворовыми ребятишками; мы мастерили их из палок и старых рогож на заднем дворе. Оно было сравнительно широким и долгим, во всю длину гребня крыши. Туда и свет проникал. Удивительным образом тех лучей, что просачивались сквозь щели деревянных ставен, хватало, чтобы произвести дислокацию.
К некоторому моему удивлению, я обнаружил под самым скатом, близ окошка, сенник – так у нас называли мешок из грубого холста, набитый сеном и служивший вместо тюфяка. Если сено свежее и ароматное, то это даже приятно. Но в этом грязноватом мешке сено оказалось старое, свалявшееся. Выбирать не приходилось, я лег, даже не разуваясь, и тут меня ждал еще один сюрприз – между сенником и скатом крыши было спрятано сложенное в длину одеяло. Положительно, каморки эта служила чьим-то жилищем, но хозяин припозднился, и я решил, что при его появлении уж как-нибудь договорюсь.
Теперь следовало позаботиться о миниатюре из медальона Луизы. Я очень не хотел ее повредить, поэтому завернул в платок и спрятал в высокую офицерскую двууголку.
Устроившись поудобнее, я помолился на ночь, как учили матушка с няней, и довольно скоро заснул. Сказывалась дурно проведенная в подвале ночь.
Но перед сном я еще успел побороться с собой и запретить себе думать про обиды. Хотя мысли эти меня порядком одолевали.
Люди, с которыми я прожил под одной крышей почти три года и полагал, что нажил себе в них добрых приятелей, оказались враждебны мне, причем враждебны исподтишка. Фрау Шмидт ни разу не сказала мне, что наши с Анхен голоса ее раздражают, она даже не намекнула, что ее немецкая нравственность страдает от моего романа, но стоило мне попасть в беду – она тут же все припомнила. Равным образом соседи тут же ополчились на меня, хотя все это время были беспредельно любезны. Герр Штейнфельд водил меня в «Лавровый венок» и угощал пивом с колбасками…
Теперь только я понял, до какой степени чужой этому городу, чужой невзирая на то, что хорошо говорю по-немецки и даже читаю в подлиннике Бюргера и Шиллера. Очевидно, нужно было не валять дурака, поселившись на Малярной улице, а искать себе уголок в Цитадели. Там мне никто бы не стал приносить по утрам горячий кофей со свежими крендельками – да никто бы и не налгал на меня сперва квартальному надзирателю Блюмштейну, потом частному приставу Вейде.
Но я, выбирая Малярную улицу, тем и руководствовался, что не желал быть среди своих. Во мне опять-таки говорила обида, как и во многих участниках сенявинского похода, да еще другая обида – на мою Натали. Я не хотел, чтобы меня каждый вечер легко отыскивали гарнизонные офицеры, заманивая длительной, на всю ночь, игрой в фараон и вином, да еще и несли при этом чушь. Я и обычного биллиарда не желал. А желал я одиночества, которое в силу характера переносил легко и находил в нем свои приятные стороны.
Вот и нажил неприятностей на свою голову…
Мне снился сон, столь похожий на действительность, что я ощущал на щеках брызги ледяной воды.
Я стоял на палубе небольшого суденышка, которое в самую дурную погоду шло по волнам Финского залива. Ветер задувал сбоку, срывая с плеч тяжелый плащ, в который мне никак не удавалось завернуться толком. Лицо мое было мокрым, водяные струйки затекали за пазуху. Двууголку свою я придерживал рукой и, жмурясь, смотрел вдаль.
Буро-серые волны колыхались, движения я не ощущал – ни сзади, ни спереди не виднелось ничего, что послужило бы ориентиром. Я следил бы за облаками – но небо было ровного блеклого цвета. Понемногу оно светлело – и вода также менялась, теперь она отливала бирюзой. Я сильно беспокоился – я уходил от некой погони, которая во сне имела смысл, своих героев и свои особенности, но наяву все это развеялось, и в памяти остался только дождь над Финским заливом.
– Роченсальм, Роченсальм! – звал я, словно надеясь голосом приблизить его неприступные форты – Елизаветинский, Екатерининский, Слава… Там я нашел бы спасение!
И вдали возникло в тумане темное пятно – это несомненно были стены из камня. На их фоне я заметил белое пятнышко, оно росло – к моему судну шел одномачтовый йол. Радость охватила меня, не только я приближался к Роченсальму, но и он – ко мне… и солнце, солнце пробилось, зазеленела морская вода!..
Проснулся я оттого, что кто-то стал по мне шарить. Я встрепенулся и сел, ища рукоять кортика.
– Мать честная! – услышал я на чистом русском языке.
– Ты кто таков? – задал я вполне резонный вопрос, и тоже по-русски.
– А ты кто таков?
– Я человек пришлый, искал, где бы переночевать. Вижу, ворота отворены, зашел, полез повыше.
– Ишь ты! Думал, в такое время тут пустое место найдется? Проваливай, покуда цел!
Голос показался мне знакомым, но разбираться я не стал.
– Тут двоим места хватит! – возразил я незримому русскому человеку.
– Сказано тебе – проваливай!
Доводилось мне сталкиваться с людьми, которые проявляют свой сварливый нрав лишь тогда, когда чувствуют полнейшую безнаказанность. Сперва я по молодости и незрелости характера от их выпадов терялся, но старый матрос на «Твердом» научил меня уму-разуму. Он внушил мне, что чем мягче обращаешься с подобными скотами, тем более дури забирают они себе в голову, поэтому отпор следует давать сразу и сурово.
– Сам проваливай, скотина, – отвечал я незнакомцу, и отвага моя подкреплялась тем, что я уже держался за рукоять кортика.
– А вот как заеду в ухо! – пообещал русский человек.
– А сдачи не угодно ли? – спросил я.
Драка в темноте – сомнительное удовольствие, к тому же я вовсе не желал убивать владельца сенника и одеяла.
– Да шел бы ты!.. – и русский человек бойким своим тенорком указал мне то направление, что в дамском обществе повторить невозможно.
Однако он не знал, с кем связался.
Я уже говорил об интересе своем к словесности. Во время нашей средиземноморский экспедиции я многого наслушался. В частности, было нечто вроде игры, не знаю, как назвать это иначе. Некоторые унтер-офицеры составляли себе целые монологи длительностью до пяти минут, в которых пикантные выражения ни разу не повторялись. Такая особливая жутковатая поэзия, имевшая даже некоторый смысл. У матросов часов не водится, а, допустим, спуск шлюпки на воду должен осуществляться в определенный срок – вот длительность сего поэтического экзерсиса такому периоду и соответствовала, что было весьма удобно.
Будучи вынужден постоянно слышать такие речи, я сперва смущался, потом лихой мой дядюшка Артамон, нахватавшийся всякой дряни в Кронштадте, высмеял меня – и мне пришлось заучить кое-какие перлы, чтобы и он, и племянник мой Алексей Сурков оставили меня в покое.
– Ого! – произнес незнакомец, выслушав меня. – Какого ж черта ты, соленая твоя душа, сюда забрался?
Русский человек опознал во мне моряка, и я уж решил, что мое ремесло вызвало у него хоть толику уважения. Но не тут-то было!
– Господин Морозов? – вдруг спросил русский человек. – Так вот ты где скрываешься?! Убийца! Караул!
Он так завопил, что у меня уши заложило.
Теперь уж обстоятельства были против меня. Незримый русский человек голосил, призывая всех, кто его услышит, лезть сюда, под самую крышу и вязать убийцу.
Я растерялся и выхватил из ножен кортик. Сейчас, по прошествии времени, я признаюсь откровенно – обнажил клинок я от испуга. Я уже знаю, что ничего постыдного в таком страхе нет, но несколько лет мне было стыдно за свои поспешные действия. Я не любил вспоминать ту ночь, и отталкивал от себя мысли, что наводили на неприятные воспоминания.
Впрочем, даже теперь, через полтора десятка лет, я не могу восстановить точно, как вышло, что в нашей драке я нанес крикуну удар кортиком в бок. Услышал ли я перед этим встревоженные голоса снизу, или же они дошли до моего сознания уже потом, вспомнить не удается – да и не имеет это значения. Важно иное, откатившись от раненого, я впал в совершеннейшую панику. По лестнице уже спешил какой-то басовитый детина, возглавляя, как мне с перепугу показалось, целую армию, способную связать меня и доставить в полицейскую контору.
Мало мне было тех двух убийств, которые приписали мне полицейские, так теперь явилось еще и третье! И тут уж моя вина несомненна!
Стараясь оказаться подалее от своей жертвы, я отступил к окошку, забранному деревянным ставнем. Каким-то чудом я вспомнил про блок лебедки, расположенный под самым скатом крыши, и даже то, что, высунувшись в окошко, я могу достать до веревки. Распахнув ставень, я выглянул вниз и увидел, что на улице пусто.
Тут я благословил своего шалого дядюшку, который умело карабкался по вантам и преподавал мне это искусство, чтобы исцелить меня от страха высоты. Сунув кортик в ножны и нахлобучив двууголку, я захватил оба свисающих с блока конца толстой веревки, кое-как выбрался в окошко и соскользнул вниз с ловкостью, которая меня самого поразила. Высота была порядочная – около трех саженей. Хотя я после военной экспедиции должен был бы знать, на что способен человек, спасающий свою жизнь.
Коснувшись подошвами гладких округлых камней мостовой, я кинулся наутек.
Пробежав с четверть версты и сделав несколько поворотов, я перешел на шаг и попытался понять, куда это меня занесла нелегкая. Но во мраке все узкие улочки одинаковы, всюду – высокие стены и маленькие окошки каменных амбаров, и я побрел наугад. Время было, как я понял, предрассветное. Жрицы любви угомонились наконец, и все полуночники давно уж спали. Один я шел по городу в полнейшем отчаянии.
До сих пор история моя была хоть и неприятна, хоть и страшна, но не содержала в себе ничего мистического. Меня оговорили люди, которым я не сделал ничего плохого, я сбежал от частного пристава и ударил кортиком незримого русского человека. Все это было очень плохо для меня, и изрядно взбудоражило душу. Теперь мне недоставало лишь явления нечистой силы или призрака, чтобы с полным правом лишиться рассудка.
И это случилось.
Сперва я даже не понял, откуда доносятся странные звуки. Походило на то, что глубоко под землей засело в норе чудовище и испускает особый ритмический гул. Пройдя еще немного, я осознал: это хор, но надежно укрывшийся, устроивший спевку в погребе. Наконец я понял, что именно поют эти диковинные певцы. Слов я разобрать не мог, но мелодию знал отлично.
Они исполняли марш Бонапартова войска! Под рижскими улицами, амбарами и жилищами почтенных бюргеров звучала «Марсельеза»!
Первая моя мысль была: бежать к Ратушной площади, туда, где за зданием ратуши расположена полицейская контора, рассказать о странном явлении и показать место, откуда «Марсельезу» слышно лучше всего. Когда в городе, который вот-вот окажется в осаде, звучит неприятельский марш – вряд ли это к добру.
Но вторая мысль словно бы схватила первую за шиворот и удержала на месте. Появись я в полиции – первым делом схватили бы не загадочных певцов, а меня самого.
Положение мое было незавидно. Тот, кого я ткнул в бок кортиком, мог при последнем издыхании назвать прибежавшим снизу людям мое имя. Да он и называл его довольно громко во время нашей драки. Если бы в полиции вздумали меня обыскать, то первым делом явилось бы, что кортик мой в крови, и ножны также выпачканы кровью. Я мог выбросить кортик, но оружие морского офицера, найденное в таком виде на улице, сразу же понесли бы в часть, и оно попало бы к частному приставу Вейде, моему недоброжелателю.
Дорога в полицию была закрыта, но при мысли о предательстве в рижских стенах я пришел в несвойственную мне ярость. Следовало что-то предпринять!
Мысли мне в голову приходили самые разнообразные, и самая разумная – написать письмо благодетелю моему и начальнику, вице-адмиралу Шешукову, изложив все события правдиво. Вот только боялся я, что упоминание звучащей из-под земли «Марсельезы» заставит Николая Ивановича усомниться в моем здравом рассудке. А если бы я вдобавок описал то ощущение соприкосновения с потусторонним миром, которое возникло у меня в темном переулке, Шешуков поставил бы мне диагноз не хуже санкт-петербуржского профессора медицины…
Идти в порт я побаивался. Может статься, там-то меня и будут ждать с утра полицейские, если выяснится, что я заколол на чердаке неведомого склада ни в чем не повинного человека. Они решат, чего доброго, что убивать людей на чердаках – излюбленное мое занятие. Так что вся надежда на письмо.
Я даже придумал, где бы мог заняться сочинением сего послания.
В Петербуржском предместье Риги, на Лазаретной улице с незапамятных времен стоял госпиталь. Мне доводилось бывать в нем сразу после возвращения моего из Англии, когда я, уже определившись в толмачи к вице-адмиралу, некоторое время хворал. Когда-то он был Георгиевским, но уже с сотню лет, как стал просто гарнизонным. Недавно его перестроили, воздвигли новый каменный корпус, и я позапрошлым летом, как его открыли, вместе со многими рижанами ходил поглядеть на здание, план коего составил знаменитый архитектор Федор Демерцов. Увидевши длинное одноэтажное здание, имевшее более трех десятков окон по фасаду, в восторг я не пришел. Прочие строения госпиталя так и были оставлены деревянными. Деревянным был и храм во имя иконы Божией Матери «Живоносный источник», возведенный еще, кажись, при государыне Анне Иоанновне для нужд госпиталя. Храм этот в Риге очень любили, но я сам хаживал туда редко, предпочитая Алексеевскую церковь в крепости.
В госпитале я знал несколько человек, к кому мог бы обратиться за бумагой и пером. И они выдали бы мне письменные принадлежности, не задавая особых вопросов. Сейчас там явно царила суматоха – все еще привозили раненых из Левизова отряда, к тому же, и казаки, посылаемые в разъезды, возвращались порой изрядно поцарапанные. Никто бы не удивился, обнаружив в длинном коридоре госпиталя офицера из портовой канцелярии. Наверняка нашелся бы и знакомец, предполагавший после оказания помощи вернуться в крепость. Да и незнакомец бы сгодился – повторяю, город был до того невелик, что расстояние до порта от Рижского замка, тем более – от любого здания в Цитадели, составляло несколько минут пешего ходу, и считать доставку письма значительной услугой никто бы не стал.
Обдумывая все это, я шел очень медленно, а в ушах моих понемногу угасала загадочная «Марсельеза».
Хочу отметить, что, перебирая возможности, я ни разу не унизился до того, чтобы искать спасения на Песочной улице у Натали и Луизы. Что бы со мной ни случилось – это мое дело, а ставить под удар двух беззащитных женщин я не имел права. Меня могли выследить случайно – и что сталось бы с бедной Натали?
Очевидно, Господь сжалился наконец надо мной и послал мне мудрую мысль. Я решил рассказать о «Марсельезе» доброму будочнику Ивану Перфильевичу.
Поплутав немного, я выбрался на Кузнечную улицу и поспешил к ее пересечению с Известковой, откуда мог увидеть полосатую будку моего приятеля. Даже если бы дневальным в это время суток был не он, а его товарищ, бывший артиллерист Онуфриев, тоже невелика беда – и Онуфриев также меня приветствовал, когда я рано утром и вечером проходил мимо.
Мне повезло – в будке сидел Иван Перфильевич, и мне даже удалось довольно легко растолкать его.
– Ахти, господин Морозов! – воскликнул доблестный страж порядка. – А вас ведь ищут! Фриц прибегал, посыльный из части, о вас расспрашивал. Да я не выдал! Нет, говорю, ничего не знаю, ничего не замечал! Мы, флотские, должны заодно держаться.
Я подумал, что если бы он рассказал, как я минувшей ночью пытался гнаться за убийцей Анхен, может, было бы неплохо.
– Иван Перфильевич, сделай доброе дело, – сказал я. – Как сменишься с поста, дойди до части, найди ну, хоть квартального надзирателя, скажи – кто-то под каменными амбарами засел и по ночам поет «Марсельезу». Скажи – незнакомый-де господин тебе сообщил.