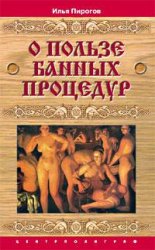Рижский редут Трускиновская Далия

– Гемамы мы позаимствовали у шведов, – объяснил Сурков. – В шведскую войну они хорошо себя показали в шхерах, как и канонерские лодки, а чем твоя Двина с ее островами и рукавами меж них отличается от шхер? Та же узость протоки и та же короткая волна. Но «Торнео» хоть строили из хорошего леса и спустили на воду четыре года назад, а наши корыта?
– Это не лодки, – подтвердил Артамон. – Это черт знает что, а не лодки. Вообрази, в начале марта – этого марта, а не прошлогоднего! – пишет наш посол из Стокгольма, что будто бы эскадра французских канонерских лодок может, перейдя в Балтийское море, очень хорошо прикрыть левый фланг Бонапартовой армии, когда начнется война. Государь, при всей своей нелюбви к флоту, всполошился и велел построить за два месяца шесть десятков канонерских лодок, чтобы было что противопоставить Бонапарту. И как ты полагаешь, из чего принялись их строить, коли лес загодя не запасли и не выдержали?
– Из сырого леса, – отвечал я. – Это даже толмачу понятно, не токмо что моряку.
– Чуть не вся Моллерова флотилия такова! Тут нам, брат, за шведами не угнаться. У них судно из сухого леса двадцать лет прослужит, а эти корыта – хорошо, коли шесть. И то уж диво, что они, груженные до того, что вода до уключин доходила, совершили такой переход, и ни одно не развалилось. Зато что ни день – то из столицы новый указ о поддержании воинского духа!
– Хорошо хоть деньги на флот давать стали, – и Сурков вздохнул. – Обстоятельства вынудили. Не любит наш государь флота…
Мы некоторое время помолчали.
Я знал, о чем думал Артамон – он сожалел, что родился слишком поздно. Говорить дурно о государе он не мог – но по-своему протестовал против такого отношения к флоту, мечтая о тех временах, когда флот творил чудеса при матушке Екатерине. Эти мечты в детстве нашем сливались воедино с мечтами о Роченсальме. Нам чудилась дивная морская крепость, где стоят у длинных причалов боевые фрегаты, корветы и линейные корабли; крепость, к строительству коей руку приложил Суворов; крепость, где служба прекрасна, командиры предусмотрительны и отважны, матросы ловки, словно белки, и сильны, словно медведи; крепость, стоящая, как в сказке, сразу на всех рубежах Отечества – где в ней нужда, там она и является…
Что я в воображении своем держал именно такой образ Роченсальма – неудивительно, ибо я его никогда не видал и мог сочинять сколь угодно прекрасным, по своему разумению. Но и оба моих родственника были об этой морской крепости примерно того же мнения, хотя служили там несколько лет. Для меня она являлась чем-то вроде воздушного замка, для них – местом, где их приютили и дали им возможность снова служить Отечеству. А это много значит.
Более того, я чувствовал, что у них уже образовались тесные отношения с теми из офицеров, кто дальше Балтики не плавал, а начал службу в шхерном флоте и там же полагал ее завершить, вплоть до отставки. Братство, которое возникает между флотскими, было мне известно, я только немало месяцев прожил вне любых подобных отношений – не считать же родственником Николая Ивановича Шешукова! И мной владела легкая зависть: они-то, Артамон с Сурком, все это время провели среди своих…
Честно сказать, мы двигались к Большой Песочной, но не так, как следовало бы, идя прямо от порта: сперва берегом вдоль укреплений Цитадели, потом по мостику через ров и мимо гауптвахты – на Замковую площадь, вдоль стены Рижского замка – к началу улицы. Я до полусмерти боялся встретить кого-либо из знакомцев или, не дай Господь, полицейских, знающих меня в лицо.
Мы пошли на двух йолах разведать, каковы острова и протоки меж ними выше Риги по течению. Это было необходимо не потому, что командиры рижских канонерских лодок соврали бы роченсальмцам, а просто есть вещи, которые необходимо видеть своими глазами. Даже если морскому офицеру выданы точные карты, все равно следует сверить их с действительным расположением островов и уточнить расстояния. Тем более что Двина по этой части отличалась непостоянством – то намывала островки, то, напротив, размывала их вовсе, то просто меняла их очертания.
С собой мы взяли двоих опытных плотогонов и с их слов, продвигаясь по реке, записали много любопытного.
Расстояние было невелико – всего-то около шести морских миль против течения. Но предстояло обогнуть с полдюжины островов. Из проток между ними при западном и югозападном ветре следовало ожидать шквалов. Конечно, можно ориентироваться по дыму от рыбацких коптилен на Газенхольме, но это будет только верховой ветер. Остальное можно определить, только предварительно пройдя маршрут и сделав соответствующие пометки на карте.
Я до сих пор не плавал вверх по реке и с любопытством глядел на острова. Нетрудно было предположить, что они окажутся столь же плоскими, как и равнина, по коей протекает Двина. Невольно пришли на ум острова Эгейского моря, их имена, пробуждающие в памяти воспоминания о великом слепце Гомере: Имброс, Лемнос, Самофраки, Тазос, Керкира…
Это было прекрасное время, хотя я запретил себе вспоминать о нем, но красота и спокойствие тех дней жили в памяти наподобие мечты об утраченном рае. Фрегаты наши шли по лазоревому морю под всеми парусами. Стоя на носу «Твердого» у фальшборта и придерживая двууголку, я наблюдал, как острова неторопливо проплывали мимо – один широкий, с изрезанными берегами, наводящими на мысль о финских шхерах, разве что вода была невозможного для шхер яркоголубого цвета, другой узкий и длинный, а большинство резко вырастало из воды и возносило ввысь каменистые свои утесы. Острова на Двине зеленые, они покрыты деревьями, лугами и пашнями, греческие же острова издали гляделись желтыми, словно бы бесплодными, но солнечным утром казались золотыми. И зелень их была иной, я сразу узнавал ее, серебристую зелень оливковых рощ. Все было иным… но какие-то ощущения все же возвращались…
Дойдя до Даленхольма, мы повернули назад и вошли в протоку, отделяющую Россбахсхольм и Звирденсхольм от Большого и Малого Любексхольмов. Напротив северного мыса Звирденсхольма Артамона, Суркова, меня и еще двух матросов с лодки Артамоновой высадили на берег, и мы оказались в Московском форштадте. Оттуда мы через Карловы ворота попали в Рижскую крепость и пошли по Господской. А товарищи Артамона и Суркова, командиры канонерских лодок Бахтин и Разуваев, отправились далее, вниз по течению, к порту.
Теперь лишь мы могли поговорить о наших делах. Но начали почему-то с «Торнео» и с контр-адмирала Моллера. Я беспокоился, что он примется делить власть с Николаем Ивановичем и, поскольку немец всегда русского по этой части обойдет, сумеет обвести вокруг пальца моего начальника. Хотя Шешуков не пришел мне на помощь в трудную минуту и даже навел на меня полицейских, я на него зла не держал – военное время к злопамятности, как мне кажется, не располагает. Но Сурков меня успокоил, Антон Васильевич Моллер был доподлинно боевым офицером, Служил он не только на Балтике, но и на Каспии, командовал бомбардирским ботом «Моздок», фрегатом «Архипелаг», на котором участвовал в операциях против французских портов, фрегатом «Нарва» и, наконец, пушечным линейным кораблем «Мстислав». На счету Моллера были также голландская экспедиция и последняя шведская война, в которой он уж командовал эскадрой, за что его и произведели в контр-адмиралы. Последние два года он был командиром Кронштадтского порта и директором штурманского училища.
От Моллера мы перешли к его флагманскому судну и насилу вспомнили, для чего идем сейчас по Риге сплоченным отрядом, причем я помещен в середку, в полном соответствии с приказом Бонапарта, якобы оглашенным во время его египетской кампании:
– Ослов и ученых – в середину!
Задача наша была такова: я хотел показать моим друзьям дом, где поселилась Натали, чтобы они осторожно отыскали ее и передали ей немного денег. Не столько, сколько я выручил бы за драгоценности, но хотя бы в количестве, достаточном для жизни в осажденном городе, где провиант будет день ото дня дорожать.
– Это уже более походит на улицу, – сказал Артамон, увидев Большую Песочную. Что и неудивительно для человека, жившего в столице и в Кронштадте, где улицы проложены по линеечке. Совсем прямой я бы Большую Песочную не назвал, но ширины она, по рижским понятиям, была изрядной.
Мы прошли до ней до Пивоварной улицы, и я уже приготовился незаметно показать нужный дом, как вдруг спрятался за мощную Артамонову спину, потому что едва нос к носу не столкнулся с Луизой.
Француженка, по обыкновению своему одетая в мужское платье, очевидно, опаздывала. Спустившись с трех гранитных ступенек и счастливо миновав столкновения с двумя флотскими офицерами, один из которых – сущая гора, она устремилась в сторону Пороховой башни и свернула вправо.
Я тихонько объяснил родственникам, кто сей ловкий и быстроногий господин.
– Ишь ты… – прошептал Артамон, глядя ей в спину. – А сюртучишка-то широкий, шире, чем надобно…
– Надобно пойти за ней следом, – прошептал Сурков. – Мало ли куда собралась…
– За ним следом, – так же шепотом возразил Артамон. – Не видишь, что ли? Дамы так не ходят!..
– Молчите вы! – призвал я их к порядку, к большому удивлению матросов, Гречкина и Свечкина.
Надо заметить, что Артамон взял их в команду именно за комическое сходство прозваний, переманив с других лодок, и, назвав меня Печкиным, как дитя, этой своей затеей наслаждался.
Дядюшка мой сделал верное замечание – при ходьбе дама должна сообразовываться с шириной своего платья, а теперь они как раз все носили узкое. Походка Луизы свидетельствовала, что панталоны ей привычнее юбки.
Между нами вышел небольшой, но яростный спор, тем более сердитый, что ругались мы шепотом. Следовало быстро решить, посылать вслед за Луизой матросов, включая меня, или же не посылать. Я утверждал, что, коли Луиза доподлинно мужчина и злодей, она живо обнаружит следующих за собой троих полосатых бело-голубых чудаков, что из этого выйдет – одному Богу ведомо. Артамон, которому мы с Сурком то и дело порывались зажать громогласный рот, твердил, что в городе полно разнообразных чудаков, включая англичан, присоединившихся к флотилии Моллера, и не одни Гречкин со Свечкиным – другие матросы с канонерских лодок тоже наверняка шастают по улицам, поэтому на них уже не обращают внимания.
– Мы ж не на селерифере собрались преследовать это злокозненное существо! – сказал он наконец.
Но пока мы пререкались, Луиза окончательно пропала из виду, да и немудрено исчезнуть в узких улочках, переполненных народом.
– Натали сейчас одна, – сказал Сурков. – Лучше всего будет, если я пойду к ней и уговорю ее съехать с этой квартиры, расписав твое, Морозка, бедственное положение. Ведь если тебя примутся искать всерьез – то и до Натали доберутся. Я пообещаю ей, что оставлю тут наших людей ждать Луизу, и мы доставим твою красавицу в новое жилище, о котором француженка никогда и ничего не разведает…
– И где ж ты собираешься нанять ей квартиру? Город переполнен, каждый день приходят новые беженцы, и каждая крысиная нора сдается втридорога, – возразил я. – Нет, предупредить-то ее нужно, а также передать ей деньги, и сам я туда идти не могу – не дай бог, нарвусь на домохозяина… Но следует ли ее пугать? Если Луиза до сих пор не причинила ей зла, то, может, жизнь Натали вне опасности?
– Гляньте, кого черти несут, – негромко произнес Артамон с превеликим неудовольствием в голосе.
Я повернулся и увидел офицера, что неторопливо шел по середине Большой Песочной, разглядывая богатые дома и вывески лавок. Он был среднего роста, худощавого сложения, темноволос и темноглаз, с лицом сухим, спокойным и строгим, и имел странную примету – глаза его, глубоко посаженные, казались обведенными темными кругами. Возраст его я определил бы лет в тридцать пять, не более, и не по лицу, а скорее по легкой походке – старики так не ходят.
– Ишь, променад совершает, – добавил Сурков. А матросы, Гречкин с Печкиным, тоже нехорошо переглянулись.
– За что вы его невзлюбили? – спросил я.
– Спасу от него нет, – отвечал Сурков. – Он мне на учебных стрельбах канонира чуть до гроба не довел – так его разнес по кочкам, что бедный мой Степаныч едва не плакал. Я спрашиваю – за что?! Он отвечает: было бы за что, убил бы. Вот такой шутник. Померещилось ему, будто Степаныч не туда картузы с порохом положить собрался.
– За то ему и чины нейдут, – злорадно заметил Артамон. – Господь-то сверху все видит! Как он смолоду в сержанты попал – так в сержантах и скончается! И будет на том свете чертей гонять, чтоб они котлы свои до блеска начищали!
– Кой черт занес его во флот? – жалобно спросил Сурков.
Матросы закивали головами, словно присоединяясь к сему вопросу.
– Ему бы в Морском корпусе надзирателем служить. Или в Инженерном училище недорослям арифметику преподавать, – продолжил мысль Сурка мой недовольный дядюшка.
– Тут ты к нему, Артошка, несправедлив. Он, сказывали, аналитическую геометрию учил, в фортификации лучше нас всех разбирается, – вступился за сержанта Сурков. – Но к недорослям его допускать опасно, он их одними своими злобными взорами с ума сведет, калеками сделает. Его надобно перевести с флота на Сестрорецкий завод – наблюдать за отливкой орудий. Там от него более всего пользы будет.
Я понял, что этот грозный сержант – главный над канонирами, и молча посочувствовал моим родственникам.
– Вообще непонятно, как во флот взяли поляка, – заметил Артамон. – Хочешь верь, Морозка, хочешь нет, а его звать Вячеславом.
– Это старое русское имя, – возразил я. – Оно лишь похоже на польское.
– И прозвание у него также нерусское. Слыхал ли ты когда фамилию Бессмертный?
– Как?.. – я ушам своим не поверил.
– Бессмертный. Нарочно не придумаешь! Его наши канониры Кощеем Бессмертным прозвали! Правда, похож?
Я рассмеялся – действительно, лицо было своеобразное.
– У поляков такой фамилии точно нет, – сказал я. – Так что ошиблись вы, братцы.
– Поляк, – насупился Артамон, и я понял, что спорить тут бесполезно.
Сержант Вячеслав Бессмертный прошел в сторону Пороховой башни, а мы принялись судить да рядить, как же быть дальше. Прежде чем что-то предлагать Натали, нужно было придумать, где ее спрятать. Мы с Артамоном перебрали все возможные и невозможные места, включая и русскую богадельню в Московском форштадте, Сурков же думал, думал и додумался.
– Мне вот что на ум пришло, братцы, – сказал он. – Есть место, где Натали точно искать не будут, и оно пустует!
– Что ж это за место? – несколько удивившись, спросил я.
Ведь я провел в этом городе три года и сейчас не мог ничего изобрести, а Сурок побывал тут лишь проездом, сойдя на берег с английского транспорта, дня два отдохнул – и помчался в столицу.
– Твое бывшее жилище. Погоди, Морозка, я все объясню!
– Да уж сделай милость, – произнес Артамон. – Уж больно чудная затея.
– Ты сбежал оттуда совсем недавно и хозяин не знает, вернешься ли ты. Стало быть, комната твоя свободна. Это – во-первых. Во-вторых – Луиза, если она что-то замышляет против Натали, там ее искать не догадается.
– Мы не знаем, что известно о Морозкиных подвигах Луизе, – заметил Артамон. – Мне в голову пришла мысль получше. Я подкараулю эту вашу Луизу и совращу ее с пути истинного. Тогда-то многое и выяснится!
– А коли она – мужчина?! – воскликнул изумленный Сурок. – Ты же сам утверждал!..
– Ну, так это первым делом и обнаружится. А коли баба… Влюбленная баба, было бы вам известно, от любовника секретов не держит.
– Влюбленная?.. – хором переспросили мы.
– А что тут удивительного. Против меня еще ни одна не устояла. Уж не знаю, почему, но так оно и есть, – с неподражаемой скромностью сообщил Артамон. – Ну а коли мужчина – свяжу и принесу на лодку. Там мы с ней… с ним живо разберемся.
– Она доподлинно мужчина, – твердо сказал Сурков. – И вот вам доказательство. Столкнувшись с тобой, Артошка, она не окаменела, не вытаращила глаза, не залилась румянцем или хоть, на худой конец, не покрылась смертной бледностью. Она просто проскочила мимо и ушла, не оборачиваясь. Для женщины сие невозможно! Стало быть…
Свечкин с Гречкиным еле сдержали смех, да я сам я прыснул, как девица.
Кое-какие основания для хвастовства у моего дядюшки имелись. За время, потребное, чтобы прошагать Господскую улицу из конца в конец, я сам не раз замечал взоры горожанок, направленные на его огромную статную фигуру. По рижским понятиям он считался жених хоть куда – упитанность тут веьсма ценилась. Да и лицо у него было славное – с правильными чертами, с темными живыми глазами, с замечательной улыбкой и круглое, словно бы для образца взяли тарелку.
Я, к сожалению, не так быстр умом, как Сурков. Мои приключения меня напугали, привели в отчаяние и только. Я еще не настолько от них опомнился, чтобы начать сопоставлять подробности. Конечно же я пытался это сделать, но взаимосвязи между событиями не обнаружил, и все их участники были пока что сами по себе – и подлый ювелир Штейнфельд, догадавшийся, как поживиться на моей беде, и дурак герр Шмидт, и явно подкупленный ювелиром частный пристав Вейде, и бедная Анхен, и незримый русский человек, получивший от меня удар кортиком.
А вот Сурок сообразил, что все не так просто.
– Первое, что мы должны установить, – не состояла ли эта Луиза в сношениях с твоим квартирным хозяином или с проклятым ювелиром, – сказал он. – Если Филимонов приказал ей впутать тебя в дело об убийстве, она должна была собрать сведения о тебе. Либо она имела эти сведения изначально и знала про Анхен еще в Санкт-Петербурге, либо она выяснила правду о тебе, уже прибыв с Натали в Ригу, что вероятнее. Что скажешь, Морозка?
– Скажу, что ты сам себе противоречишь, Сурок. Нельзя помещать Натали в мой дом, зная, что хозяин его или Штейнфельд, возможно, виновны в смерти Анхен. Неизвестно, как они с Натали обойдутся. Тогда уж больше смысла поселить там человека, который покажется им вовсе посторонним и сможет разведать…
– Меня! Я этот человек! – громко завопил Артамон. – Я там поселюсь!
Сурков только рукой на него махнул.
– Если Луиза действительно в сговоре с ювелиром и с Шмидтом, то сейчас ей решительно незачем являться на Малярной улице, – сказал он мне. – Ты же гонялся за ней впотьмах, и она вправе опасаться, что кто-то из соседей ее видел. Это в случае, если она действительно совершила убийство…
– Братцы, я сейчас же иду на Малярную улицу, – перебил его Артамон. – Вы подумайте – комната в тихом месте, куда можно будет приводить миленьких немочек! Не на лодку же мне их приглашать! И не в Цитадели же с ними любезничать!
– И что ты скажешь Шмидту? – спросил я.
– Он по мундиру моему догадается, что я моряк из флотилии Моллера. Я же скажу ему только то, что ты в эту комнату, скорее всего, уже не вернешься, и сделаю значительный вид. Он побоится меня расспрашивать и даже оставит твое имущество в полном моем распоряжении – мало ли что, а неприятности ему не нужны. Разве не разумно?
– Да нет же, миленькие немочки подождут! Там нужно спрятать Натали – и чтобы она не выходила, пока мы не поймем, кого Филимонов дал ей в камеристки! – возразил Сурков.
– Да хватит вам ссориться, – вздохнул я. – Первым делом вам надобно пойти на Малярную улицу и вселиться в мою комнату, покамест она свободна и вещи не пропали. А потом уж будем решать, кому в ней жить!
– А Морозка дело говорит! – заявил Артамон.
Свечкин с Гречкиным уже и без того догадывались, что мое внедрение в экипаж канонерской лодки – штука загадочная. Теперь же они окончательно в этом удостоверились. И Сурок первым это понял.
– Христа ради, молчите, братцы, обо всем, что вы случайно увидели или услышали, – сказал он матросам. – Тут такая каша заварилась, что невинного человека могут в каторгу сослать. Где тут ближайший православный храм?
– Алексеевский, – ответил я. – К нему можно удобно дойти по Малой Замковой.
– Пойдем ли мы в храм, чтобы вы перед образами обещались молчать? – спросил Артамон своих матросов. – Или прямо тут побожитесь, что никому в команде ни единого слова не скажете про товарища вашего Печкина?
Они побожились, а далее мы увидели небольшой отряд матросов, быстрым шагом возвращавшихся из Риги в порт, и разделились. Я с Гречкиным и Свечкиным, замешавшись в полосатую толпу, направился к мостику через ров между Цитаделью и Рижской крепостью, а родственники мои пошли искать Малярную улицу. Когда я вспомнил, что просил их отнести Натали хоть немного денег и едва не хлопнул себя по лбу за несносную забывчивость, они были уже далеко.
Мы шли мимо Цитадели и видели, что там – великая суета, артиллеристы занимают места на бастионах у орудий, слышны команды пехотинцам. Похоже, лодки пришли вовремя, вот теперь только и начинается для нас война, подумал я. Из переклички артиллерийских офицеров выяснилось: в замок пришло очередное донесение о том, что неприятель выше по течению налаживает переправы, и потому вот-вот начнут жечь Московский форштадт.
В порту обнаружилось, что контр-адмирал и вице-адмирал получили из Рижского замка приказ выходить и двигаться вверх по течению. Оба, и Шешуков, и Моллер, были тут, каждый со своей свитой, и я проскочил мимо Николая Ивановича, старательно отворачиваясь.
Когда Артамон и Сурков прибежали к своим лодкам, первые суда уже выстраивались на фарватере, и помощники моих родственников пребывали в некоторой растерянности, не видя своих командиров.
– Сговорились, – кратко бросил мне запыхавшийся Артамон. – И задаток дал. По местам, молодцы! Сегодня увидим мы занятное зрелище – и будь проклят тот, по чьей милости оно состоится!
Он имел в виду грядущий пожар предместий.
– А это еще вилами по воде писано, – тихонько возразил я. – В самом начале военных действий был переполох – враг идет, спасайся кто может. На десятый день после того, как объявили военное положение, майор Анушкин, командующий кавалерийским отрядом в разведке, донесение прислал, весь Рижский замок в ужас привел. Видел-де он уже у самой Митавы прусские колонны и через полчаса они непременно будут у рижских ворот, хотя он, Анушкин, приказал зажигать за собой мосты! А это наши казаки стадо быков к Риге гнали, быки пыль подняли непроглядную…
– И что ж?
– Разозлил фон Эссена до чрезвычайности. Когда все выяснилось, фон Эссен велел отдать его под суд за то, что опозорил мундир свой и шпагу, да заодно две губернии перепугал.
– На сей раз, сдается мне, то были не быки. А вы чего встали?! – накинулся Артамон на матросов и гребцов. – По местам, живо! Гречкин, Свечкин, Печкин, вы пока останьтесь!
Решив, что таким ловким маневром он не вызовет у команды подозрений, сообщая новости лишь мне одному, Артамон продолжал:
– В замок прискакал главный курляндский лесничий, герр Ренне, или как там его. И доложил, что неприятель переправляется через Двину в семи верстах выше Риги.
– Когда? – сразу спросил я.
– Вот! И я сразу, услыхав, подумал: когда? Спросил у товарищей, и мне тут же ответили: и часу не прошло. Вот те раз, подумал я, мы ж ходили на йолах до самого Даленхольма, никакой переправы не видали! А это никак не семь верст, это чуть ли не пять морских миль! Побежали мы с Сурком к Моллеру, он сам в недоумении. Говорит, я здешних дел еще не знаю, но коли фон Эссен отправил проверить донесение не абы кого, а начальника своего штаба подполковника Тидема-на с отрядом, то положение нешуточное.
– Черт знает что… – пробормотал я. – Не сошел же фон Эссен с ума…
Лодки, причаленные одна к другой, разъединялись, со всех сторон звучали громкие командирские голоса:
– Весла – на воду! И – раз! И – два!..
С лодки на лодку понеслась весть – прискакал гонец, неприятель точно форсирует Двину! И из Цитадели уже выходят три батальона пехоты, чтобы прибыть к переправе разом с лодками!
– Бред сивой кобылы, – пробормотал Артамон. – Но если так, мы с ними славно переведаемся! Семь верст, коли верить картам, это где Фогельсхольм и Малый Любексхольм жмутся к правому берегу, а к левому – Люцаусхольм. Занятное место для переправы! Что ж, они так и будут, как козы, скакать с острова на остров?!
Я отродясь не хаживал на канонерской лодке, а для Артамона это уже было дело привычное.
Западный ветер благоприятствовал нам. Вытянувшись на якорях на середину реки, канонерки в полветра двинулись против течения к Даленхольму.
Не желая мучиться с лавировкой, вся флотилия сперва по возможности прижалась к наветренному берегу. Неприятность была только одна – постоянно налетавшие из-за деревьев шквалы, требующие предельного внимания от рулевых и шкотовых матросов. Чтобы уберечься от излишнего крена и рысканья, шкотовым матросам велено было держать шкоты на руках, на некоторых канонерках даже взяли рифы или держали паруса в потравку.
Сложнее всего было заходить в протоки – там начиналась лавировка с метанием от берега к берегу и бесконечными поворотами, шверт то и дело чиркал по дну. Канонирам, и того веселей, приходилось постоянно уворачиваться от пролетавших над головами реев и следить за орудиями, чтобы они оставались в мало-мальски горизонтальном положении.
Через несколько часов, обшарив все протоки и никого не обнаружив, флотилия повернула обратно.
– Самый бестолковый рейд, какой только можно вообразить, – сердился Артамон, когда с борта на борт полетел приказ поворачивать к Риге. – Целый вечер толчемся на здоровенных корытах в протоках, где только на яликах ходить. И что-то рановато темнеет, братцы…
– Душно, небо тучами обложено, быть ночной грозе, – сказал Свечкин.
– Быть грозе… – подтвердил кто-то у меня за спиной.
По течению идти стало не в пример легче. Я пошел на нос к канонирам смотреть, как приближаются черные шпили рижских церквей. Вдруг на Карловом бастионе громыхнула пушка. Это был один-единственный выстрел, и он еще не означал приближения противника – он означал сигнал зажигать Московский форштадт.
Когда мы прошли почти весь Газенхольм, предместье уже полыхало.
Вслед за Московским форштадтом вспыхнул Петербуржский, где к сожжению намечались не все дома, а лишь часть. Обыкновенный перед грозой сильный ветер обратился в сущую бурю и понес клубы дыма и горящие щепки прямо на рижские бастионы и равелины. Стало светло, как днем, и жители, стоя на тридцатифутовых стенах, каждую минуту ожидали, что начнутся пожары и в самой Рижской крепости. А коли так – город беззащитен перед вражеским приступом.
Некоторые лодки направились к порту и пришвартовались у Андреасхольма, подальше от горящего Петербуржского предместья. Мы отошли к левому берегу и пережидали эту беду, чтобы ветром к нам не принесло огня. Я задремал и проснулся на рассвете, когда пожар уже стихал – тем более, что по приказу фон Эссена были высланы пожарные команды. Когда же мы вернулись в порт, то узнали скверные новости.
В Рижском замке состоялся военный совет, на коем фон Эссен узнал о себе много любопытного и неприятного. Контрадмирал Моллер, хоть и происходил из лифляндского рода, рижанином себя не считал и имел свою точку зрения на кое-какие здешние безобразия. Шешуков поддержал его. Николай Иванович, собственно, и принес в порт новости, которые вскоре дошли до нас, а именно: в Рижский замок прибыл гонец, посланный курляндским лесничим Ренне неведомо откуда, он-то и доложил о переправе. Явились законные вопросы – где нелегкая носила Ренне после того, как он сообщил фон Эссену о переправе, какого черта он вообще убрался из замка, с какого перепоя померещилась ему очередная несостоявшаяся переправа и почему гонцом своим он избрал местного крестьянина, явившегося на собственном низкорослом коньке. Более того, мы решительно отказывались понимать, где бродил весь вечер Тидеман со своей свитой и казаками. Пройти семь верст вниз по течению, чтобы убедиться в отсутствии вражеской переправы, можно и пешком весьма скоро, а Тидеман был верхом, на хороших конях. То есть уж за два-то часа он мог обернуться!
– Всякие беспорядки бывают на войне, но это уж всем беспорядкам беспорядок, – заключил Сурков. – Будь я на месте маршала Макдональда – послал бы взвод инвалидов к южному мысу Люцаусхольма даже не переправу налаживать, а просто возить взад-вперед бревна на телегах. Этот взвод оттянул бы на себя всю рижскую пехоту, конницу и флот, а тем временем я бы распорядился быстро выдвигать артиллерию и ставить батареи на левом берегу, супротив Рижской крепости и Цитадели! И некому было бы отогнать меня – потому что все канонерские лодки дурью маются у Люцаусхольма!
– Эта нелепость выйдет фон Эссену боком, – добавил Артамон и ведь как в воду глядел!
То, что город зажгли на ночь глядя, было еще не самой скверной промашкой фон Эссена. Дернул его черт с утра отдать приказ объявить, что жители форштадтов могут спокойно возвращаться в свои дома, а потом, когда они таки вернулись, после прибытия загадочного гонца от Ренне – рассылать полицейских и солдат, чтобы гнать обывателей обратно в крепость. И то еще неизвестно, всех ли предупредили. Плохо иное – новости в маленьком городе разлетаются быстро, и рота охраны порта, набранная из горожан, тут же разнесла весть, что никакой переправы не было, что лодки вернулись, даже издали не видав неприятеля, и пожар оказался напрасным. Другое дело, что рано или поздно предместья, очевидно, пришлось бы сжечь, но толпа обыкновенно не видит дальше собственного носа, и к Рижскому замку повалили возмущенные горожане.
Тут сделалось известно, что в Петербуржском форштадте от переменившегося ветра занялись и сгорели дома, которые не были назначены к сожжению и потому жители их не покинули. Непонятно откуда понабежала всякая шваль и принялась поджигать строения с целью пограбить. Меж горящих зданий метались погорельцы, отстаивая свое имущество, завязывались драки, кого-то в суматохе удалось пленить, но не нашлось полицейских, чтобы сдать им преступников, и горожане привели их с собой связанных.
Толпа, разозленная не на шутку, стояла перед воротами на Замковой площади, люди кричали: «Убийца! Поджигатель!». Они были страшны – в грязной одежде, в повязках, прикрывающих ожоги, женщины с ревущими детьми на руках; Боже упаси когда-либо в жизни держать ответ перед такой массой людей! В основном толпу составляли латыши и русские – они-то главным образом жили в предместьях.
Стояли среди них и студенты-волонтеры из Дерпта – гарнизонный госпиталь также сгорел, как и милый моему сердцу храм «Живоносный источник», и юноши эти, воспитанные в покое и довольстве, всю ночь спасали раненых и доставляли их в крепость. Более всего мне было жаль их – они за одну эту ночь поняли, что такое война и как мало значит в ней подвиг человеческой души, если командиры гроша ломаного не стоят…
Фон Эссен к обывателям не вышел – да и потом едва ль не прятался от рижан. Особливо когда стали известны цифры: сгорело около восьми сотен зданий, без крова осталось чуть ли не семь тысяч жителей предместий, немногим меньше, чем население всей Рижской крепости. Убытки от пожара и считать боялись – впоследствии оказалось, что почти семнадцать миллионов рублей.
– Как все нелепо, – сказал я Артамону и Суркову. – А я-то хотел показать вам староверческие кварталы Московского форштадта, сводить вас в Гостиный двор! Нет больше Гостиного двора…
Тут некое воспоминание потревожило меня, да и пропало. За что-то в памяти моей цеплялся Гостиный двор, вернее, что-то цеплялось за него, словно бы рыболовным крючком.
– Скверно вышло с мародерами, – сказал Сурок. – Ну вот куда их теперь девать?
По розыску явилось, что к разграблению домов приложили руку русские плотогоны. Понять, почему так вышло, мы могли. Здоровые мужики оказались без работы, а значит, и без заработка, многие попросту голодали, им даже не на что было вернуться домой, да они и боялись возвращаться без денег. Вот и нашли способ разжиться…
Сурок, в противовес своей язвительности, иногда вдруг бывал не в меру жалостлив, то и дело пытался приютить на судне какую-то живность. Но порой его жалость была такова, что не хотелось давать ей возможность расти и шириться – вот как сейчас. Оттого, что плотогонов пожалел командир двух канонерских лодок, им не полегчает. Кормить за свой счет ораву в три тысячи глоток, коли не более, и похитить из тюрьмы несчастных мародеров мой племянник все равно не может, а все прочее, увы, лишь сотрясение воздуха.
– Как бы то ни было, а надобно срочно вселяться в твою комнату, Морозка, – вспомнил Артамон. – Если я не появлюсь сейчас же, твой Шмидт решит, что я утоп на отмели у Любексхольма и следует срочно искать другого постояльца. Сейчас такая комната лучше акций и ценных бумаг!
И он поспешил на Малярную улицу, предупредив нас с Сурковым, что сразу же вернется.
– Эк ему не терпится заманить в комнату хорошенькую немочку, – ухмыльнулся Сурков. – А знаешь ли что? Пока его нет, я велю вытащить на берег селерифер! То-то ты удивишься!
И я понял, что никакая война полностью не подчинит себе человека. Только что он был мрачен, осознавая ее ужасы, и вот он уже бежит по своим смешным делам, вот уже отдался своим веселым заботам. Очевидно, иначе ему на войне никак не выжить, подумал я, вот ведь и сам я, обвиненный в двух убийствах и совершивший третье, не рыдаю в отчаянии круглосуточно, а премило катаюсь на йоле и канонерской лодке, получая огромное удовольствие от уроков обращения с парусами. Жизнь такова и спасение наше в том, чтобы не видеть в ней трагедии господина Сумарокова, иначе и впрямь ткнешь в себя кинжалом, даже не дожидаясь пятого действия.
Глава восьмая
Селерифер племянника моего оказался престранным сооружением.
Вообразите себе выкрашенную в красный цвет доску, длиной около двух аршин, шириной в четыре вершка и толщиной в один. К ней приспособлены сзади и спереди деревянные рога, а меж этими рогами – колеса, наподобие колес для брички. То есть когда колеса, схваченные этими рогами, стоят на земле, как им полагается, доска немного возвышается над ними. Посередине устроено сидение – старое седло, прочно привязанное к доске. А спереди из доски торчит штырь непонятного назначения.
– Каково? – спросил Сурок. – У англичан это любимая забава.
– А как прикажешь забавляться? – осторожно спросил я.
– Да просто! Садишься в седло, как на лошадь, отталкиваешься ногами то справа, то слева. Когда селерифер разгонится, поднимаешь ноги и едешь!
– Куда?
– Куда хочешь!
Восторг в голосе племянника показался мне подозрительным; когда человек восклицает, выпучив глаза и прерывисто дыша, – жди беды. Потому я пригляделся к двухколесному диву внимательнее.
– Как же, если это твое чудище невозможно повернуть? Ты уж открыто говори – едешь по прямой, а если тебе навстречу телега, или человек, или лошадь, вся надежда на то, что они уступят тебе дорогу.
– Да мы с плотником Сидором уж думали об этом. Только голова нам все портит…
– Какая голова?
– Лошадиная…
Я понял, что мой язвительный дядюшка, высмеивая сурковский селерифер, не токмо что был прав, а еще и проявил деликатность.
– На что тебе лошадиная голова? – спросил я своего племянничка.
– Умные люди присоветовали. Сказывали – в Париже голову спереди ставят, и получается, вроде на лошади едешь. Но если поставить голову, то совершенно невозможно сделать устройство, чтобы переднее колесо поворачивалось. Вот в чем беда!
– На штырь, стало быть, насаживается лошадиная голова? – уточнил я.
– Да, только она покамест не готова. А конский хвост привязать можно, хвостом я уже запасся! Хочешь покататься?
Я, может, и рискнул бы, но на берегу вокруг нас собрались матросы и гребцы, делая насчет селерифера разнообразные замечания, порой весьма остроумные, жаль только, что все они забылись.
– А я прокачусь! – сказал мой отчаянный племянник и сел верхом на селерифер.
Место для такой поездки было выбрано, с одной стороны, подходящее – речной берег, где утоптанная земля граничила с мягким песком, так что, падая, Сурков не расшибся бы. С другой стороны, он рисковал заехать в реку.
Отталкивая попеременно то правой ногой, то левой, он покатил вперед. Сделав несколько таких шагов-прыжков, селериферный наездник поджал ноги – и тут только я понял главную беду этого сооружения. Оно нуждалось в рессорах или хотя бы в стременах – даже на мягкой земле Сурков, державшийся за штырь для лошадиной головы, подскакивал и шлепался обратно на седло весьма ощутимо, каково же было бы разъезжать по булыжным улицам Риги? Он отбил бы себе все филейные части, и не только.
Как я и полагал, добром это путешествие не кончилось. Берег не так ровен, словно его провели по линейке, Сурков, норовя хоть как-то повлиять на движение своего колесного средства, начал вздергивать вверх штырь, предназначенный для крепления лошадиной головы, полагая, что селерифер, вставший на одно колесо, удастся как-то повернуть.
На третьем рывке штырь остался у него в руках, а сам он чуть не вылетел из седла и не шлепнулся на мелководье, потому что селерифер таки заехал в воду, где и уткнулся в борт небольшой лодки.
Племянник мой замер на нем, со штырем в руках, задрав ноги в каком-то диковинном равновесии и просидел этак довольно долго, пока селерифер не стал крениться. К счастью, кто-то из гребцов его лодки, стоявший на берегу босиком, быстро забежал в воду, поймал своего командира и, взяв на закорки, перенес на берег, потом же вернулся за двухколесным чудищем.
К тому моменту, как он вкатил тяжелый селерифер на берег, я уже скорчился от смеха – как и все зрители этого представления. Как будто все мы, молодые балбесы, пришли сюда повеселиться; и жаркий летний день, и прекрасное синее небо, и ослепительные блики на воде, и легкий ветерок, пахнущий морем, к тому располагают; а война – где-то в ином государстве…
– Ну и не вижу в этом ничего смешного! – говорил красный, как рак, Сурков. – Всякое новое изобретение сперва проходит проверку! Почем вам знать, может, через десять лет все будут разъезжать на селериферах! Может, он и лошадей заменит!
Вообразив себе гусарский эскадрон с саблями наголо, летящий в атаку на двухколесных уродах, я опять зашелся смехом.
Сурков все не унимался и предпринял еще несколько попыток, причем последняя была вполне успешной. Он проехал с сотню сажен и остановился сам, более того – сошел с селерифера благопристойно, а не завалился вместе с ним наземь. Тогда только он угомонился и велел своим гребцам убрать двухколесное чудище.
– Поучусь еще немного, а там можно будет и по городу прокатиться! – гордо сказал он.
– Что останется от твоего гузна? – спросил, подходя, Артамон. – Ты месяц сидеть не сможешь, если попробуешь кататься по здешним мостовым. Морозка, мы сегодня ночуем на Малярной улице!
– Ты с ума сбрел! – отвечал я.
– Ничуть. Главное – пробраться тебе туда незаметно. И не родился еще полицейский, который догадается тебя там искать. Мои матросы отнесут туда твой сундучок вместе с кое-каким моим имуществом.
– Ты же собирался заманить к себе хорошенькую немочку! – напомнил Сурков.
– Ее сперва еще нужно отыскать, – загадочно сказал Артамон. – Сегодня мне с хорошенькими не повезло…
После вчерашнего нелепого рейда, пожара и утренних новостей всем, включая Моллера и Шешукова, было не до нас. Лодки благополучно пришли – и ладно, можно перевести дух до ближайшей тревоги. Артамон и Сурков наконец-то озаботились размещением своих команд в казармах Цитадели и в палатках, ходили ругаться насчет бани, в которой матросы и гребцы давно нуждались, и выполняли прочие командирские обязанности. А команды были немалые, на большой канонерской лодке – семьдесят человек, на средней – шестьдесят. Я все диву давался, как Артамон управляется с такой ордой. Насчет Сурка я не сомневался, этот одной своей вредностью экипаж целого фрегата будет в трепете держать.
Поздно вечером Артамон собрал целый отряд носильщиков – шесть человек, каждому дав в руки или на плечо какой-то предмет, сундук или баул, или скатанную шинель, или тюфяк. Эта комедия потребовалась, чтобы провести меня в мою же комнату. Не станет же герр Шмидт считать, сколько матросов вошло и сколько вышло. О том, как мне оттуда выбираться, мой глубокомысленный дядюшка конечно же не подумал. А мне так хотелось наконец-то лечь и как следует выспаться, что я тоже этим не озаботился.
Мы прошли по Малярной улице уже в полумраке. Мне все равно было крепко не по себе – хотя я знал, что в это время порядочные бюргеры уже в постелях, но мало ли кто вдруг высунется в окошко, да и частный пристав герр Вейде мог устроить какую-нибудь ловушку, полагая, что я приду за своим имуществом. Но мне повезло, хозяева оставили входную дверь открытой, и я оказался в своей комнате, которую фрау Шмидт уже приготовила для двух постояльцев. Кроме постели, там стоял топчан, покрытый тюфяками, застеленный чистейшим бельем и поверх оного – голубеньким покрывальцем, отделанным толстенькими кружавчиками домашней работы. Меня всегда поражало, сколько времени немки уделяют вязанию.
Артамон отпустил матросов, и мы остались втроем среди бестолково расставленного багажа.
– Ну, давай разбираться, что же произошло в ту ночь, когда убили твою красавицу, – сказал мой дядюшка. – Ты покажешь, где обнаружил ее, как она лежала. Но сперва расскажи внятно, как вы с ней встречались, какие знаки друг другу подавали. Я хочу понять, почему она прибежала к тебе ночью и получила удар ножом.
Я подвел друзей моих к окошку.
– Вот двор ювелира Штейнфельда, – показал я. – Вот окно Анхен. Она, глядя вверх, могла видеть, есть ли свет в моем окне, и тогда перебегала через двор.
Сурков высунулся, чтобы понять, как именно шла Анхен. Проход там был прост, два дома имели общий двор. Главное – идя, приходилось пригибаться, чтобы не быть замеченной из окон первого этажа, а потом сажени полторы пробежать и юркнуть в дверь.
– Зимой ей даже не было нужды тепло одеваться, – добавил я, – она просто накидывала шаль.
– Может ли быть, что твой злодей забрался к тебе в комнату и зажег свечу? – спросил Артамон. – Или же злодейка?
– Ключей от комнаты по меньшей мере два. Один у меня, второй у фрау Шмидт, которая приходит ко мне прибираться. Я допускаю, что есть и третий…
– Легко ли стянуть у твоей фрау Шмидт ключ, чтобы сделать копию? – продолжал допытываться дядюшка, а племянник мой Сурков достал перочинный ножик и стал ковырять им в замочной скважине.
– Прекрати, не то совсем сломаешь замок, – предостерег я.
– Я полагаю, человек, который нанимается Филимоновым, чтобы сплести вокруг его жены интригу, умеет и отмычкой пользоваться, – отвечал Сурок. – Гляньте, есть язычок – нет язычка, есть язычок – нет язычка! К тебе слишком легко залезть, Морозка. Твой ключ – одна видимость.
– Ах, черт, – пробормотал я. – Вот это новость…
– Остается только один вопрос: как мусью Луи, обогнав тебя, забрался в дом. Как он выманил Анхен – понятно, – сказал Артамон.
– Кто? – хором спросили мы с Сурком.
– Мусью Луи. Как же его еще называть? Тем более что он почти не притворяется женщиной, а расхаживает в одежде, свойственной своему полу.
Артамон был так убежден, что камеристка Натали – переодетый мужчина, что уже отказался звать его женским именем. Мы согласились, и «Луизы» более в наших разговорах не было.
– Ты шел самой короткой дорогой? – полюбопытствовал Сурок. – Странно все же, что он смог тебя настолько обогнать…
– Одному Богу ведомо, какая дорога тут самая короткая, – сердито отвечал я. – Улицы загибаются и пересекаются под невозможными углами, и ты, выбирая путь по Риге, двигаешься какими-то несносными зигзагами!
– Но ты же выбираешь короткий путь?
– Я выбираю путь, который кажется мне коротким! На самом деле он, возможно, не таков.
– Та-ак… – протянул Сурок. – Сдается мне, твой мусью Луи не впервые в Риге и знает все здешние закоулки получше тебя.
Я хотел было возразить – и вспомнил нашу первую встречу. Лишь теперь я наконец задался вопросом: на каком языке говорила мнимая камеристка с носильщиком, показавшим ей прежнее жилье! Сколько я мог заметить, носильщиками были латыши, знающие по-немецки довольно плохо. Они зазубрили названия улиц, это в лучшем случае. А «Луиза» должна была объяснить, что ей требуется недорогое и надежное помещение для двоих. При том сам мусью Луи, как я мог понять, немецкий тоже знал из рук вон плохо, зато прилично говорил по-русски… И еще одно соображение. Если две женщины поселяются в гостинице, то это им как-то гарантирует неприкосновенность, а идти вслед за первым попавшимся носильщиком в какую-то сомнительную хибару – немалый риск, тем более что одна из женщин молода и хороша собой. Очевидно, мусью Луи все же доставил Натали в хорошо ему известное местечко…
– Похоже, Сурок, ты прав.
– Мы должны поймать его в ловушку! – воскликнул дядюшка Артамон. – Я еще не знаю, как, но сделать это необходимо!..
Вдруг он решительно задул свечу.
– Ты что? – спросил Сурок. – Там, во дворе, кто-то есть?
– То-то и беда, что есть! Братцы, запирайте двери, сейчас к нам гости пожалуют!
Но Сурок, оставивший язычок замка торчащим наружу, впотьмах никак не мог водворить его на место и даже выругался самым моряцким образом. Я же встал за дверь, не желая, чтобы меня видели.