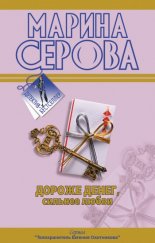Несущие смерть. Стрелы судьбы Вершинин Лев

У очага заинтересованно насторожился македонец.
Поднявшись со скамьи, Киней прошел к окну, широко распахнул ставни, и в комнату, мягко вытесняя прокопченную духоту, напитанную запахом пота, вольно рванулось дыхание ранней весны.
Ну что ж. Этого и следовало ожидать.
Густой плевок беззвучно вонзился в талый снег.
Будьте вы прокляты, архонты Молоссии!
Заскорузлые тупицы, сросшиеся со своими козьими бурками, хамящие в спину, шипящие вслед, огрызающиеся втихомолку. Неспособные разглядеть за ветхим частоколом своих мелочных привилегий то, к чему воистину следует стремиться…
Очень хотелось сплюнуть еще, но в пересохшем рту не было слюны…
Он все-таки приучил их хотя бы внешне уважать царскую власть! Он напомнил горным козлам времена Фарипа Златоустого и Александра Воителя!..
И они смирились, привыкли, забыли, как поначалу презрительно оттопыривали губы, едва ли не вслух позволяя себе рассуждать о том, что не стоило, мол, государю доверять посох простата приблудному гречишке. Да и чего-де можно ожидать от юнца, слепо слушающего советы ученого умника, не имеющего ни капли благородной молосской крови, – да что там? – даже и хаонской или феспротской, что, разумеется, почти столь же неприемлемо, но все-таки – почти…
Они упорно не желали умнеть. Пришлось их учить, и надо признать: учение пошло впрок!
В конце концов, не все горные архонты безнадежные идиоты. Тем, кто помоложе, уже давно ясна разница между мягкой тканью и вонючей козьей шкурой, между азиатскими притираниями и прогорклым салом. Молодые способны смотреть, и сравнивать, и оценивать не предвзято…
А оценить есть что!
Киней внимательно, словно впервые, поглядел на свои руки. Всего только три года, ну, чуть-чуть дольше держат они посох простата, и за этот срок, краткий не то что для Клио, звонкопамятной Музы истории, но и для обычной жизни, Эпир перестал считаться безнадежным захолустьем Ойкумены, прославленным разве что древним святилищем Зевса да еще знаменитыми свирепостью и преданностью боевыми псами…
Кто сомневается, пусть побродит по пристаням разросшегося порта Фойники Хаонской. Нынче, не в пример недавним дням, там можно увидеть не только юркие диремы особо отчаянных мореходов, но флаги всех стран света, где только есть корабельные верфи! Даже Египет… Да что говорить!.. Уже и финикияне, чуящие поживу за сорок суток пути, не оспаривают размеры пошлины на право иметь представительство на эпирском побережье…
Мало?
Тогда пускай недоверчивый прислушается к восторгам эллинских путешественников, все чаще заворачивающих в Молоссию – иные просто так, а некоторые с ясной целью: увидеть своими глазами, насколько благотворны демократические изменения. Вернувшись в свои чистенькие, обветшалые полисы, они по-прежнему именуют эпиротов варварами, но скорее по привычке… И тотчас сконфуженно добавляют: «…впрочем, прогрессируют, прогрессируют, тут не поспоришь!..»
Еще немного, еще совсем чуть-чуть, и Киней добьется главного: и хаон, и феспрот, и молосс ощутят себя единым целым и назовутся «эпиротами»! Порукой тому – Пассарон, новая, лишь полтора года тому заложенная столица Эпира, свободного от векового недоверия, от вражды, от зависти. Эпира, где все граждане равноправны и лишь царь – один над всеми… Где простые и ясные законы Фарипа Златоустого, обновленные в соответствии с велениями времени, окончательно вытесняют замшелые обычаи…
В этот миг, к удивлению Андроклида, внимательно наблюдающего за простатом, на устах Кинея мелькнула слабая, немного отрешенная улыбка.
Афинянин, не ежась, глядел в окно, безошибочно угадывая под наплывами ноздреватого снега прямоугольники и овалы фундаментов.
Вот тут, поблизости от дома простата, встанет белокаменный булевтерий*, где избранники, облеченные доверием жителей гор и равнин, станут решать неотложные вопросы и готовить важнейшие постановления для утверждения на ежегодной всеэпирской экклесии*.
Тут – агора*. Большая, намного больше афинской. Любой эпирот, пожелавший участвовать в экклесии, сможет безбоязненно отдать свой голос в пользу того или иного решения, не оглядываясь ни на своего архонта, ни на указания старейшин, но подчиняясь лишь собственному разумению и опыту…
Любой эпирот!
Недаром же Пассарон стоит на стыке земель трех этносов, и всякому пожелавшему удобно добираться сюда. Это справедливее, чем собирать экклесию в далекой Додоне, куда не каждый сумеет добраться с побережья.
А вот там встанет палестра*! И каждый юноша, вступивший в возраст эфеба, невзирая, из какого он рода, станет обучаться на ее площадках приемам рукопашного боя и искусству владения оружием, прежде чем заступит на охрану рубежей.
Разве равенство во владении оружием не есть наилучшая гарантия равенства и в остальном?!.
Судя по всему, последние слова Киней высказал во всеуслышание, потому что Андроклид отозвался тотчас:
– Именно поэтому они и не отступят. Им необходимо успеть до весенней экклесии…
И это опять была правда.
Правда, зачеркивающая мечту…
– Ксантипп!
Рыжий македонец отозвался, не дав и договорить, мгновенно, словно только и ждал, когда о нем вспомнят.
– Прррикажи, прростат! – В простуженной на свежем ветру глотке хилиарха Эпира урчало и шипело, словно там поселился, неведомо как избежав крупных желтоватых зубов, горный кот, голодный и оттого более чем рассерженный. – Пррошшу тебя, прррикажи, и я с моими парррнями рррастопчу стадо! Им не выстоять!..
«А ведь растопчет, – с неожиданной нежностью подумал Киней. – Как пить дать, растопчет!»
Ну-ка, ну-ка…
Ксантипп – прекрасный воин, из тех, кого еще при рождении метит Арей. Это бесспорно. И великолепный педагог-гопломах. Из пяти сотен неуверенных в себе мальчишек, дерущихся по ночам и не желающих подчиняться приказу, он сумел создать этерию. Самую настоящую! Ничем не хуже македонской. Да, небольшую, да, необкатанную в бою, но не идущую ни в какое сравнение с дурацким, сражающимся без строя, ополчением горных кланов. Бывшие мальчишки забыли, кто из них феспрот, а кто молосс; все они – ипасписты базилевса Пирра, и по первому слову Ксантиппа они встанут против кого угодно, даже против собственных дядюшек, собирающихся явиться на Праздник Весны со скопищем вооруженных головорезов…
Одно лишь слово, и сила столкнется с еще большей силой.
Не надо и слов. Достаточно кивнуть.
– Прррикажи, пррростат! – Дикая кошка уже не шипела, она урчала в боевом безумии.
– Прошу тебя, Ксантипп, – поморщился Киней. – Дай подумать.
И македонец, пожав плечами, притих.
Кинею видней. На то он и власть.
Дело хилиарха – ждать приказа. И пить подогретый мед, славно лечащий простуду, пока приказа не последовало.
Пусть рушится мир, но армия должна оставаться вне политики.
Наверное, это справедливо.
И все-таки жаль…
– Андроклид?
Томур, глядя в тусклый при свете дня огонь очага, покачал головой.
– Не уверен. Они не начнут боя. Просто потребуют пропустить их к Дубу. И получат оракул от подземных. Сам понимаешь, каким будет этот оракул…
Киней покивал.
Как не понять?
Царь Пирр прогневал Зевса! – ответят те, кто внизу.
Нет, не прогневал! – возразят томуры.
Но разве по силам спорить Кроне с Корнями?
Разве выстоит мирное скопище хаонов и феспротов, пришедших на праздник, против вооруженных, готовых к кровопролитию молосских бойцов?..
– А если начнем мы?
– Это их устроит! – Рот Андроклида напоминал сейчас темный провал, и редкие зубы безобразными пеньками торчали в синевато-розовых старческих деснах. – Тогда они смогут сказать, что мы нарушили закон Фарипа Златоустого.
– Проклятье! – Наконец спокойствие изменило и Кинею.
Закон Фарипа! Конечно! Тот, кто начнет усобье меж племен Эпира, да будет казнен позорной смертью. Тот, кто поможет преступнику, да удалится в изгнание. Хороший закон! Жаль только, что он, как и всякий закон, даже наилучший, похож на дышло колесницы…
– А кроме того, – в надорванном полувсхрипе старца прорвалось не присущее ему отчаяние, – я ведь не успел сказать о главном! Я был везде, от Томара до паравейской границы, не обошел ни одной башни, понимаешь? Кое-где архонты понимают, что к чему. Но они связались с Кассандром, или он с ними, уже не понять. Кассандр пошел на все их условия! Никакой оккупации, никакой дани, никаких наместников. Он просто пошлет сюда придурка Неоптолема, а с ним – почетную свиту, достойную царя Молоссии. Этак тысячи три, пышности ради. Понимаешь, простат?!
Тупая боль под сердцем разозлилась всерьез.
И укусила.
И отброшенная плетью воли, вновь спряталась в норку.
…Это меняет дело. Неоптолем, потомок царей, имеет право побывать у Дуба, принести ему дары. Таков обычай. Базилевс Македонии не просто может, он обязан почтить гостя пристойным сопровождением. Обычнейшая этика.
И смогут ли полтысячи эфебов Ксантиппа задержать наступление вшестеро превосходящей их массы обученной македонской пехоты?..
– Похоже, у тебя нет выхода, Киней.
– У нас, – поправил простат.
– У нас, – согласился Андроклид.
Нет выхода?!
– Андроклид! – Простат пружинисто развернулся. Сейчас он вовсе не походил на мудреца-политолога. – Скажи мне: допустим, простат Молоссии увидел вещий сон. Сон об измене! Может ли он обратиться к томурам за оракулом?
– Даже обязан. И томуры, не отлагая, истолкуют шепот листвы, – на миг меж реденьких сивых усиков мелькнула понимающая ухмылка. – Однако сейчас ветви Дуба мертвы, а значит, и томуры безгласны. Первые почки раскроются не скоро.
– Это понятно. Скажи-ка, Андроклид, – Киней почти шептал, вкрадчиво, словно похотливый старец, убеждающий девственницу не пренебрегать им, – а допустим, старейший из томуров подтвердит, что вопрос был задан в день, когда листва уже пробудилась? И предположим, что это случится не позднее завтрашнего дня?..
Томур опустил глаза. Помолчал. Тяжело вздохнул.
– Если такое случится, предателей надлежит покарать немедля, и в этом нет нарушения законов златоустого Фарипа. Однако…
Снова молчание. Долгое. Почти бесконечное.
– Однако такое прощается только победителям…
– Ксантипп! – рвано выкрикнул Киней. – Ты все понял?!
– Мы выжжем дотла осиные гнезда, прростат! – Лицо македонца пошло багровыми пятнами.
– Тогда – поднимай этерию, хилиарх! Случилось чудо! Листва Дуба предупредила царя о черной измене. Это так, почтенный Андроклид?..
Старый жрец скрипнул зубами, и на прикушенной губе выступила кровавая капелька.
– Да, – ответил он еле слышно.
– Хорошо. А теперь – за дело…
Спокойно, не торопясь, Киней назвал десяток имен.
– Это – главные, Ксантипп. С остальными можно и договориться. Но нужно действовать быстро и тихо. Проявлять милосердие запрещаю. Что-то не ясно?
– Позволь исполнять, прростат!
– Исполняй. Свидетелей не оставляйте. И еще. Сделаешь дело, посылай верных людей в Додону. Измена затаилась и в подземельях… – Киней бросал фразы одну за другой, глядя сквозь хилиарха. – Далее. Возьми с собой только хаонов и феспротов. Молоссов оставь…
Улыбнулся.
– Почему ты еще здесь, Ксантипп?..
Спустя мгновение тяжелые шаги хилиарха гремели за дверью, удаляясь вниз.
– Вот так, – непонятно к кому обращаясь, заключил Киней. – И никак иначе. О чем задумался, Андроклид? Жалеешь, что ввязался?..
– Нет, – томур покачал головой. – Когда-нибудь нужно было начинать, так почему не сейчас? Но я рад, что Пирр нынче в Амбракии. Ты что, знал все заранее?
– Откуда? – удивился Киней. – Я что, бог? Просто мальчику пора было посмотреть на истинный город. К тому же, как бы ни сложилось, тамошние греки не сдадут его. Скорее, отправят к сестре. К Деметрию. Там мальчик не пропадет. Впрочем, что это мы хороним себя заранее?..
Андроклид поежился.
– При чем тут похороны? Просто зябко здесь. А вообще-то забавно: томур-клятвопреступник. Никогда такого не бывало…
– Ну и что? – приподнял брови Киней. – Сам же говоришь: все когда-нибудь случается впервые. Так почему не теперь? Хотя, согласен, забавно: томур-клятвопреступник и простат-мятежник. В этом и впрямь что-то есть…
– Сладкая парочка, – хмыкнул Андроклид, и Киней усмехнулся, оценив шутку по достоинству.
А затем присел рядом с томуром, дружески коснувшись плеча молосса.
– Скажу честно, мне страшновато. Скорее, даже не за себя, а за хорошее дело…
– А за Пирра?
В завитках шелковистой, любовно подстриженной бородки на мгновение мелькнули белые мелкие зубы.
– Пирр – умный мальчик. Если все пойдет, как должно, он вернется в Додону базилевсом всех эпиротов. Если же боги подшутят над ними… Ну что же, мы уже дали ему все, что могли; пусть учится у самой жизни. А сюда он все равно вернется, раньше или позже. Неоптолем бесплоднее камня, а иных претендентов нет…
За окном уже суетились и переговаривались.
Поднятые по тревоге, поспешали, скрипя новенькими перевязями, сотники царской этерии, и над негромкой суматохой, подгоняя и поторапливая, взметался, словно невидимая, но хлесткая плеть, простуженный хрип Ксантиппа.
Коринф.
Середина лета года 474 от начала Игр в Олимпии
Высокий, худенький, на удивление серьезный мальчик лет десяти или немногим старше сделал шаг назад, неулыбчиво осмотрел царя и совсем по-взрослому покачал головой.
– На мой взгляд, папа, многовато золота. Если я верно представляю себе эллинов, им это может не понравиться…
Гиероним с трудом сдержал улыбку.
Никогда не поймешь: то ли Гонат и впрямь одарен Олимпийцами сверх всякой меры, то ли попросту играет в маленького, все понимающего старичка. Скорее, первое. Игры быстро надоедают детям, а царевич таков, каков есть, с самого младенчества. Во всяком случае, не каждый взрослый муж, даже и подвизающийся на ниве философии, способен спорить на равных с этим тихоголосым, невспыльчивым мальчуганом, выучившим к десяти годам не только Гомера, что, в общем-то, и не редкость, но и скучного, назидательного, до тошноты ненавистного школьникам Гесиода.
Стоит ли удивляться тому, что переубедить юного Антигона-Гоната в чем-либо совсем не легкое дело? Хотя и вполне возможное. В ребенке – хвала богам! – нет ни грамма детского нерассуждающего упрямства, и он всегда готов к диалогу. Нужно лишь сесть рядом и спокойно, не горячась, приводя примеры и ссылаясь на мнения авторитетов, выстроить схему доказательств опровергающих тезисы собеседника.
Десятилетнего собеседника! Каково?!
Недаром же, по достоверным слухам, даже в беседах с дедом внучок ухитряется оставлять за собою последнее слово! И старый Антигон соглашается с силлогизмами Гоната, категорически запрещая рассказывать царевичу, что поступает зачастую вопреки его советам и доводам…
Они, утверждает молва, очень близки, дед и внук. Откровенно говоря, Гонат и внешне больше похож на Одноглазого, каким тот, видимо, был в давным-давно минувшем детстве, нежели на отца. Ни намека на Деметриеву вальяжность, склонность к полноте, круглолицесть: худ, жилист, резколиц, но при этом нисколько не суров, скорее, ироничен. К восьмидесяти, если доживет, будет копией Монофталма. Немало унаследовано и от эпирской родни! От них, неукротимых молоссов, этот резко вылепленный подбородок, красиво изогнутая линия бровей, темно-медный, едва ли не черный цвет волос, вспыхивающих на полуденном солнце жарким, почти алым огнем…
– Я посоветовал бы тебе, папа, одеться в белое, как полагается в Элладе. А плащ – пурпурный, ты же все-таки царь и сын царя…
Хранитель царских одеяний, держащийся чуть поодаль, быстро переглянулся с придворным цирюльником, и тот весело подмигнул ему: терпи!.. Я же терпел!.. Он и вправду выбился из сил, доказывая Гонату, что челка, слегка подвитая и подкрашенная золотистой пудрой, имеет свои преимущества…
– А диадему надевать, сынок? – На пухлых, более мальчишеских, чем у Гоната, устах Деметрия возникает улыбка.
И зря. Юный Антигон никому не позволяет подтрунивать над собой. Даже родному отцу. Который, к тому же, почти незнаком пока что с сыном. Дедушке Гонат, наверное, простил бы такую улыбку, но дедушка никогда не насмешничает. Он умный и хороший… Он лучше отца…
– Если ты считаешь себя царем, папа, то следует ли об этом спрашивать? – отвечает царевич.
Наступившее молчание вовсе не удивляет его.
Он привык к этому. Взрослые, относящиеся к нему, как к маленькому, рано или поздно замирают вот так, с нелепо раскрытыми ртами, нарвавшись на ответ, достойный вопроса. Конечно, не следует обижать тех, кто старше. Но Гонат никогда не начинает первым, а давать сдачи следует всегда! И тем оружием, которым владеешь лучше всего. Так говорит дедушка, а дедушка знает, что говорит…
Ошеломленно обежав взглядом растерянные лица свитских, Полиоркет огорченно оттопыривает губу, и Гонату становится вдруг невыносимо стыдно.
Зря он так! Ведь это же папа, который его любит, которого очень любит дедушка и которого должен и обязательно будет любить он, Гонат, когда немножко привыкнет к этому большому, очень сильному, почти как дедушка, но совсем непохожему на дедушку человеку. С ним неинтересно разговаривать, ну и что?! Зато у него сильные руки, он подбрасывает маленького Антигона к потолку целых двадцать раз, а большой Антигон – только семь! Да и то, задыхаясь! И еще папа умеет придумывать различные интересные машины! Их у Гоната полная комната, маленьких, но совсем таких, как настоящие, но и настоящие тоже есть. Никто, кроме папы, даже дедушка, не умеет создавать новые машины, а папа умеет это лучше всех! Жаль только, что передать, как приходит в голову идея, ему не удавалось ни разу, сколько бы сын ни спрашивал…
Папа обижен. Ладно, сейчас он простит своего маленького сынка.
Подойдя поближе, Гонат прижался щекой к отцовскому локтю и, умело притворяясь огорченным малышом, жалобно засопел.
– Папочка, папулечка, ну не сердись!..
Широкое лицо Деметрия просияло.
– Сыночек, да разве я сержусь?..
Царь присел на корточки, взял наследника за большие, изрядно оттопыренные уши и ласково потрепал, не догадываясь, каких усилий стоит ласкаемому перенести это издевательство над личностью стоически.
Деметрий вовсе не сердился на сына. Если на кого он и был зол сейчас, так это на умников, замутивших голову ребенку, и самую малость – на отца, допустившего к малышу этих яйцеголовых пустоболтов! Мальчишка должен быть мальчишкой, а не невесть чем! В его годы Деметрий с утра до ночи пропадал в палестре, бил морды парням тремя годами его старше, сам получал так, что мало не казалось, собирал коллекцию венков за победы в соревнованиях, знал наизусть клички коней-победителей и тайком от сурового отца бегал в заведение толстухи Апамы, просто так, поглядеть, как это делают воины с девочками, и помечтать, как сделает сам, когда подрастет…
Нет, книги тоже неплохо, кто бы спорил, особенно пособия по точным наукам, без которых не спроектируешь ни судно, ни баллисту, но всему свое время!
Сыном следует заняться всерьез, решает Деметрий, и вспоминает, что надо поспешить: царя ждут, а царь все еще не одет к торжественному выходу.
Впрочем, одеяние – вот оно; пышное, вытканное золотыми нитями, так красиво играющими на мягком пурпуре вавилонской ткани, усыпанное драгоценными каменьями… Не просто наряд, но воплощенное великолепие, перед сиянием которого по ту сторону Эгеиды падают ниц знатнейшие из азиатов…
М-да… Но здесь – не Азия!..
Отпустив уши сына, Деметрий смотрит на жмурящегося от удовольствия, словно котенок, мальчишку с нескрываемым удивлением. Будто впервые.
– Убери, – говорит царь хранителю одеяний, указывая на сияющее златотканое чудо. – Оденусь в белое, как полагается в Элладе. Ну, плащ пускай пурпурный, я же как-никак царь. Только без позолоты! И непременно диадему!..
Свитские тихо перешептываются, избегая спокойных мальчишеских глаз и восхищаясь безукоризненным вкусом базилевса, как никто, понимающего, где и что уместно одевать…
А спустя недолгое время Деметрий, в белейшей, как сама непорочность, тунике, прекрасно оттеняющей скромный, без лишних побрякушек, пурпур военного плаща, увенчанный нестерпимо сверкающей каменьями диадемой, лишний раз убеждается в правильности принятого решения…
Горожане, спокойные и неторопливые, уступая дорогу могучему союзнику, кланяются подчеркнуто уважительно. Они явно оценили и блеск положенной по рангу диадемы, и достойную истинного эллина, чтущего старину, скромность наряда. Никто, разумеется, не указывает пальцем, никто не выкрикивает здравиц и не швыряет охапки цветов. Люди просто улыбаются, сдержанно и приветливо, потому что это – Коринф.
Неторопливый, исполненный неяркого, как поздний отсвет солнца, не сразу уловимого очарования, несколько старомодный и чуть-чуть наивный Коринф, хранящий почти угасшую на перекрестках шумных дорог память о временах, когда Эллада лишь училась быть Элладой и, учась, равнялась на коринфские образцы…
Что и говорить, прекрасен Коринф!
Вкрадчивая прелесть его не сразу бросится в глаза. Иному, попавшему сюда впервые, город, пожалуй, покажется скучновато-пыльным, захолустным, лишенным блеска. Что правда, то правда, мишура здесь не в почете. Но если сердце твое не загрубело в поединке с жизнью, то, вернувшись домой, ты станешь просыпаться по ночам, пытаясь вспомнить мимолетный сон, нежный и пронзительно-грустный, и, не сумев, уронишь опять голову на влажную подушку… и тебе снова и снова привидится покинутая сказка, имя которой – Коринф…
И вспомнишь, даже не желая, оракул неошибающегося Аполлона Дельфийского:
…хочешь сыну богатства, найми в педагоги афинянина;
…для воспитания духа пригласи спартанца;
…мечтаешь увидеть отпрыска уважаемым, позови наставника из Коринфа.
Вот потому-то именно здесь, а не в кичащихся яркой пышностью городах, принято собирать панэллинские съезды.
Встретиться можно всюду.
Но не всюду так трудно кривить душой, как в Коринфе.
– Поспешим, друзья! – Деметрий несильно хлещет плетью по крупу коня. – Негоже опаздывать!
И это правда.
Их уже ждут.
Круглая чаша крытого булевтерия заполнена до отказа.
Белым-бело в первом ярусе амфитеатра, заполненном полномочными посланниками старых, прославленных строгостью нравов, пусть зачастую показной, и все же достойной уважения, полисов материковой Греции.
Ал, словно залит кровью, ярус второй, вместивший представителей окраинных симмахий, даже в мирное время не расстающихся с одеянием, более пристойным в бою.
Сплошная синева расплескалась в третьем; островитяне с детства отдают предпочтение ясным цветам изменчивой морской волны.
И лишь изредка, то там, то тут – вызывающий блеск золотого шитья. На таких косятся. Непристойно эллину хвалиться богатством. Добытое честным трудом не выставляют напоказ, а бесчестие позорно даже в сиянии драгоценного шитья.
Мало кто любит «новых греков»…
Опустившись на скамью в почетной ложе, по левую руку Деметрия, Гиероним жадно озирается. Он счастливец, нужно признать, ибо из пишущих историю мало кому удается воочию увидеть, как историю делают…
Ему – удалось.
Он – видит.
Почти вплотную, едва не касаясь друг друга плечами, восседают в булевтерии послы полисов и симмахий, откликнувшихся на зов Полиоркета. Их много. К сожалению, меньше, чем разослано приглашений, но, может быть, это и к лучшему. Откликнись все, пришлось бы устанавливать дополнительные скамьи, загораживая проходы к возвышению для ораторов.
Кого здесь только нет?!
А собственно, кого? – прикидывает Гиероним.
В первую очередь, разумеется, спартанцев. Они, как всегда, в стороне. Они сами по себе, всех выше, всех достойнее и ни в ком не нуждаются. Фу-ты ну-ты! Лет двести назад, даже сто, за ними бы ездили специально, просили, убеждали, умоляли хотя бы поприсутствовать! Как же, Спарта! Непобедимая и легендарная, понимаете ли, в боях познавшая радость побед. Ну и? Было и прошло. И развеялось дымом. И слава, и тупое самомнение, и бычья, не умеющая хитрить сила легли под сандалии фиванцев, догадавшихся, что побеждают не только силой, но и умением…
Нет спартанцев, и не надо.
В свое время они не откликнулись и на зов Божественного. Презрели, понимаешь. После чего лет десять кряду трезвонили на всех площадях, что, мол, даже и непобедимый македонец побоялся принуждать их к союзу. Понятно: легче бахвалиться, чем признать, что сын Филиппа попросту забыл о них, отмахнулся, как от надоедливых мух. Между прочим, любому умеющему думать, кроме, ясное дело, самих спартиатов, ясно, кто выиграл, а кто проиграл в этом случае…
Кербер с ними, с сынами Лаконии!
Нет здесь и фиванцев, сокрушивших некогда спартанскую гордыню. Что поделать! Не присылают послов города, которых нет. Фивы, воспетые в мифах, Фивы, породившие мальчика Алкида, прославленного под именем Геракл, Фивы, где правил в давние времена мудрый и несчастный Эдип, срыты с лица земли, перепаханы, и козы пасутся нынче там, где не столь уж давно обучал эфебов искусству жить праведно, а умирать честно незабвенный Эпаминонд. Фивы убили, спокойно и расчетливо, не скрывая педагогических целей, и убийство это было уроком каждому, таящему надежду восстать против союза с Македонией. Очень мало волновал властителей Пеллы тот смешной факт, что фиванцы вовсе не желали этого союза. «Что было подписано, должно исполняться, – сказал рыжий юноша, еще не бывший тогда Божественным, и добавил: – Лучше уж Фивы; разрушения Афин нам не простит история!..» И Фивы были разрушены до основания, а граждане великого и славного города, потомки Кадма, по сей день – неслыханное дело! – томятся, уже в потомстве своем, в рабских ошейниках, ибо под страхом жестокой кары запрещено эллинам выкупать, освобождать, усыновлять фиванцев и даже смягчать их участь…
Итак: нет спартиатов. Нет фиванцев. Кто еще не откликнулся на приглашение сына и соправителя великого Антигона, хозяина Азии и первого претендента на обладание Ойкуменой?
Нет таких.
Разве что совсем уж незначительные городки, затерянные в такой глухомани, куда не вдруг и отышешь дорогу. Эпистаты этих местечек будут рвать на себе остатки волос, получив запоздалые письма с оттиском царского перстня. Да еще немногие полисы Пелопонесса, возглавляемые преданными Кассандру аристократами, до которых пока не дотянулась твердая рука Полиоркета. С этими тоже ясно. Сейчас они, до дрожи перепуганные собственной отвагой, торопливо строчат послания царю Македонии, умоляя поскорее прислать хотя бы сотню гоплитов в подмогу и побольше золота – на случай, если придется бежать куда глаза глядят. И каждый из них в глубине души жутко жалеет, что не решился в столь удобное время почетно и выгодно изменить македонскому покровителю…
Ну и пусть их! Станет ли поднебесный Олимп ниже, если унести из предгорьев десяток-другой камешков?!
Главное достигнуто, как и предполагалось. Пожалуй, вся Эллада, материковая и островная, празднично одевшись, съехалась в Коринф и расселась в амфитеатре булевтерия, и вот – сидит смирно, негромко перешептываясь в ожидании выступления Деметрия…
– Пора? – не оборачиваясь, спросил Полиоркет.
– Думаю, да, – одними губами отозвался Гиероним.
Впрочем, обращались не к нему, а к Зопиру.
– Все в порядке, мой шах… – сообщил перс, в который раз уже оценив напряженные позы нарядных гетайров, тесно оцепивших проходы, и особо задержав взгляд на колышущихся занавесках, прикрывающих галерею. Стража стражей, а десяток ликийских лучников, стреляющих навскидку и никому не видных, еще никогда не оказывался лишним…
– Ну, помогай Зевс!
Прогремели серебряные раскаты длинных азиатских труб, и шуршание амфитеатра мгновенно сошло на нет.
В скрещении сотен взглядов царь Деметрий, сын царя Антигона, по праву прозванный Полиоркетом, освободитель греков и победитель Птолемея, покинув почетную ложу, быстрым шагом спустился по мраморной лесенке и легко вспрыгнул на возвышение для ораторов, расположенное строго в центре булевтерия.
– Хайре! Радуйтесь!
Ярусы откликнулись шквалом рукоплесканий.
– От меня, и отца моего, и от сына моего прошу вас принять сердечную благодарность за то, что сочли возможным не пренебречь моим зовом, оставив наиважнейшие дела!
Снова – гром и рев.
– Эллины! Посланцы великих полисов и высокочтимых симмахий, дети незыблемых гор и гордых островов Архипелага, любимцы богов и наследники героев – к вам обращаюсь я, друзья мои!
Гиероним слушал, прикрыв глаза. Он не раз и не два прочел эту речь, собственно, он и писал ее, и обучал Деметрия правильному произношению периодов, но сейчас даже ему казалось, что оратор, похожий на сошедшего с Олимпа небожителя, говорит, прислушиваясь к подсказке свыше.
– Не тратя лишних слов, приступлю к делу. Однако же полагаю необходимым напомнить вам, что здесь, где ныне собрались мы с вами, заседали некогда ваши отцы, держа совет с царем Македонии Филиппом, и не было никому вреда от принятых в те дни решений!
Собравшиеся напряженно внимали, и лишь по лицам афинских посланцев, по праву занимающих почетные места в первом ярусе, как раз напротив царской ложи, пробежали легкие тени.
Есть вещи, о которых лучше не вспоминать. Но ведь было же! Македонец Филипп, замыслив поход в Азию, требовал от греческих полисов немногого – мира и союза, а Эллада презрительно отмахивалась от предложений того, кого полагала, по старой памяти, вождем варваров. «Автономия!» – вопили кликуши-демагоги, вроде печальной памяти Демосфена. «Автаркия!» – вторили им экклесии на площадях, упиваясь зажигательными антимакедонскими призывами. «Нет – гегемонии варваров!» – голосили надписи на стенах. Надо признать, они погорячились в те неспокойные дни, храбрые и недалекие отцы! Они совсем не сознавали, что старые времена безвозвратно миновали, и плохо понимали, с кем имеют дело! Филипп не отказался от своих предложений, напротив, проявил невиданную настойчивость. В кровавом безумии Херонейской битвы тяжкий удар македонской конницы оказался неотразимым аргументом в пользу соглашения неуступчивых с властителем Пеллы. А после того, как были вразумлены афиняне и фиванцы, что оставалось делать остальным, мнения которых даже не спрашивали?!.
– Разве унизителен был вам, эллины, союз с царем Македонии, разве не был он выгоден для вас?! – патетически воскликнул Деметрий, и Гиероним слегка поморщился. В этом месте стоило бы скорее понизить голос, подбавив доверительности. Досадный недочет; впрочем, всего не предусмотришь…
Ярусы расцветают улыбками.
Вопрос не нуждается в ответе. Точно так же, как Македония не нуждалась в порабощении Эллады. Умный Филипп и не собирался вмешиваться во внутренние дела полисов. Ему были глубоко чужды их дрязги, уходящие корнями в седую древность, когда предки македонцев еще бегали с дубинками по горам, надеясь плотно поужинать филеем того, кто попадется под руку. Филипп нуждался в греческом золоте и греческих гоплитах, не более того. Он не отнимал, он брал в долг, и по счетам отца с лихвой расплатился безумный, но безупречно честный, нужно отдать должное, в финансовых вопросах сынишка, прибравший к рукам казнохранилища персидских столиц. А воины-греки, сходившие в Азию, обогатились на три поколения вперед…
– …и таким образом, союз между полисами Эллады и царем Македонии был взаимовыгоден. Эллины избавились от ненужных распрей и обрели верховного арбитра, способного судить беспристрастно и по справедливости. Эллины получили право и возможность извлекать выгоду из тех земель, что были покорены царским мечом, ибо оказали в этом царю неоценимую помощь. Эллины стали обладателями льгот и привилегий, позволивших полисной ойкономике вздохнуть свободно, как в давно прошедшие времена. Это так, братья?
Братья не отрицают.
Это, безусловно, так.
– Но и Македония не осталась внакладе. Как равная, принятая в эллинское сообщество, она стала равноправным участником большой политики. Она одолела персов и подчинила себе Азию. Она прославила свои знамена от Геллеспонта до Индии, и ныне тот, чьи отцы не знали иной одежды, кроме козьих шкур, щеголяет в тонком полотне. И я хочу спросить вас, братья, почему Македония оказалась клятвопреступницей?!
Шумный, глубокий вздох прокатился по амфитеатру, вздох настороженного, потрясенного изумления. Собравшиеся далеко не новички, они ожидали чего-то подобного, но никто не мог предположить, что Деметрий решится называть вещи своими именами. Да и Деметрий ли? Каждому ясно: Полиоркет не произнесет ни одного слова сверх того, что определено Одноглазым.
– И я, по воле моего великого отца… – Деметрий чеканит слова, отделяя одно от другого, как нож ломти хлеба, – от имени его, царя Антигона, от себя самого и от лица своего сына, Антигона-Гоната, вношу предложение: да будет восстановлена на условиях Филиппа Эллинская Лига!
Оторопь на скамьях. Лишь немногие, умеющие соображать быстро, вскакивают было, сияя восторженными глазами. Но их осаживают! На них шикают! Их дергают за полы!
«Тихо! Дайте подумать!» – шипят разумникам соседи.
И впрямь, есть над чем задуматься.