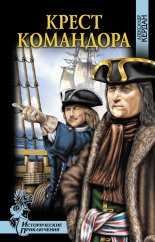Астроном Шехтер Яков
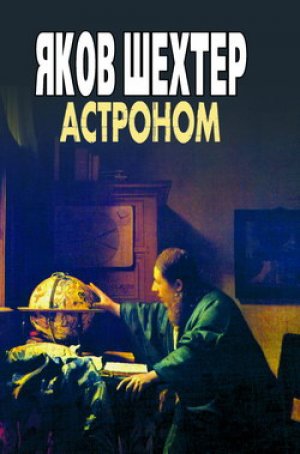
Вскоре его лапки окружал плотный ком перепутавшихся ячеек, вырваться из которых было невозможно. Он понял безнадежность своих попыток и замер, повиснув вниз головой.
Я несколько раз облетел его, выискивая хоть какую-нибудь возможность помочь. Бесполезно. Мой учитель был обречен.
Умирал он несколько дней. Непонятно, откуда взялась в стариковском теле такая живучесть!? Его голова то бессильно свешивалась, то вновь приподнималась, и оранжевые от прилива крови глаза судорожно метались в безуспешных поисках спасения. Иногда, в порывах отчаяния, он неистово трепыхался и сбитые, истерзанные крылья колотили по железу, вновь исторгая протяжный звон.
О, этот звон! Он будил меня по ночам, проникая в самое сердце. Но что, что я мог поделать?!
Страшнее всего были разговоры. Первые несколько часов он молчал, на всякие лады пытаясь освободится. Я тоже молчал, не зная, что сказать. Когда старик обвис, и замер в полном изнеможении, я услышал его голос.
– Небесный Голубь посылает мне испытание, – сказал старик. – Вся моя дальнейшая жизнь зависит от того, как я пройду через него.
Бедняга! Он еще надеялся на спасение….
– А в чем состоит испытание? – спросил я, пытаясь хоть немного отвлечь его внимание.
– Конечно, не в этой сети, – презрительно фыркнул старик, – и даже не в дальнейшей жизни моего тела – старой, усталой оболочки. Настоящее испытание это проверка духа, проверка того, что ты наработал за все отпущенные тебе годы. Если я впаду в отчаяние, наказание окажется великим. Но если выдержу и выйду из этой западни укрепленным, с обновленной верой – награда будет безмерна.
Я не стал возражать. Зачем? К чему волновать умирающего? Он поговорил в таком духе еще минут двадцать и замолк. Замолчал на много часов. Когда я вновь услышал его голос, старик рассуждал уже совсем иначе.
– Наверное, я в чем-то провинился, – произнес он дрожащим голосом. Иначе за что мне ниспослана столь мучительная смерть? Я всегда думал, будто веду безупречный образ жизни. Но кто не ошибается! Скажи, мой ученик, возможно, ты заметил огрехи в моем поведении, проступки, упущения, и молчал, боясь обидеть учителя. Понимаю тебя, хорошо понимаю.… Но время обид прошло, поэтому сейчас ты обязан рассказать все, что обо мне думаешь. Я хочу раскаяться в неправильных поступках, прежде чем придет мой последний час.
Я не стал его огорчать. Честно говоря, кроме некоторого самодовольства и нежелания делиться со мной пищей, его поведение было действительно безупречным.
В последний раз старик заговорил к исходу вторых суток. Он уже давно перестал бить крыльями, тело безжизненно свисало, подобно мокрому белью, и только голова иногда приподнималась на несколько секунд.
– Моя смерть – это жертва, – еле слышно прохрипел он. – Жертва за всех голубей, за всех котов, за всех людей, за весь мир. Я знал, что скоро умру. И ты, мой преемник, знай и ты, что минута, когда к тебе придет ученик, настоящий ученик, будет началом твоего конца. Ты передашь ему то, что получил от меня, добавишь, накопленное тобой и будешь ждать своего часа. Солнце садится, и встает солнце, но в мире не может быть двух солнц. Я ухожу из этого мира счастливым и свободным. Будьте и вы счастливы.
Он замолчал, уронил голову. По телу пробежала последняя, предсмертная судорога. Перья еще вздрагивали, а душа уже отлетела, заклубилась, затрепетала, устремляясь к Небесному Голубю.
Так я стал избранным. С тех пор прошли годы, перья мои выцвели, а знания умножились. В длинные, длинные дни, свободные от забот о пропитании, я без конца размышлял, припоминая слова Учителя, даже те, что казались мне напрасной болтовней. К сожалению, многое я пропустил мимо ушей, и многое позабыл, иначе бы мудрость моя возросла еще больше.
Мои сверстники давно ушли, кто от зубов или когтей, кто под тяжестью жизни. Размножение отнимает много сил, а заботы о пропитании семьи угнетают душу. Я пережил всех, я пережил даже внуков своих товарищей по играм на площадке между домами. У долгой жизни есть свои преимущества, и главное из них – возможность многократно увидеть голубиную судьбу, от первого писка вылупившегося птенца до предсмертного трепетания крыльев. Ничто так не умудряет, как повторение.
Но Голос я так и не услышал. Виноваты ли в том мои духовные качества, или Небесный Голубь просто выдумка, созданная для облегчения тягот птичьего существования – кто знает. Я перестал искать ответ, и раз жизнь возложила на меня определенную ношу, старался нести ее самым достойным образом.
Так же, как мой Учитель, я рассказывал новым старейшинам о Небесном Голубе, так же, как он я внезапно наклонял голову, словно прислушиваясь к лишь одному мне слышному зову, а затем срывался с места и метил, метил, метил тех, кого выбирал. Выбирал сам, повинуясь смутному теплу, шевелящемуся в горле.
И вот, настал день, когда на мою ветку опустился совсем юный голубь и со слезами в голосе принялся жаловаться на судьбу. Он не видел меня, он думал, будто вокруг никого нет, он плакал, не замечая, что его крик и стенания слышны только мне, мне одному, умеющему слышать непроизносимое.
Мой час пришел, но я был не готов, я хотел жить еще и еще, хотел летать, метить достойных, клевать свою пищу, спать на ветке, опираясь на хвост, рассказывать старейшинам об избранных, просто жить, я очень, очень хотел жить – и проснулся.
Я устал, мои дорогие, последний сон измотал меня, пальцы с трудом держащие перо, скрючились, подобно птичьей лапке. Сны все больше и больше напоминают явь, многие часы уходят на то, чтобы вырваться из-под их власти. Сейчас я закончу письмо, брошу его в щель под головой дракона и просто посижу. Просто так, размышлял о том, или о другом. Главное – постараться не заснуть, как можно дольше не заснуть.
До свидания, мои дорогие,
любящий вас – сын.
Глава пятая
ТОНКАЯ ШЛИФОВКА
Брат Полины, Ефрем, несколько раз в году отправлял курганским родственникам посылку. У деда его жены, Оксаны, была заимка прямо на берегу таежного озера. На заимке разводили пчел и коптили рыбу. Ефрем плотно набивал фанерный ящик банками с медом и копчеными тушками, шел на железнодорожный вокзал и за три рубля оставлял его у проводника. Через восемнадцать часов Макс Михайлович забирал посылку, привозил домой и дивный запах «копчушки» еще долго наполнял домик Додсонов.
Мед выдерживал дольше всего. Ароматный, таежный мед, тягучая память о коротком сибирском лете. Его ели с чаем, смакуя по ложечке, дочиста слизывая мельчайшие крупинки с гладкой металлической поверхности.
Поезд из Новосибирска прибывал в Курган ночью, когда троллейбусы и автобусы уже не ходили, и Макс Михайлович топал пешком по темным улицам. Иногда, в виде особой милости, он брал с собой сына. Миша очень любил эти ночные прогулки, скрип снега, далеко разносящийся по пустынным улицам, темные массы домов с редкими освещенными окнами, от которых веяло уютом и теплом. И Луна, серебряная царица его сердца, освобожденная от сотен нескромных глаз, откровенно и радостно улыбалась ему, и только ему.
В этот раз они добрались до вокзала насквозь промерзшие: тянул небольшой ветерок, но при двадцатиградусном морозе он пробирал сквозь любую одежду. Несколько минут ушло на привыкание к свету и теплу. Задубеневшие щеки отходили с легкой болью, из носа слегка текло, глаза сами собой жмурились от ярких ламп.
– Я схожу в справочную, – сказал Макс Михайлович, – подожди меня здесь.
Окошко справочной было прикрыто занавеской. «Сейчас вернусь» значилось на бумажке, прислоненной изнутри к стеклу. Макс Михайлович облокотился на подоконник перед окошком и принялся ждать. Делать все равно было нечего, по расписанию до прибытия поезда оставалось больше получаса.
Оставшись один, Миша некоторое время бродил по залу, разглядывая спящих на скамейках. Спали в двух позах: свесив голову на грудь, либо запрокинув ее назад. У первых изо рта подтекала слюна, у вторых бесстыдно распахивался рот, обнажая пломбы, сломанные зубы, рыже– черные, подобно подтекам на унитазе, наросты камня.
Возле лестницы ведущей вниз, к туалетам, стояло несколько человек. Один, явно пьяный, слегка пошатывался. По его лицу плавала беспричинная улыбка удовольствия, он что-то невнятно бормотал и подмигивал невидимому собеседнику. Двое мужиков в тяжелых грубых пальто курганского пошива слушали третьего. Он оживленно говорил, жестикулируя и раскачиваясь.
Миша сразу узнал его, это был обидчик с пляжа, тот самый, который приказал ему попрыгать, поэтому он начал огибать группу, стараясь оставаться за спиной у обидчика.
Тот внезапно схватил пьяного за воротник пальто, рывком подтянул к началу лестницы и ударом в скулу толкнул вниз. Ноги пьяного понеслись по ступенькам, чудом удерживая равновесие, он отталкивался руками от одной стенки, перелетал к другой и снова отталкивался. За несколько секунд он оказался внизу и со всего маху врезался в дверь, закрывавшую вход в туалеты. Дверь, висевшая на тугой пружине, плавно распахнулась, смягчив удар, и пьяный оказался внутри. Через несколько секунд он вышел, очумело поматывая головой. Глянул вверх и, решив, что внизу безопаснее, снова скрылся за дверью.
– Ты за что его? – недоуменно спросил один из мужиков.
– А просто так! – весело ответил обидчик. – Хотел посмотреть, как он по лестнице кувыркаться будет.
– Ты чо, зверь? – удивился второй мужик.
– Скучные вы, – объяснил обидчик. – Радости от вас никакой. И лица у вас серые, просто люди ночи. А жить – жить надо весело!
Он обернулся и увидел Мишу.
– Козлик! – радостно воскликнул он. – А ты здесь откуда?
Миша не ответил, а повернулся к нему спиной, чтобы идти в другой конец зала. Не успел он сделать два шага, как ощутил на своем плече тяжелую руку обидчика.
– Ты куда это почапал? – спросил он, поворачивая Мишу лицом к себе. – Знакомых не узнаешь?
– Оставь, оставь мальца, – громко сказал первый мужик. – Кончай веселье.
– Кончать, так кончать! – тут же согласился обидчик и, не отпуская Мишиного плеча, протянул вторую руку мужику. – Лады?
– Лады, – согласился тот, вкладывая ладонь в ладонь обидчика.
Их ладони пересеклись в примиряющем рукопожатии, но вдруг мужик скривился и слегка присел.
– Ты чо, гад, делаешь! – тихонько заскулил он. – Кости поломать хочешь? Отпусти немедленно!
– А ты не суй свой нос, куда не надо, – угрожающе произнес обидчик. – Стоял себе и стой. Уразумел, чмо?
Он сильнее сжал руку и мужик, взвизгнув, присел еще ниже. Воспользовавшись паузой Миша обернулся в сторону справочной, где ни о чем не подозревая, читал газету его отец и крикнул:
– Папа, папа!
Макс Михайлович поднял голову, быстро сунул газету в карман пальто и двинулся в Мише.
Обидчик, увидев Макса Михайловича, как будто обрадовался. Он выпустил из ладони руку мужика, толчком отбросил его в сторону, и, не отпуская Мишу, замахал свободной рукой:
– Посюдова, посюдова ходи! Козлика папа, козел настоящий!
Макс Михайлович подошел почти вплотную. Лицо его не выражало ничего хорошего. Не доходя двух-трех шагов до Миши он вдруг встал, словно вкопанный, резко переменился в лице и подчеркнуто вежливо произнес, глядя за плечо обидчика:
– Никаких проблем, товарищ милиционер! Все нормально.
Обидчик повернул голову, и Макс Михайлович, словно играючи, ткнул его собранными щепотью пальцами в солнечное сплетение. Обидчик охнул, обмяк, и, выпустив Мишу, схватился обеими руками за живот. Его лицо бледнело на глазах, ноги подкашивались, он с трудом удерживал равновесие.
– Еще раз, – спокойным голосом произнес Макс Михайлович, – еще раз ты подойдешь к моему сыну ближе, чем на два метра, я займусь тобой по настоящему. Курган город маленький, я тебя быстро отыщу, как бы ни прятался. Понял, козлик?
Обидчик кивнул головой и громко рыгнул. Его мутило, кадык ходил вверх и вниз, удерживая рвущуюся из горла рвоту.
– Пошел на улицу, – приказал Макс Михайлович, – нечего пол пачкать.
Обидчик молча двинулся к выходу. Мужики последовали за ним. Судя по их лицам, они намеревались продолжить разговор.
– Пойдем, присядем, – сказал Макс Михайлович. – Поезд опаздывает на три часа. Домой идти бессмысленно, будем дожидаться здесь.
Несколько минут они бродили по залу в поисках свободной скамейки, отыскали ее в самом конце, и уселись друг возле друга, отец и сын.
– Это твой знакомый? – спросил Макс Михайлович.
– Нет, я его второй раз вижу.
И Миша рассказал историю первой встречи с обидчиком.
– Вот же подонок! Ну, теперь, надеюсь, он больше не полезет.
– Папа, ты где научился так драться? – спросил Миша. – На фронте?
– А где же еще, как не там. Я же тебе рассказывал про разведку.
Миша обожал слушать рассказы отца. Правда, это удовольствие выпадало не часто, но если удавалось его разговорить, то истории сыпались из Макса Михайловича одна за другой. Он называл их эпизодами. Особенно нравились Мише истории из жизни дивизионной разведки, в которую отец попал сразу после возвращения из госпиталя. Но одно дело слушать рассказы о захвате «языков» и про рукопашные бои, и совсем другое видеть своими глазами, как это делается.
– Папа, расскажи эпизод.
– Ну…. – Макс Михайлович потянулся и откинулся на спинку скамейки. – Может, лучше поспим?
– Нет, эпизод!
– Ладно.
Он задумался на несколько минут.
– Знаешь, этот негодяй и его беспричинная жестокость напомнили эпизод, случившийся со мной зимою 1943 года. Служил я тогда в дивизионной разведке, был на отличном счету, к наградам представлен и милостью командиров не обижен. Задания наши были несложные: пробраться незаметно в тыл противника, подкараулить кого постарше званием, захватить и переволочь через линию фронта. Тут требовались терпение и выносливость, иногда приходилось сутками лежать в снегу, отогреваясь водкой и шоколадом.
Про умение драться, стрелять, выносливость и ловкость я не говорю, в разведку брали только тех, кто качествами этими был оделен в полной мере. Да и упражнялись мы постоянно. Рейд в немецкий тыл длился несколько часов, иногда дней, а тренировались неделями. Бросали нож с большого расстояния, стреляли на бегу и в падении, без конца отрабатывали приемы рукопашной схватки. Жизнь у нас была сытная и вольная, командовал нами лично командир дивизии, а больше мы никому не подчинялись. Ну, кроме, командира группы – нашего непосредственного начальника.
Отношения в группе были самые задушевные, на звания никто не смотрел. Ведь завтра вместе линию фронта переходить, а там субординация не поможет, там надо понимать друг друга с полуслова, полунамека.
Ну вот, вызвал меня однажды командир группы, майор Марлов, и говорит:
– Макс, генерал поручил нам любопытное дело. Я знаю, что оно тебя заинтересует. Но есть тут небольшая загвоздка, и без твоего согласия я не хочу отряжать тебя на это задание.
– В чем же загвоздка? – спрашиваю.
– А вот в чем, – отвечает Марлов. – Задание выполнять нужно в глубоком тылу врага, в течение длительного времени. Легендой и документами соответствующими тебя снабдят, но ты сам знаешь, какая участь ожидает представителей твоего народа, ежели случится им к немцам угодить. Тут не помогут никакие документы. Попадешь в плен, – он указал рукой на мою ширинку, – быстро выяснят, кто ты такой и… знаешь ведь, как поступают с вашим братом. В общем, тебе решать.
– А что тут решать, – говорю. – Коли надо, так надо.
– Тогда слушай. В самой глубине Любанских лесов обнаружилась зона, свободная от немецкой оккупации. Несколько деревушек, около тысячи человек. Советская власть там, рассказывают, как до войны: красный флаг над сельсоветом, портреты вождей, даже демонстрация на октябрьские праздники была. Немцы туда соваться не рискуют, командует этой зоной некий полковник Куртц. В списках Красной армии такой не значится, видимо, самозванец, но власть он держит крепко. Судя по слухам – жесткой рукой, чересчур жесткой. Говорят, будто он колдун и сила у него немереная.
– Колдун? – удивляюсь.
– Немцы так говорят, оттого и не суются. «Языки» рассказывали, будто он властвует над силами тьмы. Боятся его панически и наши, и немцы. В общем, странная история. Мы посылали к нему представителя, капитана Болдина, но он не вернулся. Надо пробраться в эту зону и выяснить все хорошенько.
Я, конечно же, согласился. История действительно выглядела странной, и было в этой странности нечто манящее, загадочное. Про опасность тогда как-то не думалось: смерть ходила возле меня каждый день, я привык к ее присутствию и перестал о ней думать.
Несколько дней ушло на изучение карт и легенды. Мне показали фотографию Болдина, познакомили с его личным делом, я выучил наизусть названия всех поселков, входящих в «зону Куртца». Инструкции, полученные мною, были таковы: я должен вступить в контакт с Куртцем и передать ему указания центра, а в случае отказа сотрудничать – устранить его, принять командование зоной и обеспечить посадку самолета с Большой земли.
Задание меня не пугало, в те годы я вообще ничего не боялся. Страх – удел знающих, я же действовал, словно автомат: бегал, стрелял, сидел в засаде. В моей голове будто включился механизм защиты: все, что мешало выживанию, отошло на второй план. Я помнил о родителях, о твоей маме, о прошлой, довоенной жизни, но все это словно скрывалось за тюлевым занавесом, сквозь который можно было разглядеть только внешние очертания предметов.
Приземлился я очень удачно, прямо в центре большой поляны, закопал парашют поглубже в снег, сориентировался по компасу и двинулся в путь. Ходьба по ночному лесу – занятие не из самых приятных, а до рассвета оставалось совсем немного, поэтому я отыскал пенек поудобнее, счистил снег и присел, дожидаться восхода солнца.
От нечего делать я стал озираться по сторонам, темнота в лесу не беспроглядная, контуры деревьев можно рассмотреть. Очень скоро мое внимание привлек темный предмет, покачивавшийся среди веток сосны. Поначалу я решил, что это обломанная ветвь, застрявшая в кроне, но постепенно страшное подозрение закралось в мою голову. Не в силах дождаться рассвета, я подошел поближе и направил на предмет узкий лучик фонарика. Б-же мой! Мои подозрения подтвердились. На дереве висел повешенный.
Судя по остаткам формы, это был немец. Его тело было жутко изуродовано, клочья замерзшего мяса свисали со всех сторон. Я надеялся, что это случилось уже после смерти, потому что в противном случае муки немца не поддавались бы никакому описанию.
Мне доводилось видеть страдания, и человеческие увечья также были не в новинку, но вид этого немца привел меня в смятение. Я достал компас и ринулся сквозь сугробы, стараясь как можно быстрее уйти подальше от трупа. Его лицо, искаженное гримасой боли, с выкаченными глазами и замерзшей кровавой пеной вокруг рта стояло перед моими глазами.
Я шел, не останавливаясь, около часа. Начало светать и при первых проблесках зари я обнаружил еще одного повешенного. На сей раз им оказался крестьянин, с длинной бородой и стоявшим дыбом венчиком седых волос. На вид ему было лет тридцать, осмотрев издалека труп, я пришел к выводу, что крестьянин поседел от перенесенных перед смертью страданий. Его просто рвали на куски, выдирая чем-то острым клочья мяса. Схожесть двух трупов наводила на мысль, что тут действовала одна рука. Разные предположения закружились в моей голове, но я отодвинул их в сторону, решив не делать пока никаких выводов.
На третий труп я наткнулся спустя десять минут. Это была женщина, повешенная за крюк, воткнутый под ребра. Перед казнью с нее содрали одежду, а уже на крюке – кожу. Пласты кожи, словно тряпки, свисали вниз, почти касаясь снега. Нижний край уже погрызли лесные звери, задубевшее от холода розовое мясо с синими прожилками покрывал снег. На груди у женщины висела табличка: «она давала немцу».
Меня едва не вывернуло наизнанку. Несколько минут я стоял, подавляя рвотные позывы, а затем двинулся дальше. Подойти к трупу я не мог. Впрочем, и к предыдущим я не рисковал подступить на близкое расстояние, и, как выяснилось впоследствии, мои подозрения оказались не напрасными.
Вокруг каждого трупа были установлены два ряда растяжек: граната с тонкой проволокой, привязанной к чеке. Проволока и гранаты скрывались в снегу, и зацепиться за них ничего не стоило. Любопытных, желающих рассмотреть подробности, ожидала неминуемая смерть.
Слухи о жестких мерах, с помощью которых Куртц поддерживал в своей зоне порядок и дисциплину, полностью подтвердились. Вернее, действительность оказалось куда страшнее, чем слухи. Нельзя сказать, что увиденное повергло меня в смятение, но мысли мои путались, и план предполагаемых действий, выработанный за линией фронта, казался теперь мало соответствующим реальности. С человеком, способным допустить подобного рода жестокости, надо разговаривать совсем в ином тоне и с других позиций. Однако выбора не было, и я двинулся дальше, уповая на то, что удача, до сих пор оберегавшая меня, и на сей раз не отступится от своего подопечного.
Деревья начали редеть, судя по всему, я приближался к опушке. Обрадованный, я ускорил шаги, как вдруг из-за спины раздался окрик:
– Стой! Руки вверх!
Черт побери! Потрясенный увиденным, я перестал следить за лесом и проскочил дозорного. Такие ошибки часто оказываются последними. Непростительная оплошность для дивизионного разведчика!
– Руки! – снова крикнул дозорный, – кому сказано, руки вверх!
Я повиновался. Честно говоря, подстрелить эту птичку не составляло никакого труда: половина наших упражнений состояла из отработки такого рода ситуаций. Я мог стрелять в прыжке, в падении, на голос, не оборачиваясь назад. Но планы мои были совсем другого свойства, и поэтому я покорно поднял руки, и повернулся.
Передо мной, весь засыпанный снегом, стоял парень лет двадцати, в полушубке, валенках и ватных штанах. Как видно он лежал в сугробе или сидел в яме, поэтому я его не заметил.
– Кто такой? – грозно спросил он, покачивая трофейным «шмайсером».
– Старший лейтенант Быков, – сказал я. – Выброшен ночью с парашютом. Мне нужен полковник Куртц.
– Покажь документ, – потребовал дозорный.
– Послушай, парень, – сказал я, стараясь говорить как можно мягче. – Ты ведь тут, наверное, давно лежишь, а «шмайсер» на морозе заклинивает. Если я, вместо документа, вытащу из-за пазухи пистолет, ты моргнуть не успеешь, не то, что затвор передернуть.
– Иди ты! – недоверчиво произнес парень и, подняв дуло кверху, нажал на курок. Выстрела не последовало.
– И точно, – он передернул затвор и снова направил на меня автомат. – Бросай пистолет!
– Кончай дурить, – сказал я. – Ты разве не видишь, что я не немец и не полицай. Если бы я хотел тебя убить, ты бы уже давно в снегу валялся. Веди меня к Куртцу.
– Так он тебя и заждался, Куртц! Поперва командир дозора с тобой разберется. Пошли.
– А куда идти-то?
– Иди прямо, опушку не видишь что-ли?
Через пять минут я остановился.
– Не могу идти с поднятыми руками.
Парень не ответил. Я опустил руки.
– Вверх, верх руки, сука! – заорал вдруг он, покачивая стволом.
– Дружок, – сказал я, – руки у меня в варежках. Пока я их сниму, да пока пистолет вытащу, да на тебя наведу, ты пять раз выстрелить успеешь.
Он недоверчиво покачал головой, но принял мой ответ. Мы двинулись дальше. Я шел и улыбался. В моей правой варежке лежал крошечный браунинг, и я мог застрелить дозорного, не обнажая руки. Кроме того, в специальной подстежке рукава ждал своего часа нож с тяжелой сбалансированной рукояткой. Таким ножом я шутя пробивал каску с десяти шагов.
Лес закончился, мы вышли на заснеженное поле. Прямо перед нами курились дымки над крышами небольшой деревеньки. От нас ее отделяла полоска замерзшей речушки с переброшенным ветхим мостом. Мой конвоир жестом указал мне на него. Подойдя ближе я вздрогнул: к перилам моста были прибиты тонкие шесты с нанизанными на них человеческими головами. У некоторых голов глаза были открыты, у других они просто отсутствовали; вырвали их во время пытки, или птицы уже успели сделать свое дело, кто знает.
– Боисси? – хмыкнул парень. – И правильно боисси. Если начнешь врать или запираться, быстро окажешься на шесте. Или на дереве. Видал, поди, когда по лесу шарашился?
– Видел, – коротко ответил я.
– Ты вот что, – продолжил парень. – Руки-то подними. А то мне за доброе к тебе отношение разнос учинят.
Я поднял руки. Мы перешли мост и, спустя несколько минут, оказались на улице деревеньки. Конвоир подвел меня к одному из домов, поставил лицом к стене и постучал в дверь
– Пленного привел, – сообщил он в открывшуюся дверь. – По лесу ходил, Куртца требует.
– Щас разбужу командира, – буркнули из сеней. – Будет ему Куртц на всю ивановскую.
Минут через двадцать на крыльцо вышел заспанный человек в полушубке, накинутом на военную форму. Видно было, что он спал не раздеваясь. Окинув меня беглым взглядом, он приказал:
– В избу.
Мы вошли. Меня крепко схватили под руки, обыскали, вытащили оружие, документы, несколько плиток шоколада и положили на стол рядом с дымящейся кружкой чая. Капитан Болдин – его я узнал сразу, как только он вышел на крыльцо, кивком головы отпустил своих людей и жестом пригласил сесть.
– Откуда вы?
Я назвал номер части, имя командира, номер полевой почты. Болдину они были прекрасно известны. Ведь его самого посылали в тыл те же самые люди. Он пристально посмотрел на меня и спросил:
– Узнали?
Отрицать не было смысла.
– Узнал.
– Я доложу о вас Куртцу. Но хочу предупредить – это необычный человек. Он видит всех насквозь. Рекомендую, не играйте с ним в кошки-мышки. Выкладывайте дело, как есть. Это может спасти вашу жизнь.
– А разве она в опасности? – удивился я.
Болдин усмехнулся.
– Вы что, не видели приветственные плакаты? Если Куртц решит, что вы врете, он передаст вас опричникам. И тогда я советую сразу принять яд, если он у вас есть.
Яд у меня был, и Болдин прекрасно об этом знал. Поэтому я решил использовать заранее припасенный козырь.
– Николай Семенович, у меня в шапке зашито очень важное письмо. Позвольте его достать.
– Дайте мне шапку, – сказал он, – я сам достану.
На это я и рассчитывал. Спустя минуту шапка оказалась в руках у Болдина. Он быстро прощупал ее, обнаружил письмо, подрезал подкладку, вытащил, открыл и замер.
Письмо было от жены Болдина. Отчаянное, умоляющее письмо. Не отозваться на него мог только камень. И Болдин отозвался.
– Чего вы хотите? – спросил, подняв на меня глаза, полные слез. – Зачем вас сюда прислали?
– За тем же, что и вас, Николай Семенович.
– Это невозможно. Тут, в глуши белорусских лесов, рождается новая вера. Верующие назовут Куртца Мессией или Антихристом, коммунисты вторым Лениным, но этот человек пришел изменить лицо мира.
– Чем он так вас убедил, Николай Семенович?
– Говорю вам, этот человек расширил мое сознание! – воскликнул он и широко раскинул руки, глядя на меня своими круглыми голубыми глазками. – Я его слуга, его раб, его ученик. Я пойду туда, куда он скажет, сделаю то, что он велит. Зачем, – он взмахнул письмом, – зачем вы мучаете меня этим?
– Николай Семенович, – попробовал я зайти с другого бока, – мне ведь тоже интересен Куртц. И не только по заданию! Столько о нем слышал толков и пересудов, а поговорить с нормальным здравым человеком, знающим его не понаслышке, так и не довелось. Расскажите о нем, Николай Семенович!
Он опустил голову, взял в руки кружку, и несколько минут держал ее словно согревая ладони. Потом отхлебнул и посмотрел на меня. Глаза его стали сухими, а лицо строгим, как видно ему удалось овладеть собой.
– Зачем вам мои слова. Они только бледная копия, по сравнению с оригиналом. Я направлю вас к полковнику.
– Спасибо, я буду рад с ним поговорить.
– С Куртцем не говорят, Куртца слушают. Еще раз рекомендую – не обманывайте. Ничего кроме правды. Куртц не любит, когда его пытаются обмануть.
– Да, вы уже предупреждали меня об этом, и я постараюсь следовать вашему совету. И последний вопрос, Николай Семенович: кто такие опричники.
– Опричники, – Болдин усмехнулся. – Я вам желаю видеть их только на расстоянии. Это цепные псы Куртца, ближайшая охрана. Человек тридцать готовых на все головорезов. Дезертиры, окруженцы, бывшие полицаи. Терять им нечего, будущего без Куртца у них нет. Ни по эту, ни по другую сторону от линии фронта.
Меня отвели в сарай и заперли дверь. За тонкой стенкой поскрипывали шаги часового. Я быстро замерз и принялся ходить взад и вперед, лавируя между вязанками соломы и штабелями поленьев. Спустя час или полтора, часы у меня отобрали, поэтому время я мог определить только примерно, послышалось фырканье лошади, скрип полозьев и громкие голоса. Дверь сарая распахнулась: на пороге стоял здоровенный детина в меховой шапке набекрень. В одной руке он держал «шмайсер», а в другой моток веревки с петлей на конце. Страх сжал мое сердце.
– Этот что-ли? – крикнул детина, оборотясь к часовому.
– Этот.
– Давай, паря, выходи на суд, – сказал он, поворачиваясь ко мне. По его лицу блуждала глумливая улыбка, я вспомнил предупреждение Болдина и пожелал, чтобы его пожелание исполнилось.
Меня вывели из сарая, крепко связали руки за спиной, посадили в сани и повезли. Дорога углублялась в лес все глубже и глубже, и вскоре мы оказались посреди чащи. В санях вместе со мной сидели еще три опричника. Они непрерывно курили, запах махорки смешивался с тяжелым перегаром, хорошо различимым в чистом морозном воздухе. Сопротивляться было бесполезно, мой нож, по-прежнему упрятанный в потайном кармане, оказался недостижим, да и что бы я поделал с одним ножом против четырех хорошо вооруженных и бесшабашных парней.
Сани остановились посреди поляны. Вокруг не было даже намека на жилье, и цель поездки уже не вызывала сомнений. Но я ошибся. Мы вылезли из саней, перешли через поляну и там, в глубокой ложбине, оказалась целая усадьба с большим домом под высокой соломенной крышей, пристройками, двором, огороженным изгородью.
Мы вошли в дом, мне развязали руки и провели в комнату. У окна, глядя прямо на меня, стоял высокий брюнет с крепкими плечами вразлет и острым взглядом широко расставленных глаз. Глубины они были такой, что, казалось, засмотришься да и улетишь в них, ухнешь в пропасть, заполненную влекущим черным мраком.
На столе горкой лежали мои документы и все отобранные у меня вещи. Даже треугольник письма жены Болдина был там, зажатый между плитками шоколада. В комнате тикали настенные часы, над столом висел портрет Сталина. Для Куртца стояло глубокое кожаное кресло, а перед столом, для посетителей два простых стула.
– Старший лейтенант Быков, – насмешливо произнес Куртц. – Хорошо, что не Иванов. У вас на лице просто написано – Рабинович или Шмуклер. Какая ваша настоящая фамилия?
– Додсон. Старший лейтенант Макс Додсон.
– А отчество.
– Моисеевич.
– Раздевайтесь, Макс Моисеевич. Присаживайтесь к столу, будем чай пить. Вы, наверное, устали с дороги.
Я медлил, не зная, как отреагировать на слова Куртца.
– Послушайте, Макс Моисеевич, – усмехнулся он, – вытаскивайте уже, что там у вас запрятано, нож или пистолет. Убивать меня сейчас нет никакого смысла, мои опричники разорвут вас на части, и задание останется не выполненным. Вам ведь, приказали сначала войти со мной в контакт. Приказали?
Я утвердительно кивнул головой.
– Ваши дивизионные начальники, в великой гордыне своей, почему-то убеждены, что война ведется только на вверенном им участке фронта, и что все решения принимают только они. Им даже в голову не может придти, что существуют глубинные задачи, стратегические цели?
Я достал из потайного карман нож положил его на стол, рядом с документами.
– Петруша, подай самовар! – негромко приказал Куртц.
Ситцевая занавеска, выгораживающая угол комнаты отодвинулась, из-за нее вышел парень с автоматом наперевес, поглядел на меня, потом на Куртца.
– Иди, иди, – сказал тот, усаживаясь в кресло. – Макс Моисеевич разумный, интеллигентный человек, и только что доказал это. Да, завтрак для гостя принеси, его ведь покормить наверняка забыли.
Я сел на стул. Куртц улыбнулся мне, и спросил.
– Вас послали убить меня, Макс Моисеевич?
– Да.
– Бессмысленная жестокость! Кровь нужно проливать со смыслом. Смерть должна внушать страх, воспитывать, оптимизировать ситуацию. Устранение меня деструктивно, а потому нерационально. Все происходит из-за того, что штабные работники не в силах проанализировать ситуацию и понять, как она может развиваться дальше. Из-за этого они послали на смерть капитана Болдина, а теперь вас. Вам не кажется обидным умирать из-за нерасторопности штабистов?
Я пожал плечами:
– Разве нас спрашивают? Дают задание, указывают сроки. Вы ведь тоже военный человек, разве вам не случалось посылать солдат на верную гибель?
Куртц улыбнулся.
– Под Сталинградом мне довелось работать с маршалом Жуковым. Я не раз слышал, как он говорил: русский солдат – это жопа. С какой стороны его поверни, кругом выходит жопа.
А я скажу больше…
Дверь распахнулась. Вошел Петруша, неся на вытянутых руках самовар. Поставив его на стол, он быстро вышел, а, вернувшись, принес котелок с кашей, две кружки и полбуханки хлеба.
– Прошу, Макс Моисеевич, – Куртц указал на котелок. – Шоколад вкусная и полезная еда, но по мне нет ничего лучше каши с мясом. Вы налегайте, а я пока чаю выпью.
Честно говоря, я изрядно проголодался и с большим удовольствием принялся за еду. Куртц налил чаю, сделал несколько глотков и продолжил.
– Так вот, я скажу больше, русский человек по своему характеру – сплошная жопа. В том смысле, что понимает только язык битья, и чем больше этого битья к жопе приложить, тем больше она страшится, уважает и восхищается. За примерами далеко ходить не нужно. Петр Первый залил Россию кровью, на дыбу ее вздернул, хребет на чужой лад своротил, и что? Великим называют, почитают и превозносят! Александр Первый от французов родину спас, пол-Европы прошел, российский флаг в центре Парижа водрузил, а кто о нем помнит? Потому что реформами увлекался, жопу не розгами, а березовым веничком учить пробовал. А внук его, Александр, блаженной памяти, Второй? Отменил крепостное право! В Америке еще рабство было, а этот просвещенный монарх вольную народу дал. И какова благодарность жопы? Взорвали его, вместо благодарности.
– Такие рассуждения звучат несколько странно в устах человека с нерусской фамилией, – осторожно заметил я.
– Отлично! – Куртц усмехнулся. – Это уже похоже на возражение. Я, признаться, успел позабыть в этой глуши, что такое спор. Однако ваш аргумент несостоятелен; Россия всегда жила чужим умом, вернее, доверяла иностранным специалистам больше, чем себе самой. Сначала призвали варягов, управлять телом, затем греков, править душой. Петр положил Россию под голландцев, Анна и Елизавета под немцев. Знать российская – языка своего стеснялась, говорила только по-французски, на родном языке стыдно было. И новая Россия по тому же пути пошла – навезли инспецов, чтобы уму-разуму обучили. Я уж не говорю про коммунистическое учение, нашу новую веру, и она привозная, нерусских корней.
Что же до моей фамилии, то вы, Макс Моисеевич, не обращайте на нее внимание. Это псевдоним, партийная кличка. Настоящее мое имя куда благозвучнее для русского слуха. А это я выбрал по имени любимого персонажа. Как у вас обстоят дела с иностранной литературой, вы вообще читать любите?
– Не очень, – честно признался я.
– Оно и видно. Ну, да ничего, в нынешних условиях умение стрелять и бросать нож более полезно, чем знакомство с зарубежной классикой.
Я закончил кашу и отставил котелок в сторону. Куртц тут же пододвинул мне кружку, отломил полплитки шоколада.
– Ешьте, ешьте, Макс Моисеевич.
Он отпил еще несколько глотков, достал из кармана пачку «Казбека», закурил, вкусно затянувшись дымом.
– Нынешней государь, Иосиф Первый, не русский по крови, поэтому понимает, как с жопой обращаться, и как храбрость, и отвагу в сердце славянское влить можно. Вот он-то Россию и спасет. Спасет и выведет, помяните мое слово. Его долго еще почитать будут, почитать, любить и славословить.