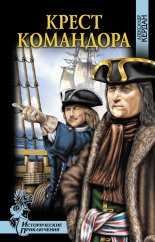Астроном Шехтер Яков
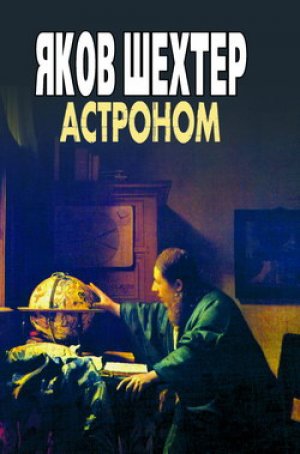
Ну, да ладно, вернемся к нашим баранам. Вот вы, офицер Красной Армии, посланы со спецзаданием в тыл врага. Но враг оказался хитрее, чем предполагали в штабе. Перед вами два выхода: умереть с честью, то есть, храня верность недалекому штабисту, или служить мне. Звучит менее благородно, чем красивая смерть, но зато не так больно и открывает разные перспективы. Главное это жить. А там видно будет. Не так ли, Макс Моисеевич?
Я молчал, не зная, что ответить. Рассуждения Куртца были занимательны и несколько неожиданны, но нарушить воинский долг, за минуту сменить кожу я не мог. Молчание длилось несколько минут. Нарушил его Куртц.
– Вы мне нравитесь, Макс Моисеевич. Выбор не прост, совсем не прост и ваши колебания свидетельствуют, что понятие долга и чести вам не чужды. Хорошо, я облегчу задачу. Вы не переходите ко мне на службу, вы остаетесь моим пленным и даете слово, что не будете пытаться вредить мне. Я поселю вас при штабе, в доме, где мы сейчас находимся, и изредка буду поручать мелкие задания. У вас будет достаточно времени посмотреть, взвесить и принять решение. Согласны?
– Согласен, – сказал я.
Выбора, на самом деле у меня не было. За необъяснимой милостью Куртца, несомненно, скрывался некий, пока недоступный моему пониманию, замысел. Потому я согласился и перешел на привилегированное положение личного пленника командира.
Поселили меня в небольшой комнатке при штабе и дел действительно никаких не поручали. Иногда лишь Куртц приносил мне неисправные пистолеты, револьверы и другое стрелковое оружие с просьбой наладить и починить по мере возможности. Я неплохо разбирался в этих вещах, но попросил небольшие тисочки, напильники, сверла и прочий слесарный инструмент. Через несколько дней мне доставили все необходимое для ремонтных работ, и я принялся за дело. Смазывал, налаживал, чинил, а что невозможно было исправить, разбирал на части и хранил для будущих починок.
За три месяца, которые я провел у Куртца, комнатка превратилась в небольшую мастерскую. Куртц, похоже, был очень доволен моей деятельностью. Иногда он заходил ко мне, курил, высказывался по разным предметам, изрекая глубокомысленные фразы типа: тьма пришла с запада, и тьма стоит на востоке, а мы посередине, в сердце тьмы, и разогнать ее может только луч солнца, если сумеет пробиться сквозь лунное сияние.
Я никогда с ним не спорил, и не задавал вопросов: выслушивал его монологи с величайшим почтением, и только головой кивал, мол, все понимаю и согласен.
Кроме одного случая, о котором я расскажу позже, в его поведении и образе жизни не было ничего вызывающего удивление. Слухи о колдовских чарах Куртца оказались сущей ерундой, просто он был жестоким и умным, умел запугать и, играя на суевериях, держал в подчинении целый район.
Один раз он попросил меня попрактиковать его опричников в метании ножа. Собрали человек десять, привели в сарай, раздали ножи. А душа моя к этому делу совсем не лежала, одно дело пистолеты поправлять, да ружья налаживать, и совсем другое своими руками этих бандитов убийству обучать.
Стал я им рассказывать да объяснять, но главное, секрета мастерства, не показывал. Нож должен быть сбалансирован определенным образом так, чтобы в полете сам собой разворачивался острием вперед. Штука эта нехитрая, нужно определенным образом утяжелить ручку плюс еще несколько маленьких секретов. Ничего этого я говорить не стал, а обучал их метанию самых обыкновенных ножей. Рука у меня была натренированная, поэтому даже самый простецкий нож я ухитрялся всаживать в доску почти до рукоятки, а вот у опричников ничего не получалось. Покидали мы ножи дня два, а потом я говорю Куртцу: ничего из тех ребят не выйдет, неумелые мол, нерасторопные. В разведку, поясняю, одного из нескольких сотен выбирали, а тут собрали, кого ни попадя.
Он посмотрел на меня с подозрением, но ничего не сказал и велел вернуться в мою комнатку. Но занятия с опричниками на этом прекратились, и больше он меня ни о чем таком не просил.
Честно говоря, было там пару ухватистых парней, которых я бы за недельку другую мог многому обучить, но душа, как я тебе говорил, к тому не лежала.
Макс Михайлович поднялся со скамейки.
– Пойду в справочную, узнаю, как там дела с нашим поездом.
Миша, как зачарованный глядел ему вслед. Такого эпизода он еще не слышал. Медлительность отца, его размеренная, неспешная манера говорить и действовать, предстали перед ним в совсем ином свете: теперь они свидетельствовали о скрытой силе, о пружине, сжатой в тугой клубок и сдерживаемой одним только усилием воли.
Макс Михайлович вернулся, и со вздохом уселся возле сына:
– Не наверстывает, такое же опоздание. Осталось полтора часа. Может, все-таки поспишь?
– Нет-нет, – Миша замотал головой. – Рассказывай дальше, очень интересно.
– Ну вот, был среди них один ловкий парнишка, по фамилии Бурмин. Его все называли Бурмилой, наверное, потому, что в борьбе он, не смотря на средний рост и ничем не примечательную внешность, вел себя как медведь. Хватал противника, отрывал от земли и отбрасывал далеко в сторону. Вот этот самый Бурмила с ножом обращался довольно приемисто, задатки у него были хорошие, но не нравились мне его глаза, плутоватые и бегающие. И самогонку он крепко любил, впрочем, ее все там любили, дел-то никаких у опричников и не было. Выйдут иногда на рейд, или в деревню за пределами зоны пройдутся, а остальное время пьянствуют да спят.
Бурмила ко мне всяко подкатывался, научи, да научи ножом владеть, даже после того, как Куртц наши занятия прекратил, заглядывал в комнатку, сало приносил, самогонку, приглашал выпить. Я отказывался; не люблю опьянение, дурно, тяжело дышать, давит.… А уж про похмелье и говорить нечего, пили ведь там наигрубейший самогон, от одного запаха которого меня на рвоту тянуло.
Парень он был смышленый, сообразил, что простым ножом работать неудобно, и притащил мне свой, стал выпытывать, как его правильно уравновесить. Я опять отделался самыми общими пояснениями, сказал, что этим занимаются специальные мастера, которые не разглашают своих секретов. Но Бурмила не успокоился и врезал в ручку два свинцовых кольца. Нож стал ходить лучше, но, несмотря на усовершенствование, ему было еще далеко до настоящего боевого оружия.
Бурмила понимал, что я не все рассказываю, и продолжал нудить, расспрашивать. Пришлось дать ему отворот в достаточно категоричной форме и он, как потом выяснилось, затаил обиду и носил ее в себе, пока не представился удобный случай отомстить. Мне то он сделать ничего не мог, я бы его голыми руками задавил, точно собачонку, и Бурмила отыгрался на Конраде, которого считал моим приятелем.
Конрадом звали ординарца Куртца, его парикмахера, повара, денщика. Все, что относилось к личной, бытовой жизни полковника, лежало на плечах Конрада. Он был польским коммунистом из Варшавы; когда немцы вошли в столицу, Конрад бежал к русским, перешел границу и немного помаялся в Гродно, пока случайно не встретил на улице комиссара расквартированной в Гродно дивизии, с которым встречался в тридцатые годы на конгрессе Коминтерна. Тогда комиссар занимал высокий пост в партийном аппарате, но во время чисток потерял все и теперь рад был даже такой скромной должности. Человеком он оказался порядочным, не стал притворяться, будто не узнает Конрада, а поручился за него перед соответствующими инстанциями. Благодаря этому поручительству Конрада приняли парикмахером в Дом офицеров, где он и проработал до июня сорок первого года.
Вместе со штабной колонной Конрад бежал из горящего под немецкими бомбами Гродно, но по дороге был ранен, несколько месяцев отлеживался в сеновале на отдаленном хуторе, а потом, чтобы не подвергать опасности приютивших его крестьян, стал пробираться на восток. Шел по ночам, на одном из переходов столкнулся с группой окруженцев и вместе с ней провел первую зиму в лесу. Группа потихоньку превратилась в партизанский отряд, который со временем влился в зону Куртца. Узнав, что в отряде есть варшавский парикмахер, Куртц приблизил его к себе, и превратил в ординарца.
В цирюльном деле Конрад знал толк: его бритва никогда не царапала, а компрессы и примочки поддерживали кожу полковника мягкой и эластичной. Куртц вообще отличался чрезвычайной педантичностью в одежде: гимнастерка и галифе всегда были безупречно выглажены, а яловые сапоги сияли в любую погоду. Когда только он успевал наводить на них глянец, никто не понимал. Случалось, что Куртц сутками не вылезал из саней, объезжая посты и дозоры, но возвращался неизменно свежий, с улыбкой на губах и неизменным блеском расчищенных сапог.
Статью Конрад удивительно походил на Бурмилу: оба невысокого роста блондины с походкой чуть в раскорячку, словно у матросов. Иногда, когда он входил ко мне в комнату, и я не успевал сразу разглядеть лицо за поднятым воротником полушубка и низко надвинутой шапкой, то не мог сообразить, что за гость ко мне пожаловал. Это сходство сыграло в судьбе Конрада роковую роль.
Он был милым, добродушным человеком, коммунистическое прошлое теперь представлялось ему чем-то странным и чужим. О варшавской жизни он вспоминал с грустью и сожалением:
– И чего мне не хватало? – говаривал он, присаживаясь возле меня на лавку и сворачивая толстенную папиросу. – Как красиво мы жили, сколько было магазинов, полных всякой еды, по вечерам в парках играли оркестры, красивые паненки ходили по улицам.
Из Любанских лесов жизнь выглядела несколько по иному, чем из районов варшавской бедноты. Конрад вырос на границе еврейского квартала, в детстве играл и дрался с еврейскими мальчишками и неплохо знал идиш. Мы иногда разговаривали на этом языке, он посмеивался над моим произношением, а я был рад возможности вспомнить своих родителей и детство, которое из Любанских лесов тоже представлялось лучезарным и беззаботным.
Я расспрашивал Конрада о Куртце, но кроме бытовых привычек он почти ничего не мог добавить к тому, что я и так успел разузнать. Кроме, пожалуй, одной детали.
Раз в две недели Куртц приказывал запрягать сани, сажал Конрада на облучок и ехал к заброшенной мельнице. Такая поездка, без охраны, представляла собой ощутимую опасность. Не только со стороны немцев; мельница располагалась за пределами зоны, но и со стороны некоторых селян, обиженных Куртцем. Таких было немало, и они запросто могли воспользоваться удобным случаем и отомстить за нанесенные им обиды. Оружия в деревнях было более, чем достаточно, и в ход его пускали без малейшего замешательства.
Так вот, Куртц добирался до старой водяной мельницы на речке Пинчин, оставлял Конрада в санях, брал с собой баклагу с молоком, и что-то искал за водяным колесом. Потом возвращался, с пустой баклагой, приказывал гнать в штаб, уходил к себе в комнату и долго сидел там один, не разрешая никому переступать порога.
Однажды он то ли замешкался, то ли утратил бдительность и Конрад заметил в его руках конверт, похожий на те, в которых перед войной отправляли бандероли. Спрашивать, разумеется, он ничего не стал, но при первом удобном случае наведался к мельнице и поискал в том же месте, где искал Куртц. После недолгих розысков он обнаружил ящик, похожий на почтовый. В нем лежал конверт с надписью: полковнику Куртцу. Перед ящиком стояло пустое корытце со следами замерзшего молока.
Кто отправил эту бандероль и, самое главное, как она попала в ящик, Конрад не знал, а выяснять дальше боялся. Поделившись со мной, он быстро пожалел о том, что проговорился, и взял с меня слово никому и никогда не рассказывать о ящике. Слово я, конечно, дал, но интересоваться продолжил. Увы, кроме этого обрывка информации мне не удалось ничего разузнать, скажу больше, ни в штабе, куда я впоследствии сдал отчет, ни после войны, никто и никогда не слышал о существовании такого рода почтовых сообщений. Теперь мне кажется, что Конрад что-то напутал, но тогда я был убежден в правдивости его слов.
Дружба наша продолжалось недолго, и закончилась трагически. А дело было вот как.
При штабе служило немало женщин, полагаю около пятнадцати или двадцати. Жили они отдельно, кроме двух или трех семейных пар, и всякие шуры-муры были строжайше запрещены. Куртц полагал, и, наверное, вполне справедливо, что дух соперничества, неизбежный при такой значительной разнице между количеством одиноких мужчин и свободных женщин, может привести к ссорам и стычкам. Учитывая буйный характер опричников и разнообразное оружие, бывшее всегда у них под руками, стычки эти вполне могли закончиться перестрелкой и убийствами. Поэтому каждого, кто рисковал приблизиться к женщине и завести с ней разговор не на служебную тему, ждало суровое наказание. Наказания же там были такие, что самые горячие головы моментально остывали.
Радисткой при Куртце служила Любовь Онисимова, ладная девушка из местных. Радиопередатчиков у Куртца было два, он добыл их на складе, оставленном еще при отступлении летом сорок первого года. Тогда планировали развернуть в тылу врага партизанское движение, но всех, знавших месторасположение склада, то ли убили в самом начале оккупации, то ли они сами бежали, куда глаза глядят. Склад так и простоял в глубине лесов, пока его не обнаружил Куртц.
Что он делал с этими радиостанциями, с кем связывался, от кого получал инструкции, я так и не узнал. Но к Любе хотелось подобрать ключик, ведь по плану я должен был передать в каждом из вариантов развития событий определенную цифру на заранее условленной частоте. Пока я присматривался, как это сделать, дела начали приобретать неожиданный поворот.
Конраду было тогда лет за двадцать пять, а Любе Онисимовой шел девятнадцатый год. Они, разумеется, были знакомы, и у них образовалось то, что в таковые годы случается. Однако говорить о своей любви получалось лишь намеками, потому как я уже говорил, шуры-муры Куртц запретил строго-настрого. Но юность заставляет забывать о запретах, а наказания начинают казаться нереальными. Однажды вечером Конрад ввалился ко мне в каморку и сразу перешел на идиш.
– Вот, что я тебе скажу, дорогой мой, – начал он, освобождаясь от тулупа, – нет моих сил терпеть более. И Люба тоже истомилась. Решились мы вот какую вещь сделать: подговорил я председателя одного из сельсоветов в нашей зоне, что приедем мы к нему поздним вечером, и он зарегистрирует наш брак, согласно советскому закону. А потом явимся к полковнику, объясним все, как есть и доверимся его милости. Он ко мне хорошо относится, даст Бог не обидит.
– А что за спешка? – спрашиваю, – сначала доверьтесь его милости, а потом женитесь. Так, по крайней мере, у него не будет повода вас наказывать.
– Невозможно, – отвечает Конрад, а сам весь дрожит, – на завтра Люба в баньку звана.
Да, я забыл рассказать, что шуры-муры были строжайше заказаны только для опричников, на себя самого Куртц это запрещение не распространял. Несколько раз в месяц одну из женщин приглашали в командирскую баньку, а оттуда Конрад препровождал ее в спальню полковника. Как правило, это были одни и те же женщины, к такому положению вещей все привыкли и воспринимали как само собой разумеющееся. Любу Куртц приглашал впервые и Конрад, хватая воздух перекошенным ртом, неистово бормотал, что не вынесет этого, что зарежет Куртца во время бритья или сотворит с собой и с Любой какое-нибудь страшное действо. Я никак не ожидал от обычно уравновешенного и сдержанного поляка такой бури страсти, но любовь – самый сильный помутитель разума на свете.
Мои попытки урезонить его ни к чему не привели, и дело свершилось так, как его планировали влюбленные. После баньки Конрад вместо спальни полковника отвел Любу за сарай, усадил в сани и погнал к председателю. До деревни было около десяти километров, стояла лунная ночь и успех предприятия не вызывал никаких сомнений. Но все повернулось иначе. Куртц не стал долго ждать, минут через двадцать, убедившись, что Конрад вместе с Любой исчезли, поднял по тревоге опричников. Быстро обнаружили пропажу саней, отыскали следы полозьев и пустились в погоню.
Беглецов нагнали на околице деревни, Конрад, чтобы сбить с толку преследователей, выпрыгнул с Любой в сугроб, а разгоряченная лошадь понесла сани в заснеженное поле. Погоня помчалась следом, и влюбленные успели незамеченными добраться до сельсовета.
Что дальше случилось, мне потом Люба рассказывала. Вбежали они в избу поселкового совета, а председатель уже там, дожидается с книгой записей актов гражданского состояния. Только начал спрашивать фамилию жениха, как вдруг стук в двери.
– Открывайте, – кричат, – открывайте немедленно, полковник Конрада видеть хочет.
Побледнел председатель, затрясся, а Конрад говорит:
– Спрячь нас, не выдавай, а мы уж тебе за это, что хочешь, отдадим, – и часы свои с руки снимает. А Люба колечко девичье с пальца стащила и тоже председателю, – спрячь, не губи.
– Ладно, – говорит Конраду председатель, – ты полезай за печку, да старыми географическими картами, что от школы остались, укройся. А тебя, девушка, я в шкафу схороню. Там раньше партийная литература стояла, да как немцы пришли всю посжигали. Ты между полками-то уместишься?
– Умещусь, умещусь, – отвечает Люба, – я ловкая, я справлюсь.
Так и поступили: Конрад в картах зарылся, а Любу председатель в шкаф посадил, на ключик запер, а ключ в карман к себе положил.
Расстояние между полками оказалось большим, Люба без труда уместилась, только ноги пришлось под самое горло поджать. В двери шкафа дырочка была, то ли жучки-древоточцы проели, или по какой надобности крючок там висел, а потом потерялся, но пришлась она как раз против Любиного лица. Подтянулась она чуток и видит, что в комнате происходит.
А в дверь колотят уже с размаху, вот-вот с петель снесут. Откинул председатель щеколду, и опричники гурьбой в сельсовет ввалились.
– Ты пошто, – кричат, – не открываешь? Жизнь тебе недорога, или может, прячешь кого-нибудь?
– Да кого я прячу, – жалобно отвечает председатель, – разве спрячешься от товарища полковника.
А сам пальцем на шкаф показывает. Не знает, подлец, что Люба все видит, и представляется перед ней и Конрадом, играет, точно артист на сцене.
Подошел глава опричников к шкафу, подергал дверь.
– Да тут заперто, – говорит. – А ну, подавай ключ.
– Не помню, не помню, куда ключ-то задевался, – отвечает председатель, а сам по карману себя гладит. – И власть наша поселковая товарища полковника очень уважает, и все приказы его выполняет своевременно и усердно. Вот, последнюю разнарядку по картошке и салу выполнили раньше срока, сдали все, сколь приказано, до последнего граммушка.
Подошел главарь к председателю, вытащил у него из кармана ключ.
– А это что такое? – спрашивает. – У тебя, болезный, память отказывать стала. Так мы полковнику сообщим, пусть он на твое место другого пришлет, а тебя отрядит дрова заготовлять. В лесу память быстро наладится.
Отперли замок, вытащили Любу, а Конрад, как услышал, что ее отыскали, сам из-за печи вышел. Связали им руки, повели. Когда мимо председателя проходили, набрал Конрад полный рот слюны и всю рожу ему заплевал.
Привезли их на допрос к Куртцу. Конрад сразу рассказал, как дело было, ничего не скрыл.
– Знаешь, что тебе за такой поступок положено? – спросил Куртц.
– Да в чем же провинность наша? – Конрад говорит. – Что любим мы друг друга?
– Не в том, что любите, – отвечает полковник, – а в том, что приказ мой нарушили. Когда дело государственных вопросов касается, тогда частные интересы не важны. Во время войны, в глубоком тылу противника нарушение приказа – самое страшное преступление. И кара за него полагается тоже страшная.
Опустил Конрад голову.
– Казни, – говорит, – твоя власть.
А Люба плачет навзрыд, слова из себя выдавить не может, горло перехватило.
Походил Куртц по комнате, походил и говорит.
– За проступок ваш висеть бы вам обоим на крюке да зверей лесных мясом своих кормить. Но так как ты, Конрад, служил мне верой и правдой, то сделаю я для тебя поблажку. Мост через Пинчин знаешь?
– Знаю, – кивнул Конрад.
Мост через Пинчин был самым охраняемым объектом в ближайших окрестностях зоны. Через него шли эшелоны на фронт, и Куртц около года пытался вывести его из строя. Немало голов партизанских полегли на подступах к этому мосту. Немцы охраняли его люто, и подобраться к нему до сих пор никто не сумел.
– Взорвешь мост, – говорит Куртц, – поведешь Любу в сельсовет, – не взорвешь, в отряд лучше не возвращайся, а о судьбе ее, – он кивнул на плачущую Любу, – я особо позабочусь.
И усмехнулся кривенько. От этой усмешки кровь в жилах у Конрада чуть не застыла.
Да что делать-то, чем сразу на крюк, лучше счастья попытать! Конрад и согласился на условие полковника. Любу в коровник отправили, за телятами ходить, а Конрада к Болдину свезли.
Прошли две недели. Люба притерпелась, отплакала свое горе и начала потихоньку к жизни возвращаться. Работа у нее оказалась легкая, для деревенской жительницы привычная, она и отходила понемногу в тепле коровника.
Лекарств в отряде не было, и Куртц, в качестве укрепляющей смеси поил партизан отваром какой-то травы. Варили ее на молоке, вкус у нее был отвратительный, но партизаны пили, боясь прогневать полковника. Раздавали пойло два раза в неделю, для этой цели из ближайших деревень пригнали несколько коров. К ним-то и приставили Любу.
Сокрушался я о Конраде и о любви его несчастной, да чем тут делу поможешь? Сведений о нем никаких не поступало, а явно расспрашивать я не решался. Сидел себе в своем закутке, чинил, да налаживал и момента поджидал. Не может быть, думаю, не может быть, чтоб удобного случая не подвернулось. Тут, как в ночной засаде, нужно терпения набраться и лежать, лежать, пока ветка под ногой не хрустнет, пока не выдаст себе противник неосторожным движением или звуком. А там уж не зевай, плыви по моменту, главное – цель известна, значит, только то тебе и остается, что выбрать правильные средства и к цели этой добраться, как можно быстрее.
Так вот, спустя недели две, вдруг открывается дверь в мою комнатку и вваливается Конрад. Похудевший, небритый, рука на перевязи висит, но глаза горят, а лицо сияет – видно, что с победой человек вернулся.
– Рассказывай, – говорю я ему.
– А что там рассказывать, – отвечает, – был мост, и нет моста. Как я это сделал, сам не понимаю, вела меня словно рука незримая, от пуль оберегала, в трудных местах за шиворот вытаскивала. Но не это главное! Главное, был я сейчас у Куртца.
– Ну, как, сменил гнев на милость?
– Сменил, сменил! – Конрад похлопал рукой по нагрудному карману гимнастерки. – Благодарность объявил, и приказ выдал – завтра веду Любу в сельсовет.
– В добрый час!
– За этим-то я и пришел. Тебе одному верю, никому из этой банды счастье свое поручить не могу. Обещаешь, что выполнишь мою просьбу?
– Обещаю, – говорю, а сам опасаюсь, как бы не учинил Конрад очередное приключение и меня в него не затащил. Но ситуация так разворачивается, что отказываться никак невозможно, значит надо плыть по ней и ухо востро держать.
– Я сейчас поеду к председателю, – говорит Конрад, – а тебя прошу, завтра возьми сани и привези Любу к двум часам дня в сельсовет. Раньше мне не управиться, свадьбу, какую никакую сыграть надо, закуски, выпивки достать, избу приготовить, в баню сходить. Да и Люба раньше не успеет. Я бы сейчас к ней полетел, но Куртц ночью ехать не велел, подстрелят, говорит, тебя по ошибке, испортишь весь праздник. А если он так говорит, – тут Конрад помрачнел, – очень даже произойти может. По ошибке, или не по ошибке, какая уже мне с того разница будет. Так я в штабе заночую, и с утра к председателю, а ты к Любе моей. Договорились?
Чем я мог ему ответить? Только согласием.
На следующий день Конрад умчался в деревню, а я поехал за Любой. Как услыхала она радостную весть, залилась красной краской до самых бровей.
– Ой, – говорит, – как же я все успею, времени то почитай, совсем не осталось.
– Так поторопись, – говорю, – девушка. Время сейчас дорого стоит, как бы полковник не передумал,
– Ничего – отвечает Люба, – я ловкая, я справлюсь.
И действительно за полтора часа обернулась. При встрече вышла ко мне телятница из коровника, а тут в сани уселась невеста разукрашенная. Красивая, духами пахнет! Вот ведь женщина, и где только она их раздобыла среди телух да подойников!
Пока ехали, погода испортилась. Поднялся ветер, закрутилась поземка. Тучи набежали, стало темно, сумрачно. Когда подъехали к сельсовету, началась настоящая метель.
В избе натоплено, председатель уже ждет, книгу записей приготовил, а в соседней комнате стол накрыт, закусками уставленный.
– Не обижайся на меня, – говорит Любе председатель. – Я ж не только за себя, а еще за четыре головенки малые ответчик, да за жену, и мать старую. Куда ж мне с таким грузом против Куртца идти?! Вот колечко твое, часы жениховы, возьми и не поминай зла.
Ничего Люба не сказала, вошла в избу, села на лавку у стены, ждет. А я председателя спрашиваю:
– Сейчас полковника уже не боишься?
– А сейчас чего бояться, – отвечает, и нагрудный карман поглаживает. – У меня его собственной рукой приказ написанный имеется. Провести брачную церемонию согласно уложению и порядку советского законодательства.
Ну, ладно. Сидим, ждем. Полчаса проходит, час, я начинаю волноваться, а Люба так вовсе белая, как снег. Сидит, еле дышит, смотреть на бедняжку жалко. Стемнело, метель разыгралась вовсю, снежная крупа бьет по стеклам, ветер свистит в печную вьюшку, воет в трубе. В избе тепло и уютно, но от этого уюта радости никакой. Вдруг дверь распахивается, и весь запорошенный снегом вваливается Конрад.
– Ну, наконец-то! – басит председатель и не давая Конраду раздеться тащит его к столу. Люба тут же оказывается рядом. Брачную церемонию председатель провел лихо, снег на шапке у Конрада даже растаять не успел.
– Именем советской власти объявляю вас мужем и женой, – возвестил председатель, ставя печать в книге записей.
Я, честно говоря, чуть не прослезился. Вот, подумал, война вокруг, смерть, разрушение, а у людей любовь. И, похоже, настоящая.
– Поцелуйтесь, молодые, – возвестил председатель и захлопнул книгу.
Конрад сорвал, наконец, с головы шапку и потянулся губами к лицу Любы. Та, трепеща и краснея, подняла лицо навстречу его губам, глянула на мужа, вскрикнула – это не он! – и упала в обморок.
Все прояснилось в считанные секунды, вместо Конрада посреди сельсовета стоял Бурмила.
– А постель молодым приготовили? – спросил он, глумливо улыбаясь. – Я хочу спать со своей законной женой.
Люба очнулась, ушла в угол, опустила голову на колени и задергалась в безмолвных рыданиях.
– Ты что это такое, подлец, сделал? – пошел на Бурмилу председатель. – У меня приказ полковника поженить Конрада с гражданкой Онисимовой, а не с тобой, горлопаном пьяным. Знаешь, что за нарушение приказа бывает?
– Ты, дядя, не шибко разоряйся, – покачиваясь, отвечал Бурмила. – Приказ был тебе даден, ты и в ответе за его выполнение. А с меня чего спрашивать, нешто я врал? Спросили меня, хочу я взять в жены гражданку Онисимову. Я честно сказал, что хочу. И все дела.
– Ну, ничего, – сказал председатель. – Женили мы ее с Конрадом, он и есть ей законный муж. А ты просто недоразумение, нечастный случай. Убирайся отсюда, подобру-поздорову.
– Ну, и хрен с вами, – согласился Бурмила, нахлобучил шапку и вышел из комнаты. Похоже, он был изрядно навеселе. Впрочем, он всегда был навеселе, так что это обстоятельство не вызвало у меня никаких подозрений. Тревожило другое – куда подевался Конрад.
– Он у Каменских остановился, – сказал председатель. – Я схожу, выясню, в чем дело. Может, его метель с толку сбила, да заплутал по дороге, хоть и негде тут плутать, а может, другое чего произошло.
– Нет уж, – сказал я. – Ты с невестой посиди, а до Каменских я сам наведаюсь. Где они живут?
Объяснил мне председатель, я и пошел. А деревню занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу; небо слилось с землею, словом воцарилась настоящая пушкинская метель. С трудом отыскав нужную избу, я постучал в оконце. Дверь отворил хозяин, невысокого роста зверообразный мужичок.
– Где жених? – спросил я, не желая тратить время на объяснения. Но Каменский понял меня с полуслова.
– Дак, в горнице у себя был. Мы ему чистую половину отвели, постелю застлали, как молодым положено, да и оставили. Тихо там, мы думали, он давно ушел.
– Пойдем, посмотрим.
Дверь в горницу не поддавалась, верхний край отходил под нажимом, а нижний держался, словно приклеенный. Наконец, после нескольких энергичных усилий, она распахнулась, и перед нашими глазами предстало ужасное зрелище.
Конрад лежал на спине, широко раскинув руки. Голова откинута вбок, точно вывернута, а горло перерезано чуть не до шейных позвонков. Пол кровью залит, даже под дверь подтекло, она примерзла, кровь-то, оттого и открыть сразу не получилось.
Как прошла эта ночь, лучше не рассказывать. Люба, когда узнала о случившемся, точно окаменела. Опустилась на свое место и замерла. Возвратиться в штаб мы не могли из-за вьюги, председатель пригласил заночевать у него, но Люба промолчала, будто не слышала его слов. Я остался с ней, прилег на другую лавку, да так и скоротал ночь. Просыпаясь, я бросал взгляд на Любу. Она сидела в той же самой позе, беспомощно, словно затравленное животное, глядя перед собой.
Утром метель утихла, послали гонца к полковнику. Он приехал сам, окруженный десятком опричников. Осмотрел тело, велел обыскать хорошенько горницу, посадил Любу в свои сани и уехал. Мы двинулись вслед за ним.
Похороны назначили на следующий день. Бурмилу с двумя опричниками послали рыть могилу в лесу, отогревать кострами землю и долбить ее ломами. Я вернулся в свою комнату и принялся за привычную работу. Вскоре ко мне зашел Куртц.
– Расскажите, как дело было, – то ли попросил, то ли приказал он.
Я рассказал все без утайки. Он слушал, барабаня пальцами по столу.
– Несчастная девушка, – произнес Куртц, когда я закончил свой рассказ. – Несчастная девушка. А убийцу мы накажем. Так накажем, чтоб другим неповадно было.
Он вытащил из ящика стола нож и потянул мне.
– Узнаете, Макс Моисеевич?
Два свинцовых в кольца в рукоятке! Да ведь это…
– Не надо, – остановил меня Куртц. – Я уже все знаю. Убийца или спешил, или был сильно пьян, но главную улику он потерял в сенях и не позаботился отыскать.
– Зачем он это сделал? – спросил я.
– А зачем это вообще делают, – усмехнулся Куртц. – Зачем люди так последовательно и безнадежно убивают друг друга? Об этом вы не думали?
Он встал, походил по комнате.
– Мне донесли, что он давно глаз на Любу положил, а как стало известно про свадьбу, напился и повторял без умолку: – опять жидам русское мясо!
– Но ведь Конрад поляк!
– Он такой же поляк, как вы Быков, дорогой Макс Моисеевич. Трудно вашей нации жить на свете. И нам с вами трудно.
Он еще походил, а потом спросил меня:
– Аскольдова вам читать не доводилось?
– Нет, – сказал я.
– Понятно. Впрочем, откуда у вас Аскольдов, – хмыкнул Куртц.
Он вытащил папиросу из пачки, закурил, потом уселся на лавку перед окном и долго смотрел в черное стекло.
– Есть такой русский философ, глубокий, искренний человек.
Синий дымок папиросы уходил под низкий потолок. Потрескивали дрова в печурке. Было тихо, как бывает только зимой.
– Душа любого человека трехсоставна, – загасив папиросу, произнес Куртц. – Святое, человеческое и звериное, вот и все компоненты. В русском человеке, как типе, наиболее сильны звериное и святое начала. Гуманизм, то, чем человек отличается от зверя, выражен весьма бледно. Русские никогда в нем не преуспевали, и были гуманистически отсталыми на всех ступенях развития. И не потому, что мы запоздали в культуре. Скажем обратное: культуры в России не было и нет от слабости гуманистического начала. У нас рождаются или святые, или звери. А святые сейчас не в моде.
Он поднялся, и, не прощаясь, вышел из комнаты.
Похороны были торжественными, всех опричников выстроили буквой «П» вокруг могилы, командиры отрядов принесли на плечах свежевыструганный гроб с телом Конрада и осторожно опустили в яму. Куртц произнес короткую речь.
– Мы хороним героя, – сказал он. – Больше года немецким фашистам удавалось удерживать в своих руках стратегический объект – мост через реку Пинчин. Не один и не два раза пытались мы взорвать этот мост, но тщетно. Пока не пришел Конрад и сам, в одиночку сделал то, чего не могли добиться десятки бойцов. Вечная слава павшему герою!
Под гром ружейного салюта яму забросали мерзлой землей. Ее комья гулко стучали по крышке гроба. Люба, стоявшая возле Куртца, плакала навзрыд.
Когда в холмик воткнули колышек с красной звездой, Куртц поднял руку.
– Подлый убийца героя находится среди нас, – сказал он. – И сейчас мы попросим вдову Конрада выбрать ему наказание.
Он подхватил Любу под руку и медленно пошел вдоль замерших опричников, вглядываясь в лицо каждого.
Наступила мертвая тишина, опричники боялись пошевелиться, ведь в качестве жертвы Куртц мог выбрать любого из них. Пройдя почти весь строй, он остановился напротив Бурмилы.
– Узнаешь? – спросил он, вытаскивая из кармана нож.
Широко раскрытые глаза Любы сузились, превратившись в две щелки. Бурмила побледнел… и бросился к ее ногам…
– Пассажирский поезд восемьдесят шесть Новосибирск Москва прибывает на третий путь ко второй платформе. Повторяю, пассажирский поезд…
– Пошли, – Макс Михайлович поднялся со скамейки. – Если опоздаем, придется идти через мост.
Миша поднялся следом.
– Папа, а чем этот эпизод закончился?
– Как и все на войне, одни умерли, другие дальше жить стали.
– А все-таки?
– Бурмила страшную смерть принял, Любу вернули в штаб, я возвратился в свою комнатку. Куртц начал бриться самостоятельно, и кожа его быстро утратила былой блеск и упругость.
Спустя две недели Любу отвели в баню к полковнику, и после этого она согласилась передать в эфир несколько десятков цифр. Когда через три месяца Красная Армия освободила Любанские леса, за Куртцем приехал грузовик из СМЕРШа. Впрочем, арестованным он себя не чувствовал, со всеми попрощался, был как всегда ровен и холоден. По настоящему арестовали Болдина, разоружили, скрутили руки за спиной. Мне за этот рейд дали капитана и медаль «За отвагу». Давай быстрее, поезд уже на подходе.
Дорогие мои!
На сей раз я долго не мог придти в себя, понять, где нахожусь. Ощупывал стол, бездумно смотрел на рисунок головы дракона, узкую щель под ним, прижимался спиной к теплой стене, ерзал на стуле. Но сознание не возвращалось, я одновременно находился в двух мирах: зыбкой реальности своей комнатки и ярком пространстве сна. Лишь спустя час раздвоение ушло, сон оплыл, растворился, только перед моими глазами безостановочно плывет текст, словно замкнутый ролик кинокартины. Я просмотрел его уже пять или шесть раз, почти выучил наизусть. Наверное, единственный способ остановить картину – перенести значки на бумагу. Иначе, зачем он не отпускает меня? Я сделаю это, превращу его в письмо и отправлю вам.
«Досточтимой Латронии, славной патрицианке и несравненной властительнице дум от всадника Децима Симмаха.
Ты помнишь, как мы с тобой повздорили из-за Исая, юного палестинского раба? Хозяин, чем-то рассерженный, просил за мальчишку цену хорошего мула. Но кто думал о деньгах, я хотел Исая для своих утех, а ты – для своих. Мы поспорили, ты слегка возвысила голос, и твоя верхняя губка искривилась, обнажив полоску блестящих зубов.
Когда я объяснил, что раб слишком юн, и тебе придется кормить его несколько зим, прежде чем он станет готов к услаждению женщин, мне же он подходит немедленно, ты успокоилась и уступила. Исая подвели к нам, ты провела ладонью по нежному бархату его щек и, тяжело вздохнув, взяла с меня обещание писать о его судьбе. Вот, я пишу.
Для начала я определил мальчишку на кухню, приказав управляющему поручить ему самую грязную работу, и кормить впроголодь. Прежде, чем попасть в мои покои, Исай должен был познать, насколько тяжел труд и утомителен быт простого раба.
Спустя неделю я, как бы случайно, проходил через хозяйственный двор моей усадьбы на Яникульском холме. Исай в одной набедренной повязке, весь перепачканный золой, чистил огромный бронзовый котел. Сам он был немногим больше этого котла и его тонкие пальчики покрывал толстый слой сажи. Сердце мое сжалось, но я не подал виду и остановился, словно задумавшись о каком-то деле. Рассеянно взглянув на Исая, я подозвал его, и начал расспрашивать нравится ли ему жизнь на новом месте.
Он молчал, глядя исподлобья, точно, загнанный собаками молодой бельчонок. Тогда я спросил, хорошо ли его кормят. Он отрицательно покачал головой.
– Пойдем, – сказал я, и, взяв его за перепачканные пальчики, повел в термы.
Раздеться при мне Исай отказался наотрез. Я не стал настаивать, передал его рабам, велев отмыть хорошенько, умастить маслом, переодеть в чистую тунику и привести в дом.
Ты бы видела, как он набросился на еду! Я решил приучить его к себе, к виду моего тела, исподволь, не принуждая. Нет ничего слаще преодоленного сопротивления.
Несколько недель Исай, вместе с другими мальчиками прислуживал в опочивальне. Я поручал ему самые деликатные работы: выщипывать волосы на моих ногах, лобке и ягодицах, натирать маслом члены, массировать спину. Мне нравился его испуг, когда он прикасался своей ручонкой, густо облитой благовонным маслом к моему детородному органу. Но я не торопил событий, отвлекая его в этот момент расспросами о семье и городе, в котором он вырос. Все должно было выглядеть самым естественным образом, привыкание происходило медленно, но верно. Спустя месяц он уже спокойно массировал мою мошонку, ведь я не давал ему повода для страха, и процедуры носили чисто лечебный, профилактический характер.
Мы стали друзьями, и в один из вечеров, он рассказал мне свою историю. Хозяин, тот самый, что сердился по непонятной причине, купил его в Яффо. Он собрал полный корабль юных рабов обоего пола и отправился к берегам Италии, рассчитывая выгодно продать товар владельцам публичных домов. Намерений своих он не скрывал, и по грубости простонародья, во время плавания пользовался товаром сам. Девчонки-рабы сговорились между собой и решили во время ежедневной прогулки по палубе броситься в море. Узнав об их намерении, мальчишки решили сделать то же самое.
– Если даже девочки, – сказал Исай, – решили, что лучше умереть, то тем более мы, мальчики.
На мои расспросы, он объяснил, что их Бог запрещает мужчине ложиться с мужчиной, и за это преступление виновный лишается доли в будущем мире. Я долго смеялся и пробовал его переубедить, говоря, что сейчас он в Риме, а боги Италии, в отличие от его жестокого и сумрачного Вседержителя, любят человека и радуются вместе с ним, когда он получает удовольствие. Есть души, предназначенные для высокой цели, им дано многое и спрос с них особый. А есть сор, грязь под ногами. Я предложил ему присоединиться к избранным, стать их частью. Но этот маленький фанатик не согласился. Испорченное в детстве плохо поддается исправлению.
Когда в полдень раззява хозяин вывел рабов на палубу и, прохаживаясь между ними, выбирал себе очередную игрушку, эти дикари по условленному сигналу оттолкнули в сторону стражников и бросились в море. Все до одного. Плавать они не умели, да и не хотели спасаться, поэтому пошли ко дну, словно булыжники римских мостовых. Я так и вижу черные, коричневые, каштановые головки в лазурной воде, пробитой столбиками солнечных лучей.
Матросы прыгнули вслед, принялись нырять, хватая за волосы тех, кто еще не успел погрузиться достаточно глубоко. Спустили лодку, затолкали в нее блюющих утопленников. Немногих, совсем немногих и среди них – моего Исая.
Его рассказ подвигнул меня на размышление о сути божественного. Я приказал вынести на балкон ванну, наполнить ее горячей водой, и, разглядывая величественный вид на город, раскрывающийся с Яникульского холма, провел в ней несколько счастливых часов. Рабы постоянно меняли воду, поддерживая ее в состоянии приятном для тела, а Исай подносил кубок со старым фалернским вином, разбавляя его двумя ложками снега. Клянусь всеми святынями Рима, это были не самые плохие часы в моей жизни!
Тяга к божественному есть часть человеческого характера. Так уж мы устроены, от простого крестьянина до императора. Каждый хочет верить, что не все зависит только от людских желаний, что в сумятице жизни существуют некие законы, высшие правила. Разница между дикарями и цивилизованными странами состоит в том, как перевести это тягу к божественному на язык культуры. Примитивные народы придумывают себе жестокое, беспощадное божество, превращающее людей в рабов. Наши, римские боги, больше похожи на друзей, продолжение человека. Как и мы, они гневаются, любят, ссорятся, пьют вино. Они понятны нам, подобно тому, как мы понятны им. С такими богами легко жить: они радуются нашим радостям и помогают в минуты печали.