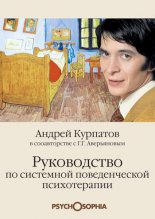Любовь? Пожалуйста!:))) (сборник) Колотенко Владимир

Она выходит, захлопывает за собой дверь, и теперь я слышу через открытое окно стук ее каблучков по тротуару. Вот она остановилась и о чем-то, вероятно, думает. О чем?
Нужно хоть что-нибудь бросить в рот: ужас, как хочется есть.
“Цок-цок-цок…”
Настенька не ждет меня. Я, как сказано, не переношу голода, проворно несусь на кухню, беру кусок колбасы, свеженький хрустящий огурчик и наливаю пол-чашечки вина. Вдруг в ресторан не попадем и буду я до ночи голодным. Настенька не успеет уйти далеко. Не посадить бы каплю вина на свои белые брюки. А пиджак можно в общем-то снять. Включить переносной телевизор? Настеньке не привыкать ждать меня, она уже давно перестала сердиться. Какое приятное холодное вино! Я наливаю еще полстакана и, щелкнув выключателем телевизора, усаживаюсь поудобнее на стул. Нет, все не то. Пойду-ка я в гостиную. Удобные кресла, большой цветной телевизор. До чего же удобны эти передвижные столики: хочешь – ешь в гостиной, хочешь – в спальне. Я беру из холодильника кастрюльку с гречневой кашей, еще парочку огурчиков, бутылку! В жаровне жареная курица! Два вареных яйца я кладу в кастрюльку, чтобы они не свалились со столика. Что еще? Масло, горчица, перец, соль… Вот теперь порядок. Я везу все это в гостиную, усаживаюсь в кресло и дотягиваюсь пальцем до выключателя телевизора: щелк! Кажется, я видел эту картину. Холодная каша, холодная курица, холодное вино… Мелькает вяленькая мысль о Настеньке, но может же она полюбоваться морем. Море, горы в дымке… Я ем. Еще два глоточка и теперь – яйца. Особенно я люблю их нарезанными ломтиками, с маслом и горчичкой. Или перцем… Да, я видел эту картину… Кто-то стучит в дверь. Настенька? Стыд какой: снова она увидит меня жующего. Я не понимаю, что в этом плохого. Стук повторяется.
– Открыто, – произношу я.
Это в кино. Это там стук в дверь, которая затем отворяется. Двое в плащах с поднятыми воротниками, в шляпах, черных очках… Значит, можно спокойно доедать яйцо. Туфли – одна причина моего беспокойства. Снять их к чертям собачьим. К черту галстук! Фильм просто сказочно-прекрасен. Какое великолепие красок! На каждой гондоле горит зеленый фонарь, повсюду жгут бенгальские огни, освещающие неправдоподобным фантастическим светом дворцы на канале, музыка, гвалт… Но самая потеха начнется перед мостом, я помню, когда все это множество гондол ринется под мост, не желая уступать…
Снова стук?
– Андрей, ты дома?
Семен?! Откуда ему здесь взяться? Ерунда какая… Лишь мгновение я сижу в нерешительности, затем произношу:
– Проходи…
Его “ты дома?” прозвучало так просто, что говорить ему “вы” было бы натяжкой.
– Каким ветром? Мы с Настенькой в ресторан собрались… Ты голоден?
Видимо, вид у меня все-таки предурацкий, Семен улыбается, а я в полном недоумении: как же он сюда попал?
– От пива не откажусь, будь настолько любезен…
– О ради бога. Сколько угодно! Как ты меня нашел?
– Встретил Настю, и вот…
– Разве вы знакомы?
– Давно…
Я наливаю себе пива. Семен ставит палку в угол, сбрасывает рюкзак и снимает куртку. В теплой куртке в такую жару? Это для меня тоже удивительно.
– Ночи холодные, – словно отвечая на мой вопрос, произносит Семен. – Ты спешишь?
Откуда он знает про мою Настю? И что же он, хромой, тащил на себе этот тяжеленный рюкзак?
– Ты один приехал? Чем ты сюда добрался?
Семен осматривается. Его уставший взгляд вяло скользит по стенам гостиной. Какая-то картина, на которую я никогда не обращал внимания, привлекает его, он ковыляет к ней без палки, и, видимо, разочаровавшись, отворачивается, смотрит теперь на люстру. В ней тоже ничего особенного: сверкающие стекляшки и только. Что еще ему не нравится в нашем доме?
– Илья в машине… – наконец отвечает он на мой вопрос.
Меня, собственно, Настенька ждет. А Семен валится в кресло, берет пиво и долго пьет. Затем, крякнув и обтерев рукавом усы, ищет в кармане куртки кисет и набивает трубку махоркой.
– Скажи, Андрей, ты любишь Настеньку?
Глупее вопроса он, конечно, задать не мог.
– Мне кажется, – говорит он, прикуривая, – что ты недостаточно…
– Правда? – я останавливаю его вопросом.
Мне не нужны его советы по поводу наших с Настенькой отношений. Я и сам в состоянии оценить, насколько они прочны, достаточно ли я к ней внимателен, любит ли она меня… Да и может ли случайный человек толком их оценить?
– Поразительно, – говорит он, – как хорошо все видно со стороны.
Теперь меня раздражает этот запах махорки. Настенька его тоже терпеть не может.
– Илью нужно покормить…
Он произносит это так, словно проявляет заботу не о своем близком, а о лошади или дворняге.
– Мне, к сожалению, нужно бежать, – произношу я, – еда в кухне…
Затем я слышу их голоса. Они гремят посудой, то и дело хлопает дверца холодильника, а потом раздается и свист чайника. Наконец, запах кофе…
Я сижу, молчу, курю, думаю. Почему я не иду к Настеньке?
– Искупайся и спать, – слышу я голос Семена.
– Я пива с собой возьму?
Я слышу голос Ильи, мягкий, нежный, просящий. Я знаю, что и прежде слышал его, но впечатление такое, что слышу его в первый раз.
– Я отправил его спать, – входя, произносит Семен, – а ты почему еще здесь?
Мне хочется спросить, где расположился на ночлег Илья? А где будет спать Семен? Не думают ли они оккупировать нашу спаленку?
– Давай свою рукопись…
Все вопросы тотчас оставляют меня. Я забываю даже о том, что меня все еще ждет Настенька. А куда ей деваться? Сумка у меня всегда под рукой, я беру ее, достаю папку…
– Вот…
На свете нет ничего интереснее, ничего важнее, чем знать, что о тебе скажут другие. А что скажет Семен о написанном? Ведь только кажется, что его мнение меня не интересует. Это не так. Мне важно мнение каждого, а отзыву Семена я почему-то доверяю бесконечно.
– Телевизор выключи, пожалуйста… – требует Семен и, не дожидаясь, пока я встану, палкой ловко выдергивает шнур из розетки. Я даже не успеваю шевельнуться.
Конечно же, меня тревожит банкротство многих творческих потуг, о котором сейчас наверняка объявит Семен. Я весь в ожидании приговора. Кажется, что вдруг наступившая тишина – и та в заговоре против меня и старается как можно сильнее досадить мне. Хочется просто возопить: будь милостивее, тишина! И чтобы она не отказала в милости, я легонечко толкаю ногой палку Семена. Она тут же грохается о паркет. Семен даже ухом не ведет, зато я даю волю своим застывшим в напряжении мускулам, встаю, поднимаю палку, долго пристраиваю ее к спинке кресла и даже покашливаю, усевшись поудобнее. Я вспоминаю Настеньку и мысленно призываю ее, чтобы утешиться вместе. В этом нет ничего удивительного, ясное дело, я волнуюсь.
А Семен сидит напротив, выпростав свою хромую ногу, и уже внимательно препарирует глазами беленький, едва подрагивающий в его руке листик рукописи. Я не спускаю с его волосатого лица глаз. Немного странно видеть Семена таким сосредоточенным, даже веко его сегодня, так сказать, не прихрамывает. И вот еще что: я не чувствую запаха навоза, которым всегда так и прет от него, и это тоже кажется странным. Только борода его привычно тлеет, когда он, соснув трубку, медленно выпускает дым, наполняя комнату прекрасно-синими живыми вуалями. Благо, нет Настеньки, а то бы мне досталось. Если такая тишина будет продолжаться и далее, я решительно сойду с ума. Отсутствие верной возможности ускорить чтение (я помню содержание наизусть) принуждает меня, вытянув шею, заглянуть в текст: за чем остановка?
– Чушь какая…
Это как удар кулачищем, который откидывает меня на спинку, превращая тело в вялый оползень.
– Ты когда-нибудь спал с женщиной?
Семен задает этот дурацкий вопрос, не отрывая глаз от текста.
– Ты вообще представляешь себе… Ха-ха-ха-ха-ха…
Впервые я слышу его искренний веселый раскатистый смех. Я его рассмешил! Что же привело его в восторг? По правде сказать, я не ожидал от Семена нескрываемой неприязни и все же готов терпеть его роскошествующее уничижение. А между тем, существует понятие о достоинстве, которому я еще вовсе не чужд, и с наслаждением дам отпор…
– Ладно, – как-то мирно произносит Семен, – это долгий разговор, утром поговорим.
Он смотрит на меня, и вдруг лицо его расплывается в удивительно доброй, просто обворожительной улыбке.
– Андрей, все в порядке, – он тянется ко мне и дружески хлопает по плечу, – все прекрасно… Я так устал…
Он встает и идет к Илье.
Я заглядываю к ним через несколько минут в нашу спаленку, ничего ли не нужно и… О, Господи!.. Семен спит с моей Настенькой, спит в обнимочку, ее милая головка у него на плече, его густые волосы заботливо укутали ее шею, грудь… Что же это?! Да как он смеет! В моем доме! С моей Настенькой! Я убью их! Ружье!.. Где ружье?!
Ружье висит у Семена на стене, в его замке, но у меня есть его палка, увесистая дубинка, которая и позволит мне совершить… Вот же она! Я беру ее в руки, подхожу… Ах, как сладко они… Да это же не Настенька, это Илья. Примерещится же такое. Сон какой-то, какой-то дурацкий сон. Я тру глаза кулаком, тру и тру… Надо же. Я наконец открываю глаза: ах, ты мать честная, Боже праведный! Сколько же я спал? Я все еще сижу в кресле перед зудящим телевизором с мерцающим серым экраном, тишина, ночь… Который час?! В окнах серо-чернильный рассвет… Настенька спит? Злясь на меня, я знаю, она вернулась не дождавшись и, найдя меня совершенно пьяным, спящим в кресле, разделась донага, я знаю, швырнув свой белый брючный костюм в сердцах на пол, туфельки – в стенку, выдернув сережки из ушей… Все – к черту! И меня, и наряды. Все… Я знаю свою Настеньку. Я жажду искупить вину, я не достоин ее, я корю себя, бездушный, успокоенный боров, возжелавший стать каким-то писателем…
Я возьму ее сонненькую. Ей это нравится, я знаю. Ну и сон же мне снился.
И надо же такому случиться, что этот писательский бес вселился в меня, я просто рехнулся, помешался на своем Семене. Я не дарю Настеньке ежедневных подарков, не провозглашаю своих восхищений, не ношу на руках, как прежде… А ведь это могут делать другие. Другие это уже делают. На моих глазах! Я встаю и, как есть, в одних только белых носках, стащив с себя и белые брюки, и белые трусики, и сорочку, выключив свет, шуршу по паркету в нашу спаленку. Какая ранняя синь за окнами. Как же я мог проспать! Злые обрывки кошмарного сна все еще бередят бурыми размытыми пятнами мой мозг. Не сойти бы с ума… Дай им только волю, и дурные вести воспоминаний тут же одолеют тебя. Вон, бесы подсознания! Не дай мне Бог увидеть еще раз в нашей спаленке Семена со своим Ильей… Я снова тру глаза кулаком. Зачем? Я не верю в привидения, в чертей и всяких там ведьм, леших… Какие могут быть домовые в наше ученое время? Белые носки я тоже снимаю. И приотворяю дверь. С этой стороны дома света больше. Сквозь открытое окно я вижу розовый жар озаренного юным солнцем неба, молодой день торжественно повергает в прах дряхлую ночь…
Настенька…
Моя Настенька сладко спит, даже дыхания не слышно. Я просто млею, истаиваю весь от желания искупить свой грубый тяжкий грех беспечности. Вот я уже вижу ее обнаженное плечико… Она укрылась простынью с головой, и только ее милое плечико…
Ах, это вовсе не плечо, а лишь складка простыни, высвеченная ранним светом. А плечо… А плечико укрыто… Оно спрятано от моих глаз… Да его просто нет. Нет… Настеньки нет…
Осознание этой величественной простоты придет через секунду. А пока я все еще нахожусь в полном недоумении от отсутствия сладкого плеча Настеньки: как же так? И уже через секунду я признаю этот вероломный факт – нет Настеньки… Бедные мои белые ноги, они не держат меня. Пальцами я нашариваю ниточку торшера и дергаю ее. Настеньки нет. Я бросаюсь в раннюю розовую постель, все еще не веря своим глазам. Она холодна и пуста… О, горе! Может быть, Настенька в кухне? Голый, я лечу в кухню – пустота. Ни Семена, ни Настеньки… Хлеб на столе, открытая бутылка пива, мойва в тарелке… Настенька в ванной?! Я еще лелею надежду… Затем включаю свет и надеваю трусы. Теперь нужно найти носки… Я уже предвижу все скверности, какие несет мне этот розовый свет смелого утра. Я не знаю, что собираюсь предпринять. Где мне искать свою Настеньку? Нет нужды говорить, насколько я раздосадован происшедшим, мне хочется умереть, жизнь мне в тягость, жизнь ранним праздничным утром у нашей холодной постели кажется мне неуместной. Позвонить в милицию? Или в морг? От этой мысли подкашиваются ноги. Накинув сорочку и натянув брюки, я выскакиваю из дома. Уже светло, но все еще спит. Вокруг ясная, светлая утренняя ширь. Радостное возбуждение наполняет меня, но мысли о Настеньке тут же омрачают душу. Что с ней?.. Только бы она была жива. Я стою в нерешительности на гранитном крылечке: куда теперь? Нужно что-то делать, куда-то бежать. Но куда? Я делаю первый шаг в неизвестность, иду крадучись, я не знаю, что мне делать с моим большим вялым, рыхлым телом среди такого восторженного торжества пробуждающейся жизни. Я живу в разладе с миром. И чтобы не погибнуть, мне так необходима Настенька…
Вдруг – скрип. Я замираю. Прислушиваюсь: что это? Где это? Скрип доносится из беседки, скрытой в виноградной лозе. Мне страшно? Нисколечко. Я подкрадываюсь тихо, не дыша. Мой страх, что я выдам себя, поскользнувшись на камешке или наступив на ветку, – страх слепого, который идет без своей ощупывающей дорогу палочки.
“Скрип-скрип…”
В просвете между листьями винограда я вижу… Что такое? Лаковые белые мужские туфли, прикрытые сверху двумя гармошками белых штанин, из которых торчат бронзовые волосатые крепкие ноги… В беседке устроили туалет? Я приподнимаю виноградный лист и теперь вижу чью-то широкую спину, черный пиджак и просто крошечную головку, стриженый затылок над воротом пиджака. Да это же затылок Настеньки, это ее маленькая головка… Чужой пиджак на ее плечах, а ноги ее, стройные, длинные, ровные ее ноги (о, Матерь Божья!) торчат в стороны-вверх от ушей этого наглеца. Это уже не сон, это явная явь. Мне не нужно рассказывать, чем они занимаются, я закрываю глаза… Это – конец, край.
“Скрип – скрип…”
Нужно взять себя в руки. Это моя вина, и нечего винить Настеньку. Глупо устраивать сцены ревности, читать трагические монологи, совершать погребальные песнопения. Нужно собирать вещи. Чутье не обманывало меня, мне всегда казалось… Ах ты, Боже мой… Но как же я буду жить дальше? Без Настеньки… Ведь ради нее я готов… Я и живу только ради нее, пишу свой дурацкий роман…
Я иду в дом, валюсь в кресло, беру бутылку… Но что если это не Настенька? Вдруг показалось? Что если глупая ревность замутила мой взор, и все это только фантазии воображения? Да я никогда не поверю, чтобы моя Настенька… Никогда! Теперь я терзаюсь предательской мыслью: как мне могло прийти в голову, что Настенька способна на измену? Разве я потерял веру в нее? Но я же своими глазами видел… Или все-таки почудилось?
Или все это примерещилось, а моя Настенька лежит сейчас в реанимационном отделении и ждет от меня помощи… Я бросаю бутылку на пол, хватаю зачем-то сумку… Через секунду я уже на крылечке.
– Привет, Андрей. Ты куда в такую рань?
Они идут вдвоем по белым плиткам тротуара, верхушки сосен уже озарены первыми лучами солнца, море в дымке…
– А мы сидели на берегу… Жаль, что ты не видел восхода. Это удивительное зрелище… Познакомься, это – Антон.
Его пиджак по-прежнему у нее на плечах. Но, может быть, то был не его пиджак? И идут они не со стороны беседки…
– Андрей, – я подаю ему руку. Он улыбается и крепко жмет только кончики моих пальцев.
– У вас прекрасная жена…
Я это и сам знаю. Я смотрю на нее, выискивая хоть какую-то ничтожненькую черточку предательства… Нет. Я ведь знаю этот тихий, нежный, ласковый взгляд, искренний взгляд, она улыбается, и глаза ее еще больше яснеют.
– Антон пригласил меня покататься на яхте, ты отпустишь?
– Конечно. Пожалуйста.
Может быть, и вправду, они сидели на берегу?
– Спасибо за прекрасную ночь, – говорит Антон, целуя Настеньке руку, и, повернувшись затем ко мне лицом, добавляет:
– Приятно было познакомиться.
Когда он уже идет по тротуару, я смотрю на его широкую спину, на этот злополучный пиджак… Нет, это совсем другой пиджак.
– Приходите же, – повернувшись, произносит Антон, – обязательно приходите. – И, помахав нам рукой, скрывается за кустом лавра.
– Ах, – восклицает Настенька, – как хорошо… Правда, Андрей?
Приняв душ, выпив рюмку вина и выкурив сигарету, Настенька засыпает, а я иду в беседку, сажусь на скамейку и раскачиваюсь. Зачем? Чтобы непременно услышать это ненавистное “скрип-скрип…”?
Первая неделя празднично-праздного безделья сгорает, как сполох зарницы. В памяти остается лишь багряный отсвет, радостный блик улизнувшего счастья. Кажется, что мы вот-вот ухватим его, зацепим прочно, но оно, как вьюнок, ускользает из наших рук. День сверкнет яркой молнией, и уже ночь, и хочется, чтобы день длился вечно, а ночь не кончалась…
Вчера Настенька была в море со своим Антоном, а я, пользуясь ее отсутствием, написал-таки свои девять страниц. Сейчас Настенька еще сладко спит, а я добываю из-под подушки тепленькие странички, чтобы еще раз перечитать. Нужны очки. Уже прошуршали дворники, вот-вот брызнут первые лучи. Через открытое окно с моря доносится шорох прибрежной гальки, ласкаемой накатами волн. Все мною написанное – чистой воды выдумка: Семен – потомственный дворянин. Граф. Или князь? Может быть, он какой-нибудь революционер? Или его потомок? Я все время примеряю ему какую-то роль. Возвратившийся эмигрант, диссидент? Я примеряю ему титул и звания, профессии и даже прозвища: Хромой. Или Синяя Борода. И это не слепая случайность. Сидит в нем какой-то бес, которого я не могу вытащить наружу и как следует рассмотреть. А чутья моего не вполне хватает, чтобы разукрасить этот образ яркими красками, изваять, так сказать, гармоничную личность. Чего-то недостает. Чего? Ясно одно: передо мной выродок. Гений или ублюдок? Если бы на это я мог ответить. И вот что еще не дает мне покоя: “Ты спал когда-нибудь с женщиной?” Этот вопрос Семена, заданный мне во сне, звонкой занозой застрял в моем мозгу. Почему Настенька убегает к Антону? Разве ей скучно со мной? Лишь однажды она намекнула на разницу в возрасте. Это было так больно. “Знаешь, Андрей, ты никакой не писатель…”
Она разочаровалась во мне, разочаровалась в самом главном для меня деле – сделать ее счастливой. Этот острый нож, наверное, всегда будет теперь в моем сердце. А я ведь старался осыпать ее ласками, лелеять и нежить, я так люблю ее… Чего ей недостает?
Я ловлю себя на том, что сквозь очки давно уже рассматриваю свою Настеньку, ее греческий носик, спящие веки, маленькое ушко с маленькой родинкой на мочке… А вот и ее хрупкое плечико, которое я так долго искал во сне… Чего ей недостает?
После завтрака я читаю Настеньке о Семене, она внимательно и, кажется, с интересом слушает, молчит какое-то время, затем спрашивает:
– Мы едем вечером в Ялту?
– А как же наш теннис?
К ракеткам мы еще не прикасались.
– Ты можешь заняться бегом или поиграть с кем-нибудь…
– Но ты же сама не поедешь? Крымские дороги с их бешеными поворотами и спусками…
– Мы с Антоном…
Мы лежим совсем рядышком, как всегда после завтрака обсуждая программу сегодняшнего дня, и, чтобы видеть ее глаза, мне приходится приподняться на локте.
– Если ты не против, мы с Антоном…
– Настенька…
Я понимаю, что теннис ее интересует меньше, чем Антон, а мой рассказ о Семене она и вовсе пропустила мимо ушей. Сделать обиженный вид, чтобы испортить Настеньке настроение? Пропадет день.
– Настенька, – снова произношу я, – ты у меня такое чудо…
Я целую ее, целую ее закрытые глаза, ушко, а руками шарю в поисках узелка пояса…
– Какой ты тяжелый…
Это я молча проглатываю, добиваясь своего, и когда, кажется, вот-вот достигну блаженной вершины, слышу вдруг:
– Давай сядем… Мне очень нравится…
– Как, – спрашиваю я, – сядем?..
Настенька, ничуточки не смутившись, сама берется за дело, усаживает меня поудобней…
– Держи же, – злится она, – держи меня…
Что такое она творит?
– Какой ты неуклюжий…
Полчаса спустя я соглашаюсь:
– Езжай со своим Антоном.
– Ах, Андрей, ты у меня такая прелесть.
Ради такого признания идешь на все.
Пока Настенька собирается, мой Семен томится в одиночестве. Сиротливо ютится на краешке стола в ожидании будущего. Какого будущего?
Иногда я тихо терзаю Настеньку:
– А ты могла бы полюбить хромого?
– Нет…
Она даже останавливается на пол пути к зеркалу: с чего бы ей вдруг любить хромых, кривых?.. Настенька злится: мир полон здоровых, красивых, сильных… К тому же я уже спрашивал ее об этом.
– И, Андрей, давай договоримся… Ты ведь знаешь мое отношение к роману… Хочешь – я поговорю с Антоном? Он может устроить…
Теперь Настенька, накладывая тушь на ресницы, поучает меня.
– Жить нужно сегодня, – говорит она, – сейчас, понимаешь?.. Дай мне, пожалуйста, салфетку.
Я даю. Она смотрит на меня, освещенного солнцем, и вдруг встает.
– Ну-ка… Дай сюда ухо…
Я не понимаю ее: как мне выполнить эту просьбу?
– Андрей! – моя Настенька вдруг звонко смеется. – Да у тебя…
Она просто умирает от смеха, таращит на меня глаза, чтобы слезы не попали на ресницы.
– Какие у тебя волосатые уши… Вот так да! Давай я тебя почищу…
Я же не конь. Я напускаю на себя обиженный вид.
– Да ладно тебе…
Когда они уезжают с Антоном, меня совершенно не заботит тот факт, что я не дал ей ни копейки денег, меня волнует лишь то, что Настенька все еще не научилась хорошо водить автомобиль. Лучше бы за руль сел Антон. Весь вечер я мучаюсь: не случилось бы чего. Затем все-таки беру в руки рукопись. Кто ты, Семен? Может быть, и вправду, открыть частную клинику?
Семен – князь. Или все-таки граф? Придворный или дворянин? “Илья, приготовь-ка мне ружье”. – “Да, барин…” Барин или барон?
“Не многие из моих современников, – пишу я, – обладают таким красивым, приветливым и открытым для всех загородным домом: поистине, Версаль на берегу озера… В большом, просторном, тенистом княжеском парке гостей приводят в восторг всевозможные затеи в стиле рококо, аллеи с античными статуями, чудный вольер с заморскими птицами и животными, прекрасный бассейн с удивительно прозрачной изумрудной водой, зеленый театр…”
Часам к девяти вечера я откладываю рукопись и иду на кухню. Прекрасно, что холодильник забит продуктами. Я не привык отягощать свой мозг мыслями о еде. Отказывать себе в одном из приятнейших наслаждений? Но чего ради? Ем я с удовольствием, а пиво – это моя слабость. Не может быть, чтобы не завалялась ну хоть одна мойвочка…
Этот маленький уютный домик мы снимаем уже не первый год, и каждый раз рады встрече с ним: терем для двоих. Спаленка с видом на море, кухня с низеньким плетеным абажуром над столом, гостиная без гостей…
Прежде никогда не было такого, чтобы Настенька оставляла меня одного, а вот в этом году… Что-то случилось?
Я жарю яичницу с ветчиной.
Есть сухое вино! Легкий столик скользит по паркету, я включаю телевизор и усаживаюсь в кресло. На сегодня Семена я отправляю в отставку… Никакой он не актер. Не граф, не князь, не барон… И все-таки я подарю ему женщину. Роман без женщины – не роман. Я назову ее Сарой. Или Суламифь? Адам и Ева, Цезарь и Клеопатра, Филемон и Бавкида… Я назову ее… Пока я оставлю ее без имени.
Теленовости тоже не радуют: мир полон злости, мести, страстей… Тюрьмы переполнены, жгут наркотики… В Австралии – теннис.
Около полуночи раздается звонок. Дверь открыта. Мне лень выбираться из кресла, чтобы пойти навстречу Настеньке, но звонят через каждую секунду. Какого черта! Требуется надавить ручку и толкнуть дверь. Что-то случилось? Отчего такая тревожная настойчивость в такой час? Я открываю глаза и только теперь понимаю, что звонит телефон. Приходится взять трубку.
– Андрей, – слышу я возмущенный голос Настеньки, – ты снова спишь? Я звоню уже третий раз.
– Прости, Настенька…
– Андрей, что-то случилось с карбюратором, мы не можем приехать.
– Я и вправду вздремнул…
– Ты слышишь меня?
– Я слушаю, Настенька.
– Твой карбюратор…
Ах, эта вечная история! Сколько раз он меня подводил.
– Там нужно прочистить…
– Послушай меня, мы приедем завтра, ты не волнуйся…
– Сначала нужно отвернуть…
– Ты понял меня? Ты поел?
– Да.
– Ты не волнуйся, ладно?
– Ладно…
Какое-то время я все еще слушаю короткие гудки, затем возвращаюсь в кухню. Два-три глотка холодного пива выводят меня из спячки, я, наконец, просыпаюсь. С этим карбюратором нужно что-то делать. Утром, едва проснувшись, я готовлю завтрак. Настенька с Антоном вот-вот нагрянут.
Долго же я спал! Да, гренки! Настенька просто обожает гренки на сливочном масле. Настенька любит их свежие, горяченькие, сверкающие капельками жира. У меня все готово. Я жду, скоро десять. К половине двенадцатого я съедаю кашу и пью уже третью чашку кофе. Ожидая, я не могу работать, поэтому не беспокою Семена. Мне хочется с кем-то поговорить, переброситься словцом. Позвонить кому-нибудь? Но кому? Звонок раздается около двух, и Настенька радостно сообщает, что карбюратор в порядке. Они уже выезжают.
– Мы будем через час-полтора.
– Я очень волнуюсь…
– Все в порядке, Андрей, целую…
Я успею еще сбегать за молоком. Быстренько одеваюсь и, чтобы сократить путь, лезу через дыру в заборе. Теперь преодолеть скверик, вот и тихая улочка… Этот короткий путь знаю только я. Настенька терпеть не может закоулков, заборных дыр… Ей нравится жизнь на виду. Чудесный день! Теперь налево… Я чуть было не натыкаюсь на чей-то автомобиль, стоящий прямо на тротуаре. Мало им стоянок. За такое самовольство нужно… Я зачем-то оглядываюсь, чтобы запомнить номер машины, повторяю его для себя и спешу дальше… Стоп! Я оглядываюсь и вижу номер своей машины.
Машина тоже моя. Что такое?.. Очки! Мои очки! Я протираю стекла, затем глаза, надеваю очки: машина моя. Чудеса! На чем же Настенька уехала со своим Антоном? Не поплыли же они в Ялту на яхте? Настенька врет мне? Но, может быть, они уехали на машине Антона? На другой стороне улицы я выбираю скамейку в разлапистых ветвях платана и усаживаюсь так, чтобы видеть машину. Что я замышляю – шпионить? Но это не в моих правилах. Не в моих правилах глазеть в замочные скважины, подслушивать у приоткрытой двери… Сижу, жду… Можно закурить. К черту молоко, к черту мысли о Семене и его женщинах.
Они появляются ровно через час. Веселые, молодые, счастливые, я завидую им, они идут чуть ли не в обнимочку, чуть ли не целуясь. Многие останавливаются и любуются ими: ах, какая пара! Я тоже любуюсь! Они садятся в машину и, не копаясь в карбюраторе, тут же заводят двигатель, лихо разворачиваются и уезжают. Я встаю, курю, думаю. Куда теперь?
Когда я подхожу к нашему теремку, машина стоит у крылечка, дверь настежь, слышна только музыка. Я вхожу…
– Андрей! Где ты был? Я уже давно дома…
Она бросается мне на шею, и я чувствую, как ее тельце, мое любимое тельце тает, просто плавится, обволакивая меня нежной истомой.
– Я так люблю тебя, Андрей…
Через минуту она уже у зеркала.
– В Ялту мы добрались хорошо…
Настенька примеряет новые клипсы. Она игриво откидывает свои короткие волосы, обнажая ушко, наклоняет головку, улыбается…
– Тебе нравится, Андрей?
– Очень…
– Мне Антон подарил. Мы зашли в магазин…
Я ведь ни о чем не спрашиваю.
– А вечером этот карбюратор… Мне кажется нам нужно купить новую машину. Антон может помочь, он сам предложил…
Мне хочется спросить, где они ночевали.
– Я познакомилась с каким-то немцем…
Прежде Настенька никогда передо мной не отчитывалась. Да у нас это и не принято. Зачем мне подробности? Но я не прерываю ее.
– Мы ночевали в гостинице. В “Ялте”.
Антон спал на диване… Великолепный номер! Знаешь, там такие обои, а свет, кажется, исходит из какой-то пещеры, просто прелесть… Антон спал на диване…
Она повторяет это дважды. Зачем? Я ведь ни о чем не спрашиваю. Я и сам могу догадаться, что Антон спал не на полу. После обеда мы никуда не идем. Хочется повалятся в прохладе постели, полистать журнал, отбросив дурные мысли, подозрения, догадки. Просто полежать рядом с Настенькой. Мы снова вместе, вдвоем, к чему подозрения?
– Занавесь, пожалуйста, окна, – просит Настенька.
Я задергиваю шторы, и наша спаленка наполняется теперь розовым светом. Рай для двоих. Все мои нежные попытки забраться к Настеньке под простыню заканчиваются полным поражением. Простыня – как броня. Я мог бы разорвать ее двумя пальчиками, но Настенька свила из нее непроницаемый кокон.
– Давай поспим, Андрей, я устала…
Не брать же ее силой.
Как только я прекращаю осаду, Настенька тут же успокаивается и засыпает. Ах, как она сладко дышит. Намаялась, бедняга, с этим Антоном, с этим карбюратором… Я лежу, не смея шевельнуться, боюсь перевернуть страницу, гляжу в потолок. О чем я думаю?
Могли они доехать сюда из Ялты за час или нет? Может быть, они звонили из Алупки? Или из Симеиза? Я ведь не уточнял.
Пребывать в коконе даже во сне моя Настенька не собирается. Свободолюбивая, она стремится на волю, и в попытке стать бабочкой сначала скорлупу проклевывает ее носик. Затем появляется личико. Какой долгий, веселый, свободный вдох. Теперь полный выдох. Словно какая-то гора свалилась с ее хрупких плеч. Не моя ли вина в том, что Настеньку что-то тревожит? Даже во сне. Моя бабочка снова притихла, набирается сил. Теперь решительное движение ножкой, и разрушено основание кокона. На свет появляются перламутровые ноготки, пальчики, лодыжка… Наконец, ляжечка и атласное коленце… Теперь очередь головы. Руки помогают ей. Пальчики с перламутровыми ноготками терзают броню, обнажая подбородок, и вот появляется на свет удавка, этот платок, перехватывающий горло. Я вижу, как он стягивает кожу, вижу узел на шее моей Настеньки. Нежные разводы пестрых красок, кажущиеся неземными в розовом свете штор. Шея тоже кажется фиолетовой, взялась серыми пятнами… Тихонечко, чтобы не потревожить Настенькин сон, я беру уголок платочка и легонько тяну на себя – прочь! Поди прочь, подлая удавка! Глубоко вздохнув, Настенька переворачивается на животик, и теперь вся ее прелестная спина и белые холмы ягодиц, кажущиеся розовыми, открываются моему взору. Богиня! Как сладко она спит!
– Ах…ах… – слышу я сладкий стон, – ах, Антон…
Она переворачивается на спину. Целый час я любуюсь Настенькой, затем шуршу газетой и встаю, чтобы приоткрыть шторы. Солнце уже заметно упало, его лучи, отражаясь в зеркале, нежно ласкают сонное тело Настеньки. Я подхожу…
– Настенька…
– Ах… – она открывает глаза, улыбается мне и снова переворачивается на живот, – ах, Андрей…
Теперь я ясно вижу ее нежно-розовые, едва тронутые загаром, упругие ягодицы. Не снежно-белые, какие я всегда привык видеть, а нежно-алые, словно пылающие от стыда. Она загорала без купальника? Где, когда, с кем? И сколько еще вопросов роится в моем мозгу, на которые я не в состоянии ответить…
Купаясь в золотых лучах вечернего солнца, Настенька сладко потягивается, прогибаясь в спине, вытягиваясь во всю длину своего стройного тельца, и снова переворачивается на спину.
– Ах, Андрей, – снова произносит она и тянет руки ко мне, – иди сюда…