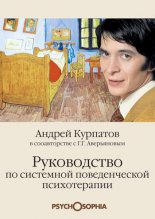Любовь? Пожалуйста!:))) (сборник) Колотенко Владимир

Повесть
Охота на мотылька
…И, конечно же, рокот грома среди зимы. Снег, морозище лютый, ночь – и вдруг гром, гроза… Быть беде? Сама по себе гроза не страшна, страшен ее предупреждающий знак, ее крик среди сонной зимы. Мы не слышим этого грозного знака неба, куда там – мы счастливы. От счастья мы просто слепнем, глухие ко всему…
– Я еще хочу, еще… – терзает меня моя Настенька, ластясь и прижимаясь ко мне всем своим цепким тельцем, своей ласковой кожей, – ну же, Андрей… Господи, как я ее люблю!
– Слышишь – гроза, – произношу я. – Зимний гром – это предвестник…
– Да ну ее, Андрей… Андрей…
Она просто истязает меня своим нетерпением. Но я ведь… я же не отказываюсь, я ведь сколько угодно… Я так люблю свою Настеньку, я готов.
– Настенька, – шепчу я, тут же забыв о грозе, – ах, Настенька… Ты у меня такая, ты… знаешь…
Мои губы, едва касаясь ее маленького ушка, шепчут какие-то теплые слова, а кончики пальцев, пальцев слепого, уже читают трепет ее кожи, ее бедер, пупырышки желания…
Мне следовало бы ей сказать, что только работа, работа до изнеможения, может длить вечно наше счастье, только работа… Мне бы сказать ей, что этот гром…
Не сейчас же!
Потом мы спим досветла, до тех пор, пока не зазвонят в дверь. Скоро полдень, и нас приглашают на лыжную прогулку. В лес, где корабельные сосны и ели в снегу… А мы еще не успели позавтракать. Я наспех готовлю яичницу, варю кофе, который несу Настеньке в постель, и, когда она с удовольствием опустошает и тарелочку с золотой каемочкой, и керамическую чашечку (Настенька без ума от кофе), мы решаем: а ну ее, эту лыжную прогулку!
– Мы остаемся! – ору я, когда в дверь снова звонят, и мы остаемся в постели. К черту лыжные прогулки! Я так люблю свою Настеньку, милую Настеньку, я просто не представляю себе жизни без нее. Я бы просто умер без нее…
– Ты никого никогда так не любил?
– Никогда… никого…
Мне ведь никто не нужен. И вообще: все, что я делаю – я делаю для тебя, живу для тебя, работаю… Все мои рассказы, и повесть, и пьеска, и стихи… И последний свой роман я посвящу тебе. Я до сих пор не знаю, о ком буду писать, еще не решил, я ищу героя. Я знаю, что он будет грубым, неотесанным, злым, просто диким. С дикими инстинктами, дикими ухватками, как вышедший из джунглей Тарзан. Таких любит читатель, такие пользуются спросом. Их ждет успех. Это значит, что успех ждет и нас с Настенькой.
– Ты правда никого так не любил? – спрашивает Настенька еще раз, придя в себя, лежа с закрытыми глазами и улыбаясь, – Скажи?
– Вот те крест…
К вечеру, ошалев от любви и уже просто выбившись из сил, я беру себя в руки: нужно работать. Две-три странички хорошего текста, остроумный диалог, сверкнувшая блестка юмора – это такой тяжелый труд. Это не то, что обтесать какое-нибудь полено или положить кирпич в кладку. Хотя работа лесоруба не менее увлекательна и прекрасна…
– Настенька, я поработаю?
Она как раз приподнимается на локте, открывает глаза.
– Ты сам сказал – гром… Знаешь, я заметила: как только ты берешься не за свое дело, Бог подает тебе сигнал. Ты написал рассказ – и случился пожар, ты написал какую-то пьеску – и сломал себе руку. Теперь ты взялся за роман – и вот тебе зимняя гроза. Когда ты его закончишь – ждать землетрясения? Или потопа? Ты мне сам говорил, что упрямство – это признак…
– Тупости, – произношу я, – ты права, Настенька.
Этим меня не оскорбишь, не проймешь, я знаю себе цену.
Она склоняет мне на грудь свою умную головку, ее короткая стрижка щекочет мне губы, а она продолжает:
– Зачем тебе, хорошему врачу, эта писательская затея? Ну, правда, Андрей, зачем? В клинике у тебя любимая работа, ты пользуешься успехом, тебе неплохо платят…
– Настенька…
– У тебя светлый, маленький дом, какой ни есть, а свой, ты можешь позволить себе…
– Настенька…
– Ну что “Настенька”, разве я не права? Ты бы лучше…
Это поразительно: все мои друзья лезут с советами, подсовывают мне какие-то нелепые идеи… “Ты бы лучше…” Да откуда им знать, что для меня лучше, что хуже?
– Ты права, – мирно произношу я. – Но ты ведь знаешь меня…
– Ладно, – говорит Настенька, легко принимая мое решение, – иди в свой кабинет, но помни: гром уже грянул…
– Что ты имеешь в виду?
– Не знаю, Андрей…
И я ухожу в маленькую, тихую комнатку, чтобы писать свой великий роман.
Мне нужна слава? Нисколечко. Но я не могу не испытать себя, не попытать счастья и на писательской ниве. Сказать правду – мне до чертиков надоели ноющие, ойкающие больные с их грыжами, сколиозами, вывихами и прострелами. Я уже по горло сыт их крипторхизмами, геморроями и ректальными свищами. Хватит! Пора произнести себе вслух это “хватит”! И себе, и всем.
– Хватит! – произношу я, захлопнув за собой дверь и прислушиваясь. Как это решительно и прекрасно звучит!
А Настенька уходит в гости, где нас уже давно ждут. Через часик-другой, обещаю я, приду и я тоже, а пока мне нужно с чего-то начать.
Я усаживаюсь поудобнее, беру в левую руку исписанный листок, в правую – чашечку кофе, и снова прислушиваюсь: тишина. Прекрасно! Далекие звуки гулко грохающего барабана и ничего больше. Может быть, мне мешает яркий свет? Но это дело поправимое. Нужно слегка повернуть настольную лампу… Очки! Где же мои очки? Очки – на месте. Наконец, я читаю первый лист своего первого романа. Затем ставлю чашечку на блюдце и рву лист пополам. Складываю половинки и снова рву. Не годится. Мне нужно слово, первое слово, первая строчка. Мне нужно что-то жгучее, интригующее. Первый абзац. Первый абзац – это половина дела, начало успеха. А good beginning is half the battle. Нужно что-то такое… Злое, острое, терпкое…
Соль подай…” – пишу я. – Соль подай…
Я произношу это вслух и встаю. Беру чашку и, отпив глоток кофе, снова произношу эту первую фразу. Пробую ее на слух. Неплохо. Звучит прекрасно. И сколько власти! Ослушаться нельзя, неповиновение невозможно. Вот она, первая фраза, вот он, стержень романа. Я комкаю и этот черновой лист и не записываю больше ни строчки. Сегодня мне уже ничего не нужно, и я могу идти к друзьям, к своей Настеньке. Я уже не забуду эту фразу.
Когда мы поздно ночью, шумные, веселые, пьяные и еще не уставшие от счастья, вваливаемся домой, я срываю со своей Настеньки лисью шапку, сдергиваю с ее тельца лисью шубку, беру Настеньку на руки…
– Я так счастлива, Андрей…
Я несу ее в нашу спаленку.
– Слушай, Андрей, давай выпьем.
– Потом…
– Нет-нет, – она соскальзывает с рук, – нет, сейчас.
Ах, Настенька…
В кухне мы сидим и пьем горячее вино, потом нам вдруг захотелось мяса, мы едим его с хреном, с горчицей, горькой до слез…
– Соль подай…
Я бросаю эту грубую, властную, диктаторскую фразу между всплесками смеха, тихо, невзначай, ни тоном, ни жестом не нарушая праздника. Мне не нужно ничего слышать, я даже не поднимаю глаза, а всем своим внутренним чутьем ощущаю, как разрушена радость. Защитившись куском мяса от ее взгляда, поднимаю глаза и, все еще дурацки улыбаясь, смотрю на Настеньку. О, Господи! Ее глаза – словно детский крик. Затем слезы… Что, собственно, случилось, что произошло? Я этого не произношу, но всем своим видом спрашиваю: в чем дело? Я предвидел, я ожидал, я знал, что за этим моим “Соль подай…” последует ее растерянность, но чтобы слезы…
– Настенька… – я выражаю искреннее удивление.
Теперь она плачет громко, надрывно, просто взахлеб, давая волю слезам. Я заботливо, с чувственным участием подхожу к ней, беру ее хрупкие, дрожащие плечи, стараясь утешить, а с ней приключается истерика…
Вечер пропал.
Я старательно и как только умею нежно и ласково пытаюсь искупить вину в постели, и это мне удается, но заноза моих соленых слов засела у нее в сердце, я знаю. Нет никакого резона лезть к ней в душу с извинениями, глупо звучат и мои примирительные шуточки… Единственное утешение для меня, единственная светлая радость – я нашел верную фразу. Ведь Настенька так чувствительна к грубости, лжи, фальши. Ее не проведешь, не обманешь…
Не выдать бы только своей радости.
Одолев наконец тихие слезы, которые хрустальными озерцами нет-нет и появляются в ее глазах, Настенька, все еще всхлипывая, произносит:
– Никогда, слышишь, Андрей, никогда не говори со мной таким тоном.
– Да, родная моя, да, моя нежная, никогда…
Я все еще вынужден утешать ее.
– Обещаешь?
Я обещаю. Я обещаю, даю слово, даже клянусь и, когда она наконец засыпает, выхожу из нашей спаленки. Иду к себе и включаю настольную лампу. Свежий, просторный лист бумаги, карандаш, ластик под рукой…
Итак, первая фраза готова. Я не пишу ее, я помню. Целый час я сижу, думаю, чешу затылок и мучаю ластик, а листок по-прежнему остается чистым. Я до сих пор не могу представить себе своего героя. Грузчик, лесоруб, горновой… Кто он? Я знаю только одно: он должен быть сильным, крутым, соленым, злым… Еще битый час я сижу со своими мыслями в кухне, ем заливную рыбу, пью терпкий чай и иду спать. Иду к Настеньке, так ничего и не придумав. Оказывается, выдумать героя для большого романа не так-то просто. Гораздо проще забраться к Настеньке под теплое одеяло, прижаться к ней всем телом и, замерев, слушать, как она, что-то капризно буркнув во сне, мирно дышит. Что может быть прекраснее, чего еще желать? На кой мне сдался этот роман, этот злополучный герой? С этими мыслями я и засыпаю.
Как и все радости мира, наша рождественская лесная сказка кончается быстро, пора домой. Тяжелый быт большого города, убогие будни врача. Настеньке тоже несладко. Ей уже двадцать три, и все эти пять лет нашего знакомства так и не внесли ясности в наши отношения. Жениться на ней? Но у меня еще нет крепкого дома, где она могла бы быть полновластной хозяйкой, нет и положения в обществе, а моя зарплата… Мне надоело жить на эти взятки, презенты, на эти подачки. Мои друзья приспособились и, кажется, даже счастливы, а я не могу. Жениться на ней, чтобы потом каждый день выслушивать ее упреки, видеть ее грустные глаза, ее слезы? Нет уж! Женщины в этом все одинаковы: они терпеть не могут бедных мужчин. Это правда. А я не беден, я просто нищ. И вот мой роман, мой спасительный роман… На него я делаю ставку. Единственная надежда – мой талант. Я верю, да, верю…
Февраль уже на исходе, веет теплом, и я ощущаю нехватку времени. Вдруг оказывается, что завтра выходной, а то и праздник какой-нибудь. Или обнаруживается, что замшевые перчатки, которые я только вчера купил Настеньке, уже сегодня не модны. Не радует и новое назначение, новая служебная ступень. Я много работаю, работаю до чертиков в глазах, твердо зная, что занимаюсь не своим делом.
Все эти зимние дни и ночи я вынашиваю сюжет в голове, как вынашивают единственного ребенка. Мой плод зреет. Я представляю себе героя этаким здоровенным детиной, мысленно рисую его образ и все время примеряю к своим знакомым. Среди них я ищу для него тело, наделяю его их привычками… Потом я нахожу, что все мои усилия – чепуха. Никто из моих знакомых не годится на роль героя. И я ищу его снова и снова…
А Настенька уже распахнула свою душу весне, ее милый носик покрылся веснушками. Ах, Настенька…
Я тороплюсь, мучаю себя, не даю себе продыху. Тщетно. И вот я уже пью в одиночестве. Облюбовал дальний столик в углу, и официант легко и непринужденно говорит мне “ты”.
– Слушай-ка, плюнь ты…
– Ага, – произношу я и наполняю рюмку.
Я, как всегда, выпиваю свой графинчик, ужинаю и последним ухожу домой. О, горькое вино творческих мук! Настеньке очень не нравятся эти мои попойки. Она не переносит запаха водки.
– Знаешь ли, так можно докатиться…
– Но…
– Никаких “но”! – решительно восклицает Настенька, – мне не нужен в доме выдающийся писатель-алкоголик, я не собираюсь терпеть…
И я снова ищу общества официанта.
Половина восьмого вечера – это странное время суток, когда маешься от безделья. Спать еще рано, а что-либо начинать уже не хочется. Слоняешься из угла в угол, затем берешь в руки какую-то книгу и пытаешься читать. Зачем-то включаешь телевизор и, убрав звук, смотришь, как неуклюже открываются рты у поющих. О чем они поют? Ответа не ищешь, одеваешься и идешь куда-нибудь.
Какой-то чудак уселся-таки за мой отдаленный столик, уселся на мой стул. Я с порога замечаю его, но сейчас не нуждаюсь в собеседниках. Пока я к нему иду, официант, распинаясь в извинениях, что-то щебечет о своем бессилии, вот-де пришел этот хромой, уселся за твой столик, на твое место, и ничего с ним не поделаешь… Сидит уже целый час, как пень, и даже ухом не ведет на мои просьбы.
– Ладно, – говорю я, – оставь его…
Мне любопытно, что это за птица.
– Ты извини…
– Принеси графинчик… И мяса.
Я подхожу и, ни слова не произнося, усаживаюсь на соседний стул. Боже, какие у него огромные руки! Они первыми бросаются мне в глаза, его руки, крепкие длинные пальцы с кустиками черных волос, змеи крупных вен, длинные ногти, небрежно стриженные, с белыми полулуниями у оснований… Руки кузнеца, но и ваятеля. Такие созидательные пальцы. Левая рука уверенно-спокойно, словно отдыхая, лежит на столе, в правой – пивная кружка. Он делает вид, что не замечает меня, потягивая свое пиво, уставясь в окно. Я тоже помалкиваю, наблюдая за ним исподтишка. Может быть, он станет прототипом моего героя? Эта мысль приходит мне в голову каждый раз, когда я встречаю что-то неординарное в человеке, ну хоть какой-нибудь намек на оригинальность. Я вижу его тяжелую на вид, причудливо изломанную, с красивой белой ручкой черную палку, мешковатый свитер, копну давно не знавших расчески волос, бородатое лицо, и уже нутром чую, что это он, мой герой. Я не знаю, откуда такая уверенность.
Даже громкая музыка, которой я бы с наслаждением заткнул рот, меня не злит…
Я хотел бы увидеть глаза, но взгляд его по-прежнему устремлен в окно, за которым давно сгустились сумерки. В ожидании официанта у меня есть возможность понаблюдать за соседом, и я все больше утверждаюсь в мысли, что это тот, кого я искал.
– Пиво ничего?
Я решаюсь на вопрос, чтобы услышать его голос. Он только кивает в ответ, не отрывая глаз от окна. И внешний вид, и манера держаться, и то, как лежит его левая рука на скатерти, словно отдыхая, свидетельствуют об окончании моих душевных мытарств. Неужели я снова обрету прежнюю уверенность и вожделенный покой?
Я хочу слышать его голос.
– Вы не возражаете, если я закурю?
Не отрывая кружки ото рта, он равнодушно дергает плечом: кури сколько угодно. Мне нравится его угрюмая неразговорчивость. Примерно таким я его и представлял. Он просто весь вылеплен из теста моих мыслей, соткан из жил жизни точно таким, какой может, наконец, удовлетворить мое воображение. Роясь в карманах в поисках сигарет, я все еще любуюсь его руками, широкой костью запястий, полнокровным бугром Венеры. Меня так и тянет взять его руку и изучить на ней линию жизни. Линию ума, линию сердца… И хотя к хиромантии я отношусь снисходительно, я наверняка знаю, что его ладонь исчерчена не линиями, а просто бороздами, бороздами ума, силы, таланта, честолюбия… Жизнь распахала ладони глубоко и верно, предопределив его судьбу, и вот он в расцвете сил, в середине собственной жизни сидит передо мной с кружкой пива в руке. Как же он зарос! Черные густые вьющиеся волосы, рыжая борода с ниточками проседи. А вдруг я ошибаюсь? Вдруг я только рисую его себе таким, а он окажется совсем заурядным, этаким любителем пива с незатейливым прошлым и безо всякого будущего? Я пугаюсь этой мысли, а он берет щепотку соли и бросает ее в рот. Из зарослей усов показываются большие белые зубы, огромные, как у коня. И пахнет от него конем, конюшней. Может быть, он цыган? Конокрад? Он допивает пиво и лениво облизывает усы розовым языком. Теперь я ищу свою зажигалку, а к нам уже спешит официант. Он приносит графин с вином, мясо с картошкой, два огромных ломтя, на которых еще пузырится горячий жир, и от одного вида которых слюнки текут. Я смотрю на соседа и вижу, как он пожирает глазами мое мясо. Затем закрывает их и, дернув кадыком, который импульсивно шевельнулся под воротом свитера, прикрытого бородой, берет кружку. Я не могу видеть его кадык, я просто знаю физиологию голода. Голодные рефлексы у всех одинаковы. Значит, не цыган. Цыгане не терпят голода.
Когда официант уходит, я предлагаю:
– Хотите вина?
Видимо, его больше интересует мясо, но он молчит, ничем не выражая к нему своего отношения, ставит наконец пустую кружку на стол и встает. Мать честная! Какая громада!
Он сдергивает со спинки стула жупан, надевает, долго роясь в карманах, добывает измятые бумажки, жалкие рубли, кладет их на скатерть и, прихватив свою увесистую палку, идет к выходу. Я не догоняю его, не боюсь упустить: еще увидимся. Откуда такая уверенность, я не знаю. Круто припадая на правую ногу и опираясь на палку, он, громадный, идет между столиками, качаясь, как огромный маятник… Хромой! Такой герой не входил в мои планы. Он не оглядывается, не приостанавливается у зеркала. Прохромав мимо, решительно дергает дверь и пропадает в темноте. Он ни разу не посмотрел мне в глаза, ни о чем не спросил… Да и с какой стати? Я для него случайный сосед по столику, предложивший выпить вина. Таких – пруд пруди…
Моя сигарета заждалась огня, и официант уже тут как тут:
– Как это тебе удалось?
Что он имеет в виду?
Я прикуриваю, а он, сунув зажигалку в карман, наполняет фужер розовым вином.
– Выдворить его так быстро.
– Я предложил ему вина.
– Да, – произносит официант тоном знатока, – гордецы чаще живут впроголодь. Я часто вижу таких, гордых…
Небрежным движением руки он отодвигает в сторону измятые рубли, сметает салфеткой несуществующие крошки и добавляет:
– Гордыня – глупость, смех просто, не правда ли? К тому же – грех.
Мне хочется побыть одному, поэтому я не поддерживаю разговор, а он, психолог, ни слова больше не произнося, накрывает ладонью скомканные рубли, сгребает их в кулак и, сунув кулак в карман, уходит.
Только теперь я ощущаю настоящий голод, кладу сигарету в пепельницу и пью вино. Затем набрасываюсь на подостывшее мясо. Единственный раз на долю секунды мы встретились глазами с моим хромым, а я все еще чувствую этот взгляд. Я не могу объяснить, что в нем такого особенного, но и забыть не могу.
Придя домой, я рассказываю Настеньке о своей удаче. Наконец-то мне повезло! Знаешь, говорю я, он удивительный тип, этот хромой. С виду он кажется грубым и неотесанным, и все же глаза его выдают: в них светится какой-то загадочный ум. В них нет суетливости, нет даже любопытства, мир для них ясен, как день. И ты бы видела его руки…
– Я просила тебя не приходить домой пьяным…
– Мы посидели в кафе… У него взгляд беса, пронизывающий насквозь. Знаешь…
– Брось, Андрей. Зачем ты мне о нем рассказываешь? Ты бы лучше…
Опять она за свое. Это невероятно, но мысли о хромом приходят мне в голову даже, когда я целую ее и – удивительно! – даже в момент божественного наслаждения, которое я испытываю, купаясь со своей Настенькой в ласках любви.
О том, что я могу его больше никогда не увидеть, я не думаю. В новую встречу я безусловно верю. А как же! Но на сегодня достаточно впечатлений, да и время позднее.
Моя Настенька лежит рядом, дыша как ребенок. Я вижу красивую шею с большой родинкой, ее милое плечико, модно стриженный затылок. Устала, бедняжка… Я тоже притворяюсь спящим, лежу без движений…
– Андрей…
Она поворачивается ко мне лицом и, напрягая свое тугое тельце, вытягивается дугой, и секунду-другую лежит, замерев, как пантера перед прыжком (я знаю эти ее штучки). Я – мертв. Я делаю вид, что сплю, но только делаю вид, готовый ко всему, ко всем ее милым выходкам, ее капризам, ее желанию…
И вот пантера прыгает!
– Андрей!..
Она вскакивает и тут же обрушивается на меня, точно лавина, нежная лавинка, ласково впиваясь в мою кожу перламутровыми ноготками.
– Андрей!..
Господи, сколько же в ней жизни… Я – сплю.
– Я знаю, что ты не спишь, знаю…
Попробуй тут уснуть. Я ведь догадываюсь, чего она сейчас потребует. Настенька распаляет себя, терзает мою кожу, и вот я уже слышу:
– Я еще хочу, Андрей, еще, еще…
Ах, Настенька… Я открываю глаза.
– Я не могу уже…
– Можешь, можешь, можешь, можешь…
Она царапает мне кожу, кусает губы… Больно же!
– Можешь, можешь, – шепчет она, – я знаю, знаю…
Затем, стеная и неистовствуя, она истязает мое тело, мою вновь ожившую и лопающуюся от желания плоть, лихая наездница, сущий порох… Ах ты, моя ненасытница…
Она просто вышибает из головы все мысли о герое, опустошая память, сатанея в беспамятстве, как в пляске святого Витта и, наконец, истомившись и насытившись, замирает. Бешеная ее кошачья стихия стихает.
И тут оживаю я…
– Не дыши мне в затылок, мне жарко…
Она сбрасывает с себя простыню и отодвигается… Затем мы лежим какое-то время в тишине, счастливые, просто преступно счастливые, моя Настенька засыпает, а я тихонечко рассказываю ей сказку о каком-то хромом, тихую сказку, которую дарю ей на ночь, рисуя своего героя светлыми добрыми красками…
– Слушай, – едва слышно говорит она, – зачем ты мне все время о нем рассказываешь?
А кому же я еще могу рассказать?
– Ты бы лучше мне спинку погладил.
Я глажу.
– Я хочу спать, Андрей, я уже сплю. Ты рассказывай…
Я рассказываю, нежно глажу ей спинку, плечи, кутаю ее в простыни… Ах ты, моя труженица!..
Не знаю, как бы я жил без своей Настеньки.
На следующий день я убегаю с работы пораньше, спешу в кафе и, усевшись на свое место, весь вечер жду. Нет моего героя. Я спрашиваю официанта, не заходил ли мой гордец. Нет, не заходил. А видел ли его официант когда-либо прежде? Нет, не видел.
Во всяком случае припомнить не может. С каждым скрипом двери я поворачиваю голову…
Изо дня в день я ухожу с работы, провожаемый взглядами сослуживцев, их колкими шуточками, шныряю вблизи кафе по весенним улочкам в надежде встретить моего хромого… Нет его. Я с ног валюсь от усталости, грублю прохожим, позволяю себе орать на пациентов, то и дело заглядываю в кафе и немо вопрошаю официанта: не было?
На это он только разводит руками и виновато улыбается.
– Я упустил его, – жалуюсь я Настеньке.
– Да черт с ним, с твоим хромым… Найдешь себе слепого.
Я злюсь на Настеньку.
Поздним вечером я пытаюсь написать его портрет, рисую его, так сказать, внутренний мир, рассказывая о нем Настеньке и вызывая ее недовольство. Но мне не с кем больше поделиться своими горестями.
Я упрямо творю своего героя, мучая свое воображение, и твердо знаю, что без встречи с ним я обречен на неудачу. Все мои потуги шатки, хилы, хлипки…
Ночью я пишу, а утром, прочитав, рву написанное.
Я встречаю его к исходу второй недели поисков. Он сидит за нашим столиком на моем стуле и вяло тянет свое пиво. Я замечаю его с улицы через окно, спешу к нему и готов расцеловать.
– Ты где пропадал? Привет…
Я сердито набрасываюсь на него, как на старого знакомого, зло упрекаю тоном и всем своим видом: что ты себе позволяешь?..
Мое “ты” его не ошеломляет, а на рассерженный вид, как я вскоре понимаю, ему начихать. На приветствие он все-таки отвечает кивком головы, но вопрос оставляет без ответа.
– Ты есть хочешь? Я угощаю.
Ну и несет же от него.
– Можно…
Это его басистое “можно” просто ласкает слух. Я его расшевелю! Я уже знаю, на какой крючок его поймать, какую наживку ему подкинуть – мясо! Почему я думаю, что он всегда голоден? Я заказываю традиционный графин вина и три порции мяса. Ему – две. Я не знаю, есть ли у него дом, семья, и готов привести его к себе, только бы он не сбежал. Мне нужно, чтобы он хоть немного приотворил окошечко в свой мир.
– Так где же ты пропадал? – повторяю я свой вопрос, располагаясь поудобнее и заглядывая ему в глаза.
Теперь и он какое-то время рассматривает меня. На вопрос не отвечает. Какое ж, однако, удовольствие видеть его живым-здоровым. Нет ничего проще, чем выдержать этот холодный взгляд и равнодушно осведомиться, например, о роде его занятий.
Должна же быть у моего героя какая-то профессия.
– Еще пива? – неожиданно для себя спрашиваю я, чувствуя какую-то растерянность под его спокойным нелюбопытным взглядом.
– Что это вы расщедрились? – первый его вопрос. И голос у него такой же ровный и спокойный, как взгляд, с какой-то весенней хрипотцой, приятный баритон, даже бас.
Почему этот голос и этот взгляд держит меня в таком напряжении?
– Мне кажется, – произношу я, – что от порции хорошего мяса вы не откажетесь. Вот только платить вам нечем.
Он не принимает мое “ты”, не подпускает к себе. Не надо. Зато я попадаю в десятку. Для мужчины нет, вероятно, ничего страшнее, чем объявить ему о несостоятельности. На какую-то секунду он замирает, пальцы левой руки перестают барабанить по столу, он закрывает глаза и опускает лицо. Я жду ответного удара, я готов, я только делаю вид, что ищу глазами официанта. Наконец мой герой поднимает голову и медленно, чересчур медленно, поворачивает лицо в мою сторону.
“Эй, официант!”
Я не произношу этого, а только поднимаю правую руку и щелкаю пальцем. А мой герой поднимает веки. Веко. Одно веко, затем, с отставанием на какую-то секунду, поднимается и другое. Это производит впечатление открывающихся глаз у куклы с испорченным механизмом. Жуткое впечатление, так как я вижу живые, черные, широко посаженные глаза, спокойно наполняющиеся злой ненавистью, глаза с тихим блеском презрения. Я задел его за живое, я рад этому. Только бы он не ушел. Чтобы он остался сидеть, я, не оглядываясь, иду к бармену за сигаретами. Я оставляю его одного, чтобы своим уходом ему некому было высказать презрение. Перекинувшись словцом-другим с барменом, я закуриваю и, сощурив глаза от дыма, искоса ищу взглядом своего гордеца. Он сидит как сидел. Со стороны его мохнатая голова кажется черной дырой в стене. Надо быть с ним помягче, решаю я, пообходительней. Струнки гордости такие тонкие, а души гордецов такие ранимые, это я знаю. Это знают даже официанты.
Подойдя, я предлагаю ему сигарету, и он берет. Тут же подвешивает ее на свою сочную нижнюю губу и, выудив из кармана куртки спичечный коробок, прикуривает. Он с наслаждением втягивает в себя первую порцию дыма, так что, кажется, нет в мире ничего слаще. Все складки его лица и на лбу, и у глаз разом расправляются, веки падают, и на какую-то секунду он замирает. Затем, ни облачка не выдохнув из себя, он снова припадает к сигарете, долго, очень долго пьет ее дым, как из целебного источника, распаляя ее жар и вздымая свою огромную грудь… как же давно он не курил!..
Я тоже закуриваю. Он роняет пепел на куртку, но не замечает этого. Когда он наконец открывает глаза и смотрит на меня, я делаю вид, что изучал меню. А он делает выдох, медленный длинный выдох и теперь тщательно стряхивает пепел с борта куртки. И снова припадает к сигарете.
Официант приносит долгожданное мясо. Я тоже голоден и с аппетитом набрасываюсь на еду, а он берет графинчик и наливает в фужеры вино.
– Ах, да… – произношу я, – конечно…
Мы не чокаемся, а лишь приветствуем друг друга поднятием рук с фужерами и выпиваем без тоста. Едим молча. Я еще не слышал от него ни единого слова. Его “можно”, которым он признал свой голод, для меня, как мычание мула. Может ли он связать два-три слова в мало-мальски простое предложение, я не знаю. Хотя его черные глаза излучают свет и выказывают просто недюжинный ум и какую-то твердую решимость на покорение его души.
– Вы художник…
– Еще винца? – спрашиваю я и вижу, как его рука уже тянется к графину.
– Вы, добрая душа, со всеми так щедры? – неожиданно произносит он, наполняя свой фужер. – А знаете, вы мне нравитесь. Вам что-нибудь от меня нужно?
– Признаться честно – да…
Я произношу это не раздумывая, зажатый в угол его простым вопросом, перечеркнувшим все мои старания, мои тайные планы.
– Да, в общем…
– Писатель…
– Ну не так, чтобы…
Мне не нужно теперь ловчить и ерничать, как-то хитрить и что-то там придумывать, чтобы сблизиться с ним. И я благодарен ему за это: так – куда легче, так проще…
Официант приносит мои любимые колбаски с острым соусом, а мы еще не управились с мясом. Правда, мой собеседник уже разделывается со второй порцией и с удовольствием посматривает на колбаски. Кажется, он вот-вот отшвырнет нож и вилку и, потирая руки, набросится на аппетитно поблескивающие, ароматные мясные поджарыши.
– Ну, знаете… – только и произносит он.
Давно же он не ел так много и так вкусно. Я уже готов спросить, как его зовут.
– Знаете, ваша щедрость несколько настораживает, – говорит он и отпивает глоток вина, – что же вам от меня нужно?
– Да в общем-то ничего особенного. Так что можете не беспокоиться.
– Еще вина?
Официант, выжидательно замер в полуобороте.
– Да, пожалуй…
Мой герой смотрит на меня вопросительно, затем спрашивает:
– Вы ведь не возражаете?
– Разумеется…
Мне нравится веселость, с которой он произносит слова. Я рад, что расшевелил его, расшевелил-таки, и мясо здесь сыграло не последнюю роль.
Я собирался узнать его имя.
– Значит, вы писатель… Что же вы написали?
Его вопросы в лоб обескураживают меня.
– Да так…
– Можно узнать ваше имя?
– Я пишу под псевдонимом…
Барабаня пальцем по столу, он какое-то время молчит, затем произносит: