Познание России. Заветные мысли (сборник) Менделеев Дмитрий
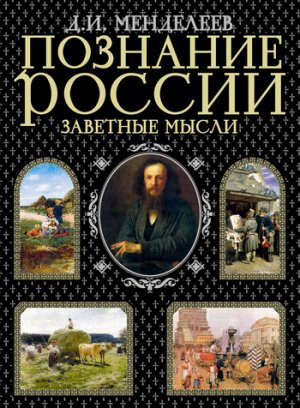
Кроме лекционного ассистента (или, как тогда называли, лаборанта) Д. П. Павлова, у Менделеева был еще личный ассистент В. Е. Павлов. С осени 1884 г. В. Е. Павлов получил место доцента по кафедре аналитической химии в Московском высшем техническом училище, а на его место Дмитрий Иванович пригласил и провел через факультет меня. Таким образом, с конца сентября 1884 г. началась моя служба в его лаборатории. Личным ассистентом я пробыл у Менделеева два года.
В ноябре 1886 г. Д. П. Павлов уехал на место профессора в Институт сельского хозяйства в Новую Александрию, и Дмитрий Иванович передал мне его обязанности лекционного ассистента и заведующего хозяйством лаборатории. Вместе с этими обязанностями я получил и квартиру Д. П. Павлова, которая находилась через стенку от лаборатории Менделеева, рядом с его кабинетом.
Теперь мне пришлось еще ближе познакомиться с Дмитрием Ивановичем, так как три раза в неделю бывали лекции, да, кроме того, приходилось часто беседовать по делам лаборатории.
Надо признаться, что ассистировать на его лекциях было нелегко не потому, что это требовало много труда, а из-за нервной, беспокойной натуры Дмитрия Ивановича. На лекциях он нервничал, все боялся, что опыт не удастся, особенно в первый год моего ассистенства, пока не убедился в моем умении экспериментировать. Когда он замечал, что опыт ведется не так, как он привык, он подходил и шепотом, который был слышен во всей аудитории, делал мне замечания. Я по неопытности успокаивал его, что опыт выйдет, а студентов эти разговоры приводили в веселое настроение, и они иногда смеялись. Один раз после лекции Дмитрий Иванович мне и говорит: «Привыкните вы, ради Бога, на лекции ничего не говорить: ведь это их (т. е. студентов) развлекает».
Членский билет Русского химического общества, выданный Д. И. Менделееву
После этого я молчал на кафедре как рыба; что бы он мне ни говорил, я делал свое дело, и никаких недоразумений у нас не было, тем более что и неудачи у меня случались крайне редко. В этих случаях Менделеев объяснял студентам причину неудачи и заставлял меня повторить опыт. Этим все и ограничивалось; после лекции выговоров или упреков он не делал, хорошо понимая, что неудача чисто случайна.
В качестве руководства, как производить опыты на лекции, у нас была тетрадь с подробным описанием всех мелочей. Это описание было составлено первым ассистентом Дмитрия Ивановича — Г А. Шмидтом, которого Менделеев очень ценил, и пополнена Д. П. Павловым. В случае недоразумения, так ли я производил опыт, как нужно, стоило сказать, что так в тетрадке написано, — Дмитрий Иванович успокаивался.
Другой опорой для меня был мой помощник, старинный служитель, Алексей Петрович Зверев, которого мы звали просто «Алеша». Он получил крепкую выучку у Г. А. Шмидта и в точности помнил, какую колбу, реторту, схватку и пр. надо взять для каждого опыта, чтобы поставить его так, как привык Дмитрий Иванович. Все непривычное Дмитрия Ивановича нервировало, портило настроение, нарушало ход мыслей. Я это понимал, и не обижался ни на какие, иногда и резкие, замечания.
К лабораторным делам тоже надо было приспособиться. Вначале я пытался спрашивать у Дмитрия Ивановича разрешение на какие-нибудь более крупные траты, на ремонт в лаборатории, но большею частью получал отказ. Потом я стал действовать по собственному усмотрению, и Менделеев только был доволен, что я не занимаю его пустяками. А один раз он сам мне говорит: “Если вам что-нибудь понадобится делать, никогда не просите разрешения, потому что тот, у кого вы просите, сейчас подумает: «А, если он просит разрешения, значит, не уверен, что действует правильно», — и, конечно, откажет”.
К лекциям Менделеев в эти годы уже не готовился, но ассистентам вменялось в обязанность отмечать, на чем он в последнюю лекцию остановился. Он читал обычно два часа подряд с перерывом не более 15, а под конец года 10 мин., чтобы непременно полностью закончить курс. Так как он долго засиживался за работой по ночам и мог проспать, то в те дни, когда лекции начинались с 9 часов, наказывал Алеше будить его в 9 часов 5 мин., если сам не придет, и тогда, еле умывшись, одеваясь на ходу, быстро поднимался по лестнице, также на ходу спрашивал меня: “На чем остановился?” — и, выйдя на кафедру, обычным тоном начинал лекцию.
Однако не надо думать, что ему это чтение легко давалось. Он говорил, что читать лекции — самое трудное дело. Оно требовало сильного умственного напряжения и в связи с духотой переполненной аудитории сильно утомляло. Усталый, потный он выходил из аудитории. Чтобы не простудиться на холодной лестнице по дороге в свою квартиру, он надевал осеннее пальто, которое ему приносил Алеша, и с полчаса, а иногда и более сидел в препаровочной, покуривая папиросы, которые тут же крутил, и благодушно разговаривал.
Темы этих разговоров были самые разнообразные: новости химической науки, воспоминания старины, наши университетские и лабораторные дела, ученые диспуты, магистерские экзамены, работы нашей лаборатории и т. д., вплоть до домашних дел.
В эти годы в химическом мире животрепещущей темой была теория электролитической диссоциации, с которой Менделеев не мог примириться. Он не допускал того, что натрий может быть в воде и не действовать на воду. Он говорил, что состояние молекул соли в растворе, через который идет ток, в котором они располагаются в определенном порядке, нельзя приравнивать к состоянию их в растворе без тока, где они толкутся в полном беспорядке: “Это все равно, как если бы меня взять да вот так прилизать или вот этак растрепать. Ведь ничего похожего”.
Органической химией Дмитрий Иванович в то время мало интересовался, и его не удовлетворяла теория строения. Бутлеров принимал ее как схему, выражающую отношение атомов в молекуле, а Менделеев считал, что надо говорить не о схеме, а о реальном расположении атомов в пространстве. Он считал, что ньютоновскому закону тяготения подчинен также и мир атомов и молекул, почему не мог допустить того, чтобы легкий атом углерода мог удерживать четыре тяжелых атома хлора, брома или йода. Он не считал правильными структурные формулы, изображаемые на плоскости, потому что в действительности атомы должны быть расположены в пространстве. Поэтому он приветствовал стереохимию. Возвратившись из Англии со съезда Британской ассоциации, он с оживлением рассказывал о том, какой интересный доклад о стереохимии этиленовых углеводородов сделал И. Вислиценус в развитие идей Лебеля и Вант-Гоффа.
Из прошлого Менделеев любил вспоминать знаменитый конгресс в Карлсруэ, на котором он присутствовал и где были твердо установлены основные химические понятия об атоме и молекуле. Охотно вспоминал свое первое пребывание за границей в 1859–1860 гг., когда он работал в Гейдельберге, бывал в Париже и путешествовал по Европе. Другом его молодости по Гейдельбергу был профессор Э. Эрленмейер. Про него Менделеев рассказал мне один интересный эпизод.
В Гейдельберге во время какого-то съезда был устроен маскированный вечер, где дамы были в черных масках и, как говорили в старину, “интриговали” кавалеров. Дмитрию Ивановичу приглянулась одна стройная особа. Он предложил ей руку и в интересном разговоре с ней провел вечер. Наконец попросил снять маску, и оказалось, что это не дама, а Эрленмейер. Вспоминая это, Менделеев от души хохотал: «Как он меня заинтриговал!»
В эти же годы начался разговор о постройке новой лаборатории. Менделеев подал об этом записку в совет университета, потом она пошла в министерство, но денег на постройку лаборатории не ассигновали. Желая утешить нас, Дмитрий Иванович говорил, что не в новых стенах дело: «Вот Мариньяк, когда работал в подвале, какие отличные работы делал, а выстроили ему дворец — и работать перестал».
Более близкие нам свои университетские темы касались нашего Химического общества, докладов, сделанных на заседаниях, магистерских и докторских диспутов, которые у нас бывали довольно часто, работ молодых химиков и пр.
В 1888 г. я начал готовиться к магистерскому экзамену и так же, как мои товарищи, находился в затруднении, что именно и в каких размерах проходить к экзамену, так как никакой программы нам не давали. В подходящий момент после лекции я спросил Менделеева, что нужно к экзамену, в каком объеме требуется знание новейшей литературы, которая так быстро растет. Он мне ответил: “На то вы и магистрант, чтобы понимать, что нужно и что не нужно”. А потом, немного подумав, прибавил: “Для магистерского экзамена нужно то же, что для студентского — кандидатского, только вот с какой разницей. Если, например, студента спросят о гликолях, то ему достаточно ответить, что представляют из себя гликоли, каковы их свойства и реакции, а магистрант должен еще прибавить: «как, зачем, почему, когда»”. Подробнее он не объяснял, предоставив мне самому разобраться в смысле этих четырех слов.
Вообще Менделеев не любил многословия, любил быстрые, краткие и четкие ответы.
Разговоры на бытовые темы бывали самые житейские, вплоть до блинов на Масленице, о которых он говорил: “Люблю я их, проклятых, хоть они мне и вредны”. Надо сказать, что в еде и питье он был очень умерен.
Из этих послелекционных разговоров я узнал от Менделеева и такие сведения, о которых никогда не решился бы и спросить. Например, в обществе, а особенно между студентами было распространено мнение, что Дмитрий Иванович загребает огромные деньги, что он подделывает вина братьям Елисеевым, что получил огромные деньги от нефтяника В. И. Рагозина.
На самом деле это было совсем не так. С Елисеевыми он даже знаком не был и вин никому никогда не подделывал. У Рагозина действительно работал. Но за работу с 15 мая по 15 сентября на Константиновском заводе, включая сюда и поездку за границу для изучения производства вазелина (себонафта), получил всего 3000 руб. Это Менделеев-то, с его мировой известностью! А когда Рагозин, не имея достаточных капиталов, стал звать Менделеева в очень крупное предприятие, он наотрез отказался. И на этом деле Рагозин скоро обанкротился.
Вообще Менделеев избегал ввязываться в промышленные дела, чтобы оставаться вполне свободным и беспристрастным в своих суждениях и действиях. Больших денег он тоже избегал: “Много дадут и много стребуют”. Расходы у него были большие (на две семьи), а доходы, кроме казенного жалованья и пенсии, — только литературный труд, главным образом “Основы химии”.
Интересно рядом с этим указать, как оплачивались в то время известные английские химики. Это тоже рассказывал мне Дмитрий Иванович.
В одну из поездок его в Англию, на товарищеском обеде профессор Роско спросил Менделеев, сколько жалованья он получает в России. Дмитрий Иванович хотел уклониться от ответа, а Франкланд, который сидел рядом, и говорит: “Скажите ему, но с тем, что он сам скажет, сколько он получает. Этого мы не знаем, а нам очень интересно”. Оказалось, что Роско получал в общей сложности 30 тыс. фунтов (300 тыс. рублей) в год. “А вот Дьюар, который, вероятно, немного старше вас, — прибавил Дмитрий Иванович, — получал 7 тыс. фунтов (70 000 рублей)”. У нас же в то время профессор, выслуживший 35 лет, получал 3000 руб. пенсии и 1200 руб. добавочных, если читал лекции.
То, что Менделеев считал нужным и правильным, он проводил упорно, настойчиво, можно сказать, не жалея самого себя. Он писал обстоятельные докладные записки министрам и даже царям, добивался приемов у министров, чтобы лично убеждать их, выступая в собраниях и т. д. Не всегда, конечно, ему удавалось добиться успеха, иногда приходи — лось терпеть неудачи, уколы самолюбия, но это его не останавливало. Помню один из таких случаев, который оставил у меня очень неприятное впечатление.
Это было в 1886 г., в год тяжелого нефтяного кризиса, когда цена на нефть на промыслах упала до 4 коп. за пуд. Базируясь на том, что грозит быстрое истощение бакинской нефти и что нужно более бережное ее расходование, крупные нефтепромышленники, с Нобелем и Рагозиным во главе, возбудили перед правительством вопрос о необходимости правительственного налога на сырую нефть в размере 15 коп. с пуда нефти. Введение налога грозило повышением цен на нефтепродукты, а главным образом было направлено к тому, чтобы убить конкуренцию мелких промышленников.
Для обсуждения этого предложения была образована при Министерстве государственных имуществ комиссия из представителей нефтепромышленности и специалистов от Горного департамента. Менделеев вошел в состав комиссии как представитель от Министерства государственных имуществ. Заседания происходили каждую неделю в течение марта. На эти заседания Дмитрий Иванович брал меня с собой, чтобы я записывал содержание прений и, не дожидаясь стенограммы, передавал ему на случай, если к следующему заседанию понадобится написать возражение.
Нобель и Рагозин представили обширные доклады, защищая налог. Менделеев считал, что мнение о скором истощении нефти на Апшеронском полуострове неправильно, и был противником налога. Чтобы доказать вред налога, он составил алгебраическую формулу, в которой буквами обозначил цены нефти, рабочих рук, транспорта и пр., из которых слагается цена готового продукта (керосина и мазута), и старался показать, что, как бы ни менялись условия производства, введение налога невыгодно отразится на дальнейшем развитии промышленности и на потребителях. Он доказывал, что спасение от кризиса не в налоге, а в более полной и рациональной переработке нефти, как ценного химического сырья, и в постройке нефтепровода из Баку в Батуми, чтобы дать выход нашей нефти на мировой рынок.
Доклад вышел несколько длинен и, видимо, утомил слушателей. Этим ловко воспользовался Рагозин. Он начал едко нападать и высмеивать Менделеева. Дмитрий Иванович не выдержал и сделал замечание. Тогда Рагозин обратился к нему и резким, вызывающим тоном, отчеканивая каждое слово, говорит: “Когда вы о своих «альфа» да «фи» говорили, я молчал, так дайте же мне теперь о нефтяном деле говорить”. Менделеев смолчал. Закончил Рагозин свое возражение так: “Нам все говорят: ничего вы не понимаете, ничего не умеете. Да мы не о тех будущих знатоках говорим, которые пишут на бумаге, мы о себе, дураках, говорим. Ведь если мы к каждому аппарату по профессору поставим, так этого никакая промышленность не выдержит”.
Я ждал, что Дмитрий Иванович вспылит и отчитает Рагозина. Но он промолчал, видно, нашла коса на камень. На другой день он объяснил свое молчание. “Ведь он мой характер знает и нарочно дразнил, чтобы я глупостей наговорил. А я это понял”.
Это был единственный на моей памяти случай, когда Менделеев уступил. Обычно он в спорах был очень упорен, беспощаден к противнику. “Если меня заденут, я спуску не дам”. На диспутах он был грозою для диспутантов, особенно если диспутант уклонялся от прямого ответа.
Дмитрий Иванович умел и похвалить диспутанта, а иногда и сильно раскритиковать. Его выступления на диспутах привлекали особенное внимание присутствующих.
В среде студенчества Менделеев пользовался огромным уважением и популярностью. Но эта популярность приносила и тяжелые минуты. К нему студенты обращались за помощью во время политических или академических выступлений, прося передать высшему начальству их пожелания, “петиции”.
Последняя из этих петиций и была причиною его ухода из университета.
Дочитав свой последний курс, Дмитрий Иванович заперся дома, никуда не выходил, никого не принимал. Потом стали ходить слухи, что он начал ездить к министрам. Все были очень заинтересованы, что он затевает? На третий день Пасхи вечером он зовет меня к себе. Застаю его на обычном месте, на диване перед маленьким столиком, на котором он обыкновенно писал. По другую сторону столика сидит художник И. И. Шишкин. На столике лист бумаги, вкривь и вкось исписанный отдельными словами.
Дмитрий Иванович встретил меня очень радушно, познакомил с И. И. Шишкиным и говорит: “Задумал издавать большую газету. А вас, конечно, в редакцию”. Я увидел, что он в таком хорошем настроении, и отказываться не стал.
“Вот мы с Шишкиным придумываем, какое название дать газете. Хотел назвать «Русь», да ее уже Аксаков издавал; хорошее название «Основа», как «Основы химии», оказалось тоже была. «Порядок» — Стасюлевич издавал. Теперь придумал «Подъем», это еще не было”.
Вот ради разрешения на издание газеты он и ездил по министрам. Однако Делянов и тут ему помешал, соглашался дать разрешение на издание не литературно-политической, а только промышленной газеты и то с предварительной цензурой.
После пасхи Менделеев как-то раз зашел в лабораторию. Был в хорошем настроении, сел поговорить. Я спросил о газете. “Деляныч не разрешил. Да я и рад. Это дело не по мне: ведь это ни днем, ни ночью покоя не было бы”.
Спустя несколько дней ко мне пришел профессор минного офицерского класса в Кронштадте Иван Михайлович Чельцов, специалист по взрывчатым веществам, и рассказывает, что морской министр поручил ему организовать в Петербурге лабораторию по исследованию порохов и взрывчатых веществ, имея в виду главным образом разработку бездымного пороха, на который в то время переходили все государства Европы. Ввиду важности этого дела министр предложил И. М. Чельцову привлечь к нему в качестве консультанта кого-нибудь из видных химиков. Кого выбрать, об этом Чельцов и пришел посоветоваться. Ему хотелось иметь такого консультанта, который мог бы выступать в высших сферах. Имена, которые он называл, показались мне не подходящими. Тогда я ему посоветовал: “Просите Дмитрия Ивановича”.— “А вы думаете, он пойдет?” — “Попытайтесь”.
Чельцов тотчас пошел к Менделееву и скоро возвратился сияющий: “Согласился”.
А Дмитрий Иванович не только согласился, но сейчас же с обычным своим увлечением принялся за дело. Он с утра до вечера работал в лаборатории, изучая процесс нитрации на разнообразных материалах. Брал хлопок (гигроскопическую вату), “концы” с текстильных фабрик, льняные ткани и пр. Несмотря на то, что он пользовался самыми примитивными средствами — термометром, ареометром, несколькими стаканами для нитрации, несколькими фотографическими кюветками для промывки да лакмусовой бумажкою, он удивительно быстро ориентировался в деле нитрации и определил, что устойчивая нитрация идет до определенного предела, а дальше происходит разнитровывание при промывке. Это послужило началом обширных работ целой лаборатории, которые закончились выработкой типа бездымного пороха, пригодного для всякого рода оружия.
Летом 1890 г. Менделеев выехал из университета на частную квартиру (угол Кадетской линии и Среднего проспекта, дом Лингена). Теперь я встречал его только в Химическом обществе, да изредка заходил навестить ненадолго, чтобы не отнимать у него драгоценного времени. И здесь, и в Главной палате мер и весов, куда он позднее переехал, его кабинет был рядом с прихожей, и дверь приоткрыта. Услышав, что кто-то пришел, он громко спрашивал: “Кто там?” Неопытный посетитель отвечал: “Это я, Дмитрий Иванович”. — “Ну, я знаю, что «я», да кто вы?”
Надо было сразу назвать фамилию. Дмитрий Иванович встречал очень радушно, угощал своими папиросами (не любил запаха чужого табака), расспрашивал об университетских новостях, Химическом обществе, сам рассказывал много интересного. Время летело незаметно. Посмотришь на часы — уже 12. Скорее домой. А у Дмитрия Ивановича еще корректура, которую надо утром отослать.
Нас, своих товарищей по университетской лаборатории, Менделеев встречал, как своих близких, старался поддержать в трудные периоды жизни, которые у всякого бывают. Был такой период и у меня. По разным причинам у меня очень затянулось дело с получением степени магистра, а это мешало моему движению вперед по ученой дороге. Мало-помалу я стал приходить к сознанию, что надо мне менять ученое поприще на другое, более доступное и материально обеспеченное.
Об этих соображениях как-то при случае я сообщил И. М. Чельцову, с которым мы были друзья. Вскоре после этого я зашел к Дмитрию Ивановичу. В разговоре он меня очень осторожно спрашивает: “Скажите, пожалуйста, вот мне Чельцов говорил, что вы хотите, так сказать, свое амплуа переменить? Правда это?” — “Да, я ему об этом говорил”. — “Что ж, вы это благоразумно придумали… не потому, что вам не добиться профессуры, а потому, что это возьмет у вас очень много сил и не окупится результатом. Ведь это прежде, когда я выступал, жалованье профессора в 3000 руб. так обеспечивало, что я мог даже лакея держать — вот Алешу взял. А теперь разве это так обеспечивает? Если бы я был министром, да мне предложили бы сказать, сколько надо дать профессору, я бы сказал: не менее 10 000 руб. Посторонние заработки, литературные или консультацию, теперь тоже достать гораздо труднее. На литературные — народу много народилось, а в консультации профессора надобности гораздо меньше. Прежде профессор с общей подготовкой мог быть везде ценным советчиком, а теперь на любом хорошем заводе есть такие специалисты, что и профессора за пояс заткнут.
А общественное значение профессоров? Прежде к их мнениям прислушивались, а теперь кто на них обращает внимание? Вам, конечно, торопиться некуда, подходящее место найдется — да хоть у нас в Палате. А если от науки оторваться не хотите, то ведь наукой заниматься можно везде. Наука — это такая любовница, которая вас везде обнимет, — только сами-то вы ее от себя не оттолкните”.
Эти мысли он развивал и далее, а под конец у него прорвалось: “Давно я вам говорил: пишите скорее диссертацию”. Я понял, что весь предыдущий разговор был для того, чтобы меня ободрить, помочь мне решиться на новый шаг; но как раз наоборот он помог мне, во что бы то ни стало пробиваться по прежнему пути.
Этот случай лишний раз показывает, что под суровой на вид внешностью у Дмитрия Ивановича скрывалась редкая доброта к людям. Сколько людей приходило к нему с разнообразными просьбами, и он всегда старался удовлетворить; пошумит, поворчит, а отказать не может. Кто только к нему ни обращался письменно за советом, указаниями, а иногда и материальной помощью. Он всегда старался дать ответ; если не мог это сделать сам, поручал ассистенту. И мне приходилось исполнять такие поручения. Конечно, нельзя отрицать, что нрав у него был крутой, но он был вспыльчив, да отходчив. Слушать его крик, воркотню было иногда нелегко, но мы знали, что он кричит и ворчит не со зла, а такова уж его натура. Вероятно, в шутку он говорил, что держать в себе раздражение вредно для здоровья; надо, чтобы оно выходило наружу. “Ругайся себе направо-налево и будешь здоров”.
Еще Дмитрий Иванович не один раз говорил: “Я ведь не из этих, нынешних, которые мягко стелют”. Мы, сотрудники его очень любили, уважали и на его крик не обижались. Он был требователен к своим сотрудникам, но еще более требователен к самому себе.
Как-то сильно накричал на Зверева. Я его и спрашиваю: “Что, Алеша, досталось?” А он говорит: “Да ведь он только кричит, а сам добрый”. Менделеев очень привыкал к своим сотрудникам, служителям, домашней прислуге и не любил их менять. У него был постоянный портной, сапожник, переплетчик, типография и пр.
Несмотря на крутой нрав, в нем не было барства. Он одинаково относился к товарищу профессору, ассистенту, служителю.
Проведя детство на заводе и в сельской обстановке, он привык ценить физический труд, с уважением относился к крестьянам и рабочим. Одинаково он относился и к людям различных национальностей, лишь бы был дельный человек.
Как все большие, сильные люди, Менделеев очень любил детей. “Люблю их за их чистоту”,— писал он в одной из своих записных книжек. Один раз вечером, когда я сидел у него, маленькая дочка его Муся пришла прощаться с ним перед сном. Он расцеловал ее, потом пошел уложить в постель и, когда вернулся на свое место, сказал: “Много испытал я в жизни, но не знаю ничего лучше детей… Конечно, сама природа заставляет их на свет производить”.
Дмитрий Иванович Менделеев был великий, гениальный человек и, как большинство великих людей, великий труженик. Атрудился он действительно не жалея себя.
Д. И. Менделеев среди участников 57-го съезда Британской ассоциации содействия развитию наук. Сидят (слева направо): Н. А. Меншуткин, Д. И. Менделеев, Г. Роско. 1887 г.
Помню такой случай. В 1886 г. он очень торопился закончить свой большой труд “Исследование водных растворов по удельному весу". Чтобы ему не мешали многочисленные посетители, он из своего домашнего кабинета переселился в кабинет при лаборатории и работал там с утра до вечера в течение всего года. Его кабинет освещался сильной газовой лампой. В этом же году я состоял помощником делопроизводителя Химического общества и за корректурой журнала сидел иногда до 4–5 час. ночи. Кабинет Дмитрия Ивановича отделялся от моей квартиры тонкой переборкой. Как-то раз, уже в 4 часа ночи, слышу в кабинете его крик. Я взглянул в окно, вижу: снег в саду сильно освещен; испугался, не пожар ли. Иду в кабинет. А Менделеев сидит на своем обычном месте, никакого пожара нет — это был свет от сильной лампы. Спрашиваю, что нужно ему.
“Да вот велел Алеше чаю принести, а он не несет". — “Дмитрий Иванович, да ведь уже пятый час утра", — “О Господи. А я после обеда (в 6 час. веч.) пришел да и задремал".
Это уже сказалось сильнейшее переутомление.
Труд Менделеев ставил выше всего. Он не любил, когда его называли гением. “Какой там гений! Трудился всю жизнь, вот и стал гений"».{243}
Тищенко В. Е. Воспоминания о Д. И. Менделееве.
Природа. 1937, № 3, с. 127–136.
«В первый раз я услышал имя Менделеева в 1886 г. Я был тогда в шестом классе Курской гимназии.
Однажды мне один товарищ (И. А. Федоров) говорит: “Мой старший брат был в Петербургском университете на естественном факультете, но потом он перешел на другой факультет, и его книги остались у меня; среди них есть университетский курс химии, если хочешь, возьми его себе".
“А чья это химия?" — спрашиваю я. “Какого-то Менделеева, — говорит он, — ты его не знаешь?" — “Нет, — говорю, — не знаю". В тот же день я получил эту химию и вечером стал ее читать. Это были “Основы химии" Д. Менделеева, 3-е издание 1877 г. Я не мог оторваться от этой книги до поздней ночи, я был потрясен, я был взволнован; я был подавлен величием и грандиозностью той науки — настоящей, полной и глубокой науки, которая излагалась в этой книге, и она сделалась моей настольной книгой. Я ее постоянно читал и перечитывал самым внимательным образом с величайшим прилежанием, я ее систематически изучал и углублялся в нее все более и более, старался усвоить ее как можно лучше, и тогда у меня окончательно созрела мысль сделаться химиком. Я принял твердое решение: по окончании гимназии поступить в Петербургский университет, чтобы слушать лекции самого Менделеева и учиться у него химии. Я так и сделал и по окончании гимназии в 1889 г. поступил в Петербургский университет…
Выполнив все необходимые для зачисления в студенты формальности, я с нетерпением ожидал начала занятий (назначенного на 31 августа), и первая лекция, которую мне пришлось выслушать, была лекция по неорганической химии Д. И. Менделеева. В это время, в 1889 г. имя Менделеева уже пользовалось мировой известностью, но в Петербургском университете оно было предметом совершенно исключительного почитания и среди профессоров и особенно среди студентов. Периодический закон Менделеева, предсказавший с поразительной точностью свойства неизвестных ранее элементов галлия, скандия и германия, к этому времени уже открытых, составил эпоху в истории и вызвал изумление всего мира.
Будучи общепризнанным выдающимся гениальным ученым, Д. И. Менделеев в то же время был известен как человек душевных исключительных качеств, с мужественным и неустрашимым характером; всецело преданный делу науки и стремлению к истине, ради которых был способен на геройские подвиги, даже с опасностью для своей жизни. Это с особенной яркостью проявилось в его знаменитом полете на воздушном шаре во время солнечного затмения 7 августа 1887 г., когда он поднялся в верхние слои атмосферы для некоторых наблюдений во время затмения… Это был, конечно, очень рискованный поступок, но, к счастью, все кончилось благополучно: шар опустился в нескольких десятках километров от места полета, и на другой день Менделеев возвратился по железной дороге через Москву в Клин, где он тогда жил. Одновременно с московским поездом к Клину подошел и петербургский поезд, и собравшиеся на станции пассажиры и местные жители устроили Менделееву восторженную встречу и шумные овации. В числе присутствующих находился и мой брат, который ехал из Петербурга в Курск и который мне подробно обо всем этом рассказал через два дня под свежим впечатлением всего виденного. Много позже я познакомился и довольно часто встречался с Кованько, который был уже генералом, и от него я также узнал много подробностей об этом удивительном эпизоде из жизни Менделеева. При этом он мне говорил, что полет этот был действительно очень опасным для Менделеева и со стороны Менделеева являлся настоящим геройским подвигом. В Петербургском университете полет Менделеева был всем хорошо известен и еще больше способствовал его популярности.
К этому надо добавить, что летом 1889 г. состоялись два Лондонских чтения Менделеева: одно в Королевском обществе, другое — Фарадеевское чтение в Британском химическом обществе. На эти чтения приглашались только самые выдающиеся ученые, и эти приглашения для ученых считались величайшей честью.
Вполне понятно, что все эти обстоятельства создавали особую возбужденную атмосферу для первой лекции Менделеева, и задолго до начала ее не только 7-я аудитория, в которой читал свой курс Менделеев, но и прилегающие к ней помещения были переполнены оживленной и шумной толпой студентов всех факультетов и всех курсов, которые, по примеру прежних лет, собрались на вступительную лекцию, чтобы выразить чувства своего восхищения и преклонения любимому профессору, гордости Петербургского университета, красе русской науки — Дмитрию Ивановичу Менделееву. В этой взволнованной, возбужденной и радостной толпе студентов находился и я; мы с нетерпением ожидали появления Менделеева. В соседнем помещении, в котором была препараторская и откуда дверь выходила непосредственно на кафедру, послышались негромкие шаги, в аудитории воцарилось глубокое молчание, и в двери показалась величавая фигура Менделеева, немного сутуловатая. Длинные седые волосы, ниспадавшие с головы до самых плеч, и седая борода окаймляли его серьезное и задумчивое лицо с сосредоточенными проникновенными глазами. Я до сих пор не могу забыть того, что тогда произошло. Казалось, здание готово было обрушиться от грома приветствий, возгласов, рукоплесканий; это была гроза, это был ураган. Все кричали, все неистовствовали, все старались, возможно, сильней и полней выразить свой восторг, свое восхищение, свой энтузиазм. Никогда нельзя забыть тех переживаний, которые тогда пришлось испытать. По мере того, как это происходило, Менделеев хмурился все больше и больше, махал обеими руками, чтобы прекратить приветствия и успокоить аудиторию. Шум не прекращался, Менделеев перестал размахивать руками, нахмуренное лицо его стало проясняться — и вдруг озарилось светлой улыбкой, и тогда восторг слушателей достиг высшей степени. Наконец, понемногу все затихло и успокоилось, и Менделеев начал свою лекцию и приступил к изложению своего курса, который (увы!) он читал последний раз в стенах Петербургского университета. Надо было видеть тот энтузиазм, с которым был встречен Менделеев, чтобы почувствовать, что он был и великий ученый и великий человек. Он неотразимо действовал на всех и привлекал умы и сердца тех, кому с ним приходилось встречаться.
Началась правильная систематическая работа в университете, и я, конечно, с исключительным вниманием слушал лекции Менделеева. Я был счастлив, что “Основы химии” я узнаю не из книги, а слушаю в живом слове самого автора — творца основ химии и периодического закона, и должен сказать, что действительно Менделеев читал свои лекции совершенно необычным, глубоким и проникновенным образом. По своему построению и содержанию лекции его в 1889–1890 гг. вполне соответствовали “Основам химии” в тех изданиях, которые появились до этого времени… С внешней стороны речь Менделеева не отличалась совершенной безукоризненностью и гладкостью изложения, особенно в начале, когда у него были некоторые остановки и заминки в подборе слов и выражений. Он не подготовлял заранее фраз и никогда не прибегал к внешним эффектам. Часто, излагая свои мысли, он подыскивал подходящие выражения, не сразу их находил, поэтому иногда заикался, не сразу преодолевая встречающиеся затруднения, но когда первые затруднения были преодолены, когда он овладевал излагаемым вопросом, речь его лилась свободно и вдохновенно, и он проникновенно излагал самые трудные и сложные вопросы с необычайной ясностью и простотой, делая их понятными даже для недостаточно подготовленных слушателей.
Близко знакомый с развитием науки своего времени, принимая непосредственное участие в разрешении новейших основных проблем, лично знавший многих выдающихся современников, он вносил в свое изложение живую струю непосредственных наблюдений и впечатлений, которые придавали его словам свежесть, жизненность и правдивость и наполняли яркими образами умы слушателей. В качестве примера могу указать на его лекции, посвященные закону Авогадро — Жерара и его значению для современной химии. Закон этот позволил окончательно и точно установить величину атомных весов элементов и построить систему молекулярных формул простых и сложных тел на основании простого соотношения между молекулярным весом и плотностью тел: D = M/2 (где D — есть плотность пара данного тела по отношению к водороду, а М — молекулярный вес). Вопрос этот имеет длинную историю и в продолжении XIX в. вызывал большие разногласия между различными исследователями. Даже после своего разрешения он представлял для многих большие трудности и в 80-х гг. прошлого века привлекал еще к себе большое внимание, и ему было посвящено много работ. С исчерпывающей ясностью и простотой Менделеев изложил этот вопрос в связи с атомистической гипотезой. Он указывал, что хотя атомистическое учение возникло в отдаленные времена и было известно древним грекам, но оно долгое время оставалось бесплодным вследствие ложного направления древней философии, не склонной к индуктивному методу и недостаточно занимавшейся наблюдением и опытом.
Развивая свои мысли, Менделеев говорил: “Древний греческий мудрец говорил: я знаю, что я ничего не знаю. Да он и не знал, а мы знаем”. В этом и заключается преимущество современной опытной индуктивной науки перед прежней наукой, перед “классицизмом”, сводившимся к абстрактным умствованиям и благодаря этому вырождавшимся в метафизику и схоластику. В противоположность ограниченности и убожеству древнего мировоззрения, Менделеев считал науку всемогущей и не видел пределов для человеческого знания…
Д. И. Менделеев, Ченей и Ф. И. Блюмбах на Эйфелевой башне в Париже. Сентябрь 1895 г.
…В своем Лондонском чтении, состоявшемся в 1889 г. в Королевском обществе, Менделеев говорит следующее: “Грове заметил, что платина, расплавленная в пламени гремучего газа, где образуется вода, падая в воду, ее разлагает, образуя вновь гремучий газ. Разрешение этого парадокса, как многих парадоксов эпохи Возрождения, послужило в наше время к установке Генрихом Сен-Клер-Девилем понятия о диссоциации и равновесиях и заставило вспомнить учение Бертолле…" В своих лекциях Менделеев развил эту мысль более подробно, указав реальную обстановку, в которой произошло это открытие.
Теперь я перехожу к печальным воспоминаниям. Наступило время, когда мы должны были расстаться с Менделеевым, потому что ему пришлось совсем уйти из Университета. Тот курс, который слушал я, был последним курсом химии, читанным в Университете Менделеевым.
В марте 1890 г. в Петербургском университете начались студенческие волнения. Они приняли крупные размеры. Студенты устраивали сходки для обсуждения требований к правительству и составления петиций, и когда все было подготовлено, на сходку были приглашены профессора.
На эту сходку в числе других профессоров явился Д. И. Менделеев, который пользовался необычайной популярностью, любовью и уважением всего студенчества. Речь шла о том, чтобы подать правительству выработанную петицию и просить это сделать Менделеева, который это предложение принял и обещал исполнить.
В некоторых изданиях мне приходилось читать, что петиция, которая была составлена студентами для вручения правительству, была петицией чисто академического характера и политического ничего не содержала.
Это, конечно, совершенно неверно. Я помню прекрасно всю эту историю и знаю, что та петиция, которая была составлена с этой целью и которая была затем вручена Д. И. Менделееву для передачи правительству, была ярко политической петицией, содержала явно политические требования, например свободы слова, свободы печати, равноправия мужчин и женщин и пр. Говорить, что это была академическая петиция, совершенно неправильно, — это была явно политическая петиция, я это подчеркиваю, потому что и здесь проявилось исключительное мужество Менделеева, который не побоялся в это смутное, мрачное время русской истории взять на себя такое поручение, которое, конечно, являлось в политическом отношении чрезвычайно опасным.
И здесь сказывается величие Менделеева не только как ученого, но как человека и гражданина.
Я хорошо помню ту лекцию, на которой Менделеев эту петицию принял. Это было 14 марта 1890 г. Собралось на эту лекцию-сходку громадное количество студентов.
Когда Менделеев появился, его встретили громом аплодисментов, рукоплесканий, восторженными выкриками. Он махал руками, хмурился, просил успокоиться. Наконец, когда все затихло, он свой хмурый вид изменил и улыбнулся. Опять взрыв аплодисментов. Он больше уже не махал руками, стоял, молчал, ждал, когда все окончится, и приступил к лекции. Все ожидали от него сильных выступлений, выражений, а он ее начал так: “Марганец встречается в природе главным образом в виде кислородных соединений”. Это было начало, а затем он стал развивать те глубокие мысли и идеи широкого общественно-политического характера о необходимости развития промышленности и связи ее с наукой, которые составили главное содержание лекции. После этой лекции Менделееву была передана петиция для вручения министру народного просвещения Делянову.
16 марта петиция, переданная Менделееву, была им отвезена Делянову, который возвратил ее Менделееву с надписью:
“По приказанию министра народного просвещения прилагаемая бумага возвращается действ. стат. сов. профессору Менделееву, так как ни министр и никто из состоящих на службе его императорского величества лиц не имеет права принимать подобные бумаги. Его пр-ву Д. И. Менделееву 16 марта 1890 г.”.
Не считая возможным после этого оставаться в университете, Менделеев подал прошение об отставке и летом выехал из квартиры в университете на новую квартиру.
Когда стало известно, что министр Делянов отказался принять петицию и Менделеев ушел в отставку, в университете снова вспыхнули волнения. Университетская администрация ввела полицию в университет. Было произведено много арестов, протест был подавлен.
При таких обстоятельствах Менделеев прочел свою последнюю лекцию. Это было 22 марта 1890 г. На этой лекции студентов было уже мало, многие были арестованы, многие были в угнетенном состоянии. Аудитория была немногочисленна. Но тем не менее Менделеева слушали с большим вниманием. Менделеев читал последнюю заключительную главу курса неорганической химии. Он говорил о важных, крупных вопросах, о роли науки в жизни государства и народа, о значении науки для промышленности, он призывал заниматься этими вопросами — сближать промышленность и науку. Таким образом, он излагал свою идею о более близкой связи между наукой и промышленностью, о поднятии техники для индустриализации страны. Эти идеи он всегда проводил в своих выступлениях.
И закончил он эту свою лекцию такими словами: “Покорнейше прошу не сопровождать моего ухода аплодисментами по множеству различных причин”.
Эти слова были так выразительны, что не раздалось ни одного возгласа, ни одного хлопка, и среди этой мертвой тишины он оставил аудиторию, оставил ее навсегда».{244}
Байков А. А. Периодический закон Д. И. Менделеева и его творец.
В сб. «75 лет периодического закона Д. И. Менделеева и Русского химического общества».
М.—Л., Изд-во АН СССР, 1947, с. 17–30.
«Петербургский университет того времени в физико-математическом факультете, на его естественном отделении, был блестящим. Менделеев, Меншуткин, Бекетов, Докучаев, Фаминцын, М. Богданов, Вагнер, Сеченов, Овсянников, Костычев, Иностранцев, Воейков, Петрушевский, Бутлеров, Коновалов — оставили глубокий след в истории естествознания в России. На лекциях многих из них — на первом курсе на лекциях Менделеева, Бекетова, Докучаева — открылся перед нами новый мир, и мы все бросились страстно и энергично в научную работу, к которой мы были так несистематично и неполно подготовлены прошлой жизнью. Восемь лет гимназической жизни казались нам напрасно потерянным временем, тем ни к чему ненужным искусом, который заставила нас проходить вызывавшая глухое наше негодование правительственная система. Эти мысли получали яркое выражение в лекциях Д. И. Менделеева, как известно, человека очень умеренных, скорее консервативных политических взглядов, который, однако, больше, чем кто-нибудь другой, возбуждал в нас дух свободы и оппозиционного настроения.
Ярко и красиво, образно и сильно рисовал он перед нами бесконечную область точного знания, его значение в жизни и в развитии человечества, ничтожность, ненужность и вред того гимназического образования, которое душило нас в течение долгих лет нашего детства и юности. На его лекциях мы как бы освобождались от тисков, входили в новый, чудный мир, и в переполненной 7-й аудитории Дмитрий Иванович, подымая нас и возбуждая глубочайшие стремления человеческой личности к знанию и к его активному приложению, в очень многих возбуждал такие логические выводы и настроения, которые были далеки от него самого. Толстой, в своем чутье политического инквизитора, был прав в своем подозрении к Менделееву, и не напрасно он не допустил как раз в это время Менделеева (властью своей как президента) до баллотировки в Академию наук и вскоре после окончания нами университета, против желания Дмитрия Ивановича, удалил его из Петроградского университета».{245}
«Очерки и речи акад. В. И. Вернадского». Т. 2. Петроград.
Научное Химико-технологическое издательство, 1922, с. 104, 105.
«…Лет 23-х я представил ряд работ в Петербургское физико-химическое общество; это были: “Теория газов”, “Механика живого организма” и “Продолжительность лучеиспускания солнца”. Профессора Менделеев, Сеченов, Петрушевский и др. дали моим работам хорошую оценку…
С 1885 г. я твердо решил отдаться изучению воздухоплавания и теоретически разработать металлический управляемый аэростат. Работал я два года почти беспрерывно. Наконец, в 1887 г., я сделал в Москве первое публичное сообщение о металлическом управляемом аэростате. Моим сообщением заинтересовались профессора Вайнберг, Михельсон, Столетов и Жуковский, но проект движения не получил. Тогда в 1890 г. я обратился к Д. И. Менделееву с письмом и работой, прося его дать свое мнение о последней. В ней рассматривалось устройство металлической оболочки дирижабля, состоящей из конических поверхностей, соединенных мягкими лентами. Оболочка могла складываться в плоскость и изменять свой объем и свою форму без всякого вреда для своей целости. Д. И. Менделеев ответил мне, что сам он когда-то занимался этим вопросом, но затем бросил и потому обещал передать рукопись и модель в Техническое общество».{246}
«К. Э. Циолковский о своих открытиях». Отрывок из автобиографии, написанной в 1927 г. «Вечерняя Красная газета» от 20 сентября 1935 г.
Воспоминания лиц, встречавшихся с Д. И. Менделеевым
«…Профессор Д. И. Менделеев рассказывал мне, что три такие поездки он совершил со своим товарищем и другом Бородиным в 1860 и 1861 гг.: весной и осенью 1860 г. по Италии, в 1861 г. — по Швейцарии. «Пускались мы в дорогу с самым маленьким багажом, — говорит Д. И. Менделеев, — с одним миниатюрным саквояжем на двоих. Ехали мы в одних блузах, чтобы совсем походить на художников, что очень выгодно в Италии — для дешевизны; даже почти вовсе не брали с собой рубашек, покупали новые, когда нужда была, а потом отдавали кельнерам в гостиницах вместо “чаевых”. Весной 1860 г. мы побывали в Венеции, Вероне и Милане, осенью того же года — в Генуе и Риме, после чего Бородин поехал на короткое время в Париж. В первую поездку с нами случилось курьезное происшествие на железной дороге. Около Вероны наш вагон стала осматривать и обыскивать австрийская полиция: ей дано было знать, что тут в поезде должен находиться один политический преступник, итальянец, только что бежавший из заключения. Бородина, по южному складу его физиономии, приняли сразу именно за этого преступника, обшарили весь наш скудный багаж, допрашивали нас, хотели арестовать, но скоро потом убедились, что мы действительно русские студенты, — и оставили нас в покое. Каково было наше изумление, когда, проехав тогдашнюю австрийскую границу и въехав в Сардинию, мы сделались предметом целого торжества, все в вагоне же нас обнимали, целовали, кричали “виват”, пели во все горло. Дело в том, что в нашем вагоне все время просидел политический беглец, только его не заметили, и он благополучно ушел от австрийских когтей».{247}
Стасов В. В. Александр Порфирьевич Бородин.
«Исторический вестник». Т. XXVIII, с. 147, 148 (1887).
«…Крупная, яркая фигура Дмитрия Ивановича, его громадное значение в истории русской науки, его широкая популярность во всех кругах дают право его ученику, мне, поделиться с читателями воспоминаниями о нем: воспоминаниями отрывочными, мелкими, но характеризующими интересную личность Дмитрия Ивановича.
До 1863 г. Петербургский технологический институт был закрытым учебным заведением. Только с этого года институт занял положение, равное остальным высшим техническим учебным заведениям.
Под руководством бывшего тогда директором горного инженера Я. И. Ламанского институт стал быстро прогрессировать, и в 1863 г. у нас на кафедре появился Дмитрий Иванович, уже и тогда имевший репутацию серьезного химика. В институте Менделеев читал органическую химию и заведовал лабораторией, при которой была и его квартира. В то время Дмитрий Иванович был сравнительно молодым человеком — ему было около 30 лет (родился он 27 января 1834 г.). Знаменитая “Система элементов” еще не была опубликована, напечатана была только его “Органическая химия”, но его известность, как выдающегося работника и необычайно точного экспериментатора, была уже прочно установлена.
Д.И. Менделеев и Б.Ф. Браунер. Прага, 1900 г.
С переходом на II курс мне предстояло знакомство с Дмитрием Ивановичем. Первое впечатление живо и до сих пор: длинные волосы, некоторая небрежность костюма, нервные, порывистые движения, особая манера разглаживать бороду сзади наперед, глубокий взгляд, своеобразная интонация несколько глухого голоса — отличали его от большинства наших профессоров.
Читал свои лекции Менделеев тоже не так, как остальные: его речь была отрывиста, не всегда лилась гладко, но положения его были точны, в наши головы они вклинивались и отчетливо врезались в памяти.
Иногда он, увлекаясь сам, не замечал, что далеко отошел от курса, унесся в область, нам недоступную, в область химической фантазии, и тогда, спохватившись, останавливался, улыбался, глядя на нас, и, расправляя бороду, говорил: “Это я все наговорил лишнее, вы не записывайте”.
Между ним и аудиторией существовала какая-то неясно ощущаемая, но прочная нравственная связь. Однажды, во время его лекций, многие, действительно простуженные, расчихались и раскашлялись особенно сильно. Дмитрий Иванович остановился, посмотрел на нас и довольно резко сказал, что будет впредь ставить в аудитории капли датского короля. Никто этим не был обижен, и, когда он после лекции признался, что был несколько резок, мы его уверили, что не чувствуем ни малейшей обиды.
Вообще в лаборатории, делая разъяснения и замечания студентам, Менделеев бывал подчас раздражен и отпускал фразы, вроде того, что “ни одна кухарка не работает так грязно, как вы”. Но это не портило отношений: говорил он это нам, как равным, и сам сносил ответы не всегда почтительные и корректные, отвечая на них остроумными и мелкими шутками. Его отношения всегда дышали доброжелательством, и важен был их смысл, а не форма. Зато он научил нас работать в лаборатории так чисто и аккуратно, как ни до, ни после него не работали.
Мне выпала особенно приятная работа под его непосредственным наблюдением; работал новым в то время аппаратом — спектроскопом, при помощи которого надо было сделать анализ остатков в камерах завода серной кислоты. Работа эта сблизила молодого студента и молодого профессора; его влияние было сильно и навсегда укрепило те приемы работ, которые мелки сами по себе, но в общем ходе имеют большое значение. Все прошедшие школу Менделеева и оставшиеся в лабораторной практике, вспоминают его указания с особою благодарностью и любовью.
Дмитрий Иванович прекрасно работал со стеклом: для своих точных работ сам приготовлял себе термометры, ареометры и пр. Был в числе студентов некто П-ов, человек почти одних лет с Д. И. и тоже недурно работавший на паяльном столе (для многих работ нужно гнуть стеклянные трубки, запаивать их, выдувать шары и т. п.). Стол в лаборатории был только один, и, если за ним сидел П-ов, а Менделееву надо было запаять трубку или выдуть что-нибудь, он терпеливо ждал несколько минут, затем начинал волноваться и отпускать шутки на счет медленности работы П-ова, уверяя его, что трубка лопнет. П-ов хладнокровно кончал работу, уступая место и сам оставался у стола. Дмитрий Иванович начинал нервничать, а П-ов спокойно замечал ему: “Вот у Вас так лопнет, надо гнуть медленнее”. Трубка действительно лопалась. П-ов торжествующе заявил: “А, что, говорил я: не торопитесь” — и отходил от стола под ворчание Менделеева.
С тем же П-м помню такой случай. Дмитрий Иванович задал ему приготовить какое-то редкое вещество. На вопрос: “Из чего его приготовить?” — Менделеев буркнул: “Из воздуха”. Он любил, чтобы студент в таких случаях сам порылся в литературе, поискал, обдумал и только тогда шел к нему за окончательным решением. П-ов этого не сделал; обдумав план работы, он самостоятельно приступил к ней. Подходит Менделеев, спрашивает: “Ну, из чего же вы получаете?” — Ничтоже сумняшеся П-ов отвечает: “По вашему совету — из воздуха”. Такие стычки нисколько не портили отношений между ними: глубоко уважаемый всеми, Менделеев, верно понимал свое влияние и отношение к нему слушателей. Конечно, и П-ов после того, как от него отошел профессор, сам пошел к нему и подал написанный им план работы, который и был вполне одобрен.
Дмитрий Иванович, кроме громадного количества знаний, которыми он обладал, был химиком с глубоким чутьем. Нередко от него можно было услышать: “Ну, знаете ли, по соображениям, эта реакция должна идти так, как Вы говорите, только тут что-то не так, я чувствую, что не так — не пойдет”. И чувство его не обманывало. Его слова: “Химик должен во всем сомневаться, пока не убедится всеми способами в верности своего мнения” — остались навеки в памяти его учеников, и каждый из них, делая анализ, проделывал его со всеми тонкостями и тогда только решительно говорил о результатах.
Нередко Дмитрий Иванович давал для анализа такие соединения, которые обычно не дают: так, он давал чистую воду, с целью убедить студента в необходимости прежде всего выпарить каплю данного для анализа раствора для того, чтобы не возиться напрасно, полагаясь на слова дающего анализ, что дан действительно раствор.
Мне с Менделеевым, хотя и не часто, приходилось встречаться и после выхода из института. Помню, ехал я однажды зимою по Николаевской дороге из Москвы и на дорогу купил себе какой-то бульварный роман. Дело было зимою. После Твери вваливается в вагон какая-то странная фигура в полушубке, в сибирском малахае на голове, в валенках, обвешанная сумками. Присматриваюсь — вижу Дмитрий Иванович. Возле меня было свободное место, на которое он и сел. Сумки свои повесил на крючки, размотал шарф и, узнав меня, разговорился. Ехал он из своего имения на лошадях до станции и потому был в таком необычном костюме. Тогда уже вышла в свет его система элементов, слава его росла, и, понятно, мне — молодому химику — было интересно встретиться с ним. Но лежавший около меня роман — такая несерьезная вещь — меня крайне конфузил: по моей молодости я, конечно, серьезничал не в меру и очень заботился, чтобы быть возможно более солидным. Стараясь спрятать книгу, я невольно обратил на нее внимание Менделеева и окончательно смутился. Но оказалось, что он сам любил подобное чтение и притом не только в дороге. Он объяснил значение подобных книг как хорошего отвлекающего средства: “Знаете ли, не думать совершенно я не умею, а чувствую — надо отдохнуть мозгу. Ну и возьмешь такую книжку, которая сама мыслей никаких не возбуждает, а читается легко — вот и отдых”. Со временем я увидел, что это средство применяется многими. При такой же встрече в вагоне, спустя несколько лет, он отказался от книги и заявил: “Я теперь лучше придумал: вожу с собой карты и раскладываю пасьянс. Места карты занимают мало, а комбинаций в пасьянсе масса — и занимательно, и голова отдыхает”.
В дорожных сумках у Дмитрия Ивановича обыкновенно были разные лекарства, вроде нашатырного спирта, гофманских капель и т. п. Запас этот в те времена был необходим не только в глухой деревне, но и в вагоне — как для себя, так и для соседей-пассажиров. Менделеев, предусмотрительно относившийся ко всему, и здесь остался верен себе.
Приходилось встречаться с Дмитрием Ивановичем и после, когда о нем уже много говорили и писали. Из этих встреч упомяну только о встрече в Париже, на бывшей в 1881 г. электрической выставке. Там Менделеев останавливал внимание русских техников на разнице между русской и французской промышленностью, душою скорбел о нашей отсталости, но все же подчеркивал быстрый ход развития России. Он говорил, что, идя таким темпом, Россия не только догонит, но и перегонит иностранцев. Горячо любивший Россию, он не зарылся исключительно в химию, но отдавал много времени изучению промышленности и экономического быта Родины. Его книга “К познанию России” произвела большое впечатление у нас и за границей. Ее оценили и особенно в Америке поняли знания Менделеева как экономиста.
Несмотря на всю известность, на широкую деятельность его на разных поприщах, в России все же меньше ценили Дмитрия Ивановича, чем за границей.
Велики заслуги Менделеева, и Родина должна гордиться таким ученым, не забывать его и не ставить ему в упрек тех мелочей, которые свойственны каждому человеку: то возвышение русской химии, которое обязано ему, должно своим светом удалить малейшие тени на его памяти».{248}
Рюмин В. В. Из воспоминаний о Д. И. Менделееве.
«Вестник знания», 1917, № 1, с. 58–61.
«После кончины Н. Н. Зинина (в феврале 1880 г.) в Академии освободилась кафедра химии, и возник вопрос о замещении ее. А. М. Бутлеров был всегда высокого мнения о Д. И. Менделееве, как о выдающемся русском химике, и, конечно, прежде всего, вспомнил о нем. В это время отношения между Бутлеровым и Менделеевым были несколько испорчены по следующим причинам: Менделеев незадолго перед этим повел систематическую борьбу со спиритизмом, которым усердно занимался Бутлеров, прочитал лекцию и напечатал книгу против спиритизма, кроме того, он, отрицательно относясь к учению о структуре органических соединений, которое развивал Бутлеров в университете на своих лекциях, иногда позволял себе резкую критику в этом направлении. Как мне пришлось слышать, на той же почве во время съезда естествоиспытателей и врачей в 1879 г. по поводу доклада одного из учеников Бутлерова у него произошло довольно резкое столкновение с Менделеевым. Несмотря на все это, Бутлеров продолжал относиться к Менделееву с полным беспристрастием. Однажды он показал мне только что полученную им книгу английского химика Рейнольдса, присланную ему автором, и сказал: “Рейнольдс оспаривает первенство Менделеева в открытии им периодической системы элементов, но ведь Менделеев один предсказывает новые элементы”. Это было сказано после открытия галлия и скандия, но раньше открытия германия, что, как известно, произошло в 1886 г. Лотар Мейер и Ньюлэндс, которые являются соперниками Менделеева в основании периодической системы элементов, как справедливо сказал Бутлеров, новых элементов не предсказывали. Описание свойств экакремния и его соединений, сделанное Менделеевым за 14 лет до открытия соответствующего этому элементу германия, говорит само за себя.
Как-то вначале осени 1880 г., когда я был у Бутлерова, он разбирал бумаги и нашел среди них письмо от одного из провинциальных химиков, не имевшего, впрочем, отношения к университетам, в котором он просил А. М. Бутлерова иметь его в виду при замещении вакантной кафедры в Академии. Письмо это было прислано еще летом, во время отсутствия Бутлерова, и он тотчас же написал на него ответ, извиняясь в промедлении и объясняя причину; он написал, что, делая представление в Академию о замещении вакантной кафедры химии, он, согласно § 2 действовавшего тогда устава Академии, должен будет представить Д. И. Менделеева. Стало известным, что президент Академии Литке, непременный секретарь Веселовский и большинство академиков являются решительными противниками кандидатуры Менделеева, противопоставляя ему профессора Технологического института Бейлыптейна. Менделеев был забаллотирован.
После этого профессора университета в виде протеста устроили обед в честь Менделеева, во время которого говорены были соответствующие речи; полемика в газетах, которая началась еще раньше, оживилась особенно теперь. Статьи против Менделеева появились преимущественно в “St. Petersburger Zeitung”. Вопрос перешел на национальную почву и обострился еще более. Я не буду останавливаться на подробностях этой борьбы, которая завершилась окончательным забаллотированием Менделеева, представленного вторично, и избранием Бейлыптейна. На другой день после заседания Академии, на котором была решена судьба Менделеева, мне случилось зайти в академическую библиотеку, и при мне шел разговор между академиком и лицом из штата библиотеки; академик говорил, что Менделеева невозможно было допустить в Академию из-за его тяжелого характера; других причин не избрания Менделеева в члены Академии он не приводил.
Другим и еще более печальным эпизодом в жизни Менделеева является оставление им университета; подробное описание этого эпизода отвлекло бы меня слишком далеко, и на нем я останавливаться не буду. Менделеев был немыслим без лаборатории и без университетской кафедры; не попав в Академию и выйдя из университета, он остался без того и без другого. Как известно, впоследствии он имел занятия в Министерстве финансов.
Д. И. Менделеев. 1890 г.
Однажды весною 1891 или 1892 г., ранним утром, в холодную и ветреную погоду я, взглянув в окно своей квартиры, которую имел в одном из зданий Института инженеров путей сообщения, увидел, к своему удивлению, Менделеева, который в шубе нараспашку бегал по обширному двору института и, видимо, кого-то разыскивал. Я поспешил к нему на помощь. Увидев меня, Дмитрий Иванович сказал: “Вот, полюбуйтесь, до чего я дожил на старости лет — вчера до 12 часов ночи сидел в заседании, теперь рано утром (было не более 9 часов) бегаю: не знаете ли вы, где живет N (он назвал одного из живших в институте, который раньше был в Баку на нефтяных заводах)?” Я указал ему, где живет N, с которым он хотел посоветоваться по вопросу, затронутому на бывшем накануне заседании. Эпизод этот случайного характера открыл мне ту обстановку, в которой должен был жить и работать Дмитрий Иванович в возрасте, близком к 60 годам.
Светлыми проблесками на этом темном фоне жизни Д. И. Менделеева были его поездки в Англию, где он получил медаль имени Гэмфри Дэви за свои труды. В связи с этим интересно сопоставить следующие строки из предисловия к изданию “Основ химии” в 1906 г.: “Когда (1897) явилось второе и особенно третье (в 1905 г. с 7-го русск. издания) английское издание, мне стало очевидным, что этою книгою пользуются английские и американские студенты, чего, признаюсь, ожидать никак не смел и что глубоко тронуло мое русское сердце”. Эти слова очень грустно читать: чувствуется, что Дмитрий Иванович среди равнодушия и недоброжелательства соотечественников отдыхал душою, находя сочувствие среди чужеземцев.
Время до назначения Менделеева на место управляющего Палатою мер и весов, где он мог наконец устроить себе лабораторию, и устроения ее мне представляется периодом скитания его в тщетных поисках лучшего — ему было 56 лет, когда он должен был оставить университет, а в такие годы всякая жизненная ломка переносится нелегко.
Палата мер и весов находится против Технологического института, где Менделеев в 1864 г. начал свою профессорскую деятельность и где, вероятно, провел лучшее время своей жизни, когда полный надежд он вступил на ту дорогу, которая превратилась впоследствии в тернистый путь…»{249}
Глинка С. Ф. Личные воспоминания о Менделееве.
Почему Д. И. Менделеев не был избран в Академию наук.
«Журнал химической промышленности», 1925, № 1 (7), с. 25–27.
«…После окончания курса в С.-Петербургском университете я встречал Дмитрия Ивановича в заседаниях физического отделения Русского физико-химического общества, где он изредка бывал, посещая преимущественно заседания химического отделения этого общества.
В августе 1887 г. видел Дмитрия Ивановича в имении графа Олсуфьева Никольском. Русское физико-химическое общество снарядило в этом году две экспедиции для наблюдения полного солнечного затмения 7 августа 1887 г. Одна экспедиция была отправлена в Красноярск, другая — близ станции Николаевской дороги Подсолнечной Клинского уезда. Там экспедиция во главе с профессором Н. Г. Егоровым нашла гостеприимный приют в имении графа А. Олсуфьева Никольском. В числе участников этой экспедиции был и я. Невдалеке находилось имение Д. И. Менделеева. Погода в дни до затмения была ужасная: небо все время было закрыто тучами, и часто лил дождь, так что дороги стали отчаянными. И вот дня за два до затмения в Никольское прискакал на тройке, загнав одну лошадь, Дмитрий Иванович, весь забрызганный грязью. Не надеясь увидеть корону Солнца на земле, он решил взлететь на воздушном шаре выше облаков и приехал в Никольское, чтобы получить некоторые сведения от профессора Н. Г. Егорова и других членов экспедиции относительно наблюдения солнечной короны. Часа через полтора он простился. Помню одну фразу, сказанную им при прощании: “Я не боюсь летать, а боюсь того, что при спуске мужики примут меня за черта и изобьют”. Рассказывают, что, когда, сев в Клину перед затмением в корзину воздушного шара вместе с Кованько, начальником воздухоплавательного парка, Дмитрий Иванович заметил, что шар, веревочные сети которого намокли от дождя, не в состоянии поднять двух наблюдателей, он обратился к г-ну Кованько с требованием выйти из корзины. Так как шар был военного ведомства и г-н Кованько был его начальником, то он отказался первоначально выйти из корзины, но Д. И. Менделеев пригрозил выкинуть его из нее, если он не сойдет добровольно.
Г-ну Кованько ничего другого не оставалось делать, как исполнить это требование, так энергично выраженное, и Дмитрий Иванович полетел один и поднялся выше облаков и, таким образом, мог наблюдать корону. Дмитрий Иванович совершил полет впервые, и этот случай показывает всю энергию и стремительность натуры Дмитрия Ивановича, не останавливающейся не только перед затруднениями, но и перед явною опасностью.
Когда Дмитрий Иванович был назначен заведующим Главною палатой мер и весов в С.-Петербурге, я был там и виделся с ним. Благодаря инициативе и деятельности Дмитрия Ивановича Палата мер и весов стала образцовым научным учреждением, могущим стоять в одном ряду с подобными же учреждениями за границей, и в ней было что видеть. Не говоря об образцовом устройстве отделений с компараторами, позволяющими измерять метры с точностью до 0,001 мм, весовых отделений с весами, которые дают возможность измерять килограммы с точностью до 0,01 мг, отделения для проверки термометров — до 0,001 °C, барометров — до 0,01 мм и отделений для электрических измерений, при каждом посещении можно было видеть что-либо новое, представляющее последнее слово науки в области точных измерений.
Можно было видеть автоматический компаратор, который сам, при помощи электрического двигателя, производит сравнение мер; особая рама подхватывает последовательно то одну, то другую меру, и рычаг отмечает на вращающемся барабане самые ничтожные разности в длинах; можно таким образом передать прибору две сравниваемые меры, пустить в ход электрический двигатель и удалиться, заперев комнату на ключ: прибор сам производит без конца сравнение мер и записывает результаты этого сравнения.
В другой раз можно было видеть грандиозную Атвудову машину в 35 м высоты, помещающуюся в трубе из котельного железа, 1,08 м внутреннего диаметра, с двойными стенками, между которыми может пропускаться вода для поддержания постоянной температуры. Можно было видеть приготовления к опытам в том же помещении над качанием маятника в 35 м длины и золотым шаром стоимостью в 75 000 руб., данного во временное пользование Министерством финансов, и многое другое.
При посещении Д. И. Менделеева велись обыкновенно разговоры на научные темы, но нередко затрагивались общественные и политические вопросы. В последнее мое посещение, имевшее место в половине июня 1906 г., речь зашла о последних открытиях в области радиоактивности тел, и Дмитрий Иванович очень недружелюбно отнесся к идеям Резерфорда и Содди о превращениях элементов, он заявил себя сторонником их постоянства. Разговор перешел на общие и политические темы, как это нередко бывало и раньше; так как это было перед моей поездкой в Лондон, то речь зашла об Англии и англичанах. Дмитрий Иванович с глубоким уважением отзывался об англичанах, но в качестве русского патриота враждебно относился к Англии, как государству и к ее политике. Разговор закончился игрой в шахматы, которую Дмитрий Иванович очень любил, и мог ли я думать, что вижу в последний раз этого полного сил и энергии старика!»{250}
Роговский Е. А. Из личных воспоминаний о Д. И Менделееве. «Труды Общества физико-химических наук при Императорском Харьковском университете»,
1908, ч. 35, в. I. Отчеты о заседаниях в 1907 г., с. 1–5.
«…В июле 1888 г. я поехал в имение Олсуфьевых Никольское-Горушки (Обольяново), Дмитровского уезда, к своим товарищам Михаилу и Дмитрию Олсуфьевым, где они проводили лето.
Дмитрий Адамович, так же как и я, недавно окончил курс естественных наук. В то время он был под обаянием своего соседа Д. И. Менделеева, жившего в своем имении в Клинском уезде. Он недавно ездил к Менделееву, собирался еще раз поехать и легко уговорил меня поехать вместе с ним. Сделав верст двадцать пять по живописной местности, мы подъехали к красивому барскому дому. Это был дом Менделеева, но он жил не здесь. В этом доме жила его первая жена со своей семьей. Сам же он, вместе со второй женой, жил в версте отсюда, в другом новом каменном доме, им самим выстроенном. Туда мы и направились.
Дмитрий Иванович любезно принял нас. Какое впечатление должен был он произвести на меня, недавно окончившего курс естественника, увлекавшегося химией и знавшего, что Менделеев был в то время первым химиком в мире? Очевидно, я смотрел на него с восхищением и подобострастием: но не только поэтому я подпал под его влияние; он был на самом деле обаятельным человеком… Виден был большой ум, чувствовалась большая жизненная энергия. Он любил говорить и говорил горячо и образно, хотя не всегда гладко. Он крепко верил в то, чем в данное время увлекался, и не любил возражений на свои, иногда смелые, парадоксы. Этим и некоторыми другими чертами он мне напоминал моего отца. Между прочим, он жалел, что мои отец пишет против науки. Я сказал, что отец восстает не против науки, а против привилегированного положения ученых. Менделеев с этим не согласился и говорил: “Нет, он пишет против науки”.
В то время Менделеев увлекался вопросом о прогрессе промышленности в России. Незадолго перед этим Эдинбургский университет поднес ему докторский диплом honoris causa. Он нам рассказал, что в Эдинбурге, в торжественном заседании университета, он прочел свою лекцию, как полагается новому доктору, в средневековом костюме доктора — в тоге и угольчатой шапочке, но по-русски. Никто, конечно, его не понимал, но все слушали с уважением. Затем был прочитан английский перевод его лекции.
Мы попросили Дмитрия Ивановича показать нам его докторский костюм. Он охотно это сделал и даже надел его. Сине-малиновая тога, угольчатая шапочка, густые космы седых волос, торчащие из-под шапочки, суровое лицо Дмитрия Ивановича, обрамленное большой бородой, — все это под толстыми сводами его кабинета и на фоне голой белой стены напоминало нам средневекового алхимика. Мы невольно улыбнулись. Менделеев выказал себя большим патриотом; в его мечты входили не только благосостояние и культурное развитие России, но и величие России как государства. Затем разговор перешел на развитие промышленности в России и, особенно в Донецком крае, куда Дмитрий Иванович недавно ездил…
“Правительство должно умножить и улучшить пути сообщения Донецкого края, — продолжал он. — Донец считается судоходным, и на нем запрещено строить плотины, но для судоходства по Донцу ничего не сделано — русло не углублено, не очищено от карчей (карча — суковатый пень, дерево с корнями, подмытое и снесенное водой, опасное для рыболовов, судов), знаки не поставлены и т. д., и даже неизвестно, какие там мели и перекаты, неизвестно даже, какие суда могли бы там ходить. Правительство чрезвычайно скупо тратит деньги на водные сообщения, печать этими вопросами не занимается, вообще мало кто этим интересуется. Следовало бы кому-нибудь, прикосновенному к литературе, поехать туда, осмотреть нарастающую донецкую промышленность, прокатиться по Донцу, сделать кое-какие съемки и промеры и описать свои впечатления в живой газетной или журнальной статье.
Вот вы, господа естественники, — неожиданно обратился он к нам, — вы недавно кончили университет, что бы вам это сделать?
Поехали бы в Донецкий край, да и написали бы статью”.
Еще до поездки нашей к Менделееву Олсуфьев и я собирались путешествовать по России. Поэтому, хотя мы не были “прикосновенны к литературе”, предложение Менделеева упало на уже подготовленную почву, и мы выразили готовность поехать. Тогда он, недолго думая, стал намечать план нашей поездки. Он посоветовал нам сначала осмотреть некоторые шахты и промышленные предприятия Донецкого бассейна, а затем проплыть по Донцу до Лисичанска, до впадения Донца в Дон…
Дмитрий Иванович еще много и интересно говорил нам о будущности Донецкого края и о необходимости развития промышленности в России. Эти мысли изложены в его статье “Будущая сила России, покоящаяся на берегах Донца”, напечатанной, кажется, в 1889 г. в “Северном вестнике”.
Мы уехали, очарованные Дмитрием Ивановичем и увлеченные нашей предполагаемой поездкой.
Россия так мало известна нам, решили мы, что нам следует поехать, особенно с такой интересной целью.
Вскоре после моего возвращения в Ясную Поляну я получил следующее письмо от Д. Олсуфьева: “Вчера после твоего отъезда написал Менделееву письмо, подтвердил ему наше согласие с тобой ехать на Донец и просил составить маленькую письменную инструкцию.
Вот письмо, которое сегодня привез мне мой посланный: «Дмитрий Адамович, рукопись и книжки я получил исправно и больше, чем им, обрадовался Вашему письму, в котором Вы подтверждаете охоту ехать с гр. Толстым на Донец. Очень это может быть полезно. Рад от души, и все, что надо, сделаю, напишу и скажу, и подстрою, сколько могу с моей стороны. Только срок дайте, теперь не время мне. А между тем Вы можете кое-что подготовить; особенно было бы полезно Вам почитать о Донецком крае, где можно. Опять укажу на книгу Лепле: перевод Н. Щуровского достанете в Москве, если не в продаже, то в библиотеках. Статей-то много, но их где собрать, а такой обстоятельной книги, как Лепле, другой нет. Поищите тоже, что можете достать (много отличных статей о Волге, Доне, Днепре найдете в “Инженере” — журнал Министерства путей сообщения за последние 4 года), о реках, их уровнях, перекатах, мелях. Есть отличные исследования Гарина о Днестре в журнале М. П. С. Полезно тоже хоть немного поупражняться с нивелированием, барометром и нивелиром, но это не особо важно и скорее стеснит в пути, потому что главное известно, а подробности меняются. Важнее всего узнать кое-что об углях и с геологической, и с химической, и с технической стороны. Это легко найдете. Иностранных книг много. Возьмите хоть какую-нибудь техническую энциклопедию… К сожалению, здесь у меня ничего нет под руками.
Еду в Питер в воскресенье и оттуда непременно напишу, как Вы желаете, если поеду на Кавказ.
Засим почтение и поклон Вашему папе. Преданный Вам
Д. Менделеев»”.
…Под влиянием разговоров с Менделеевым я писал моей матери в октябре 1888 г.:
«Вчера я был у Менделеева. Он только что прочел “О жизни”. “Ваш отец, — говорил он, — воюет с газетчиками и сам становится с ними на одну доску. Он духа науки не понимает, того духа, которого в книжках не вычитаешь, а который состоит в том, что разум человеческий всего должен касаться; нет области, в которую ему запрещено было бы вторгаться…” Я ему говорил, что отец, главное, борется против позитивного мировоззрения, по которому для того чтобы решать насущные вопросы об отношении к людям, нужно пройти через всю контовскую лестницу наук, а нам нужно не это, а ответ на вопрос: что сейчас делать? Менделеев на это ответил, что “ведь мы питаемся каждый день, а разве поэтому нельзя рассуждать и исследовать научным путем вопрос о том, чем лучше всего питаться” (хотя, он говорит, что и об этом мы очень мало знаем). “Зачем же отрицать другие науки — точные? Разве они несовместимы с взглядами Льва Николаевича?”
Можно быть других мнений, чем Дмитрий Иванович, но про него никак нельзя сказать, что он был неискренен в своих убеждениях. Когда я слушал его неровную, но убежденную речь, чувствовалось, что он говорил то, что он продумал, и свое, а не чужое».{251}
Толстой С. Л. Очерки былого. М., Гос. изд-во худ. лит.,
1956, с. 162–166, 174–175.
«В большом физическом кабинете на университетском дворе мы, художники-передвижники, собирались в обществе Д. И. Менделеева и Ф. Ф. Петрушевского для изучения под их руководством свойств разных красок. Есть прибор — измеритель чувствительности глаза к тонким нюансам тонов; Куинджи побивал рекорд в чувствительности до идеальных точностей, а у некоторых товарищей до смеху была груба эта чувствительность».{252}
Репин И. Е. Далекое близкое, Изд. 4-е. М., «Искусство», 1953, с. 341.
«“Архип Иванович Куинджи, — рассказывает г-н Ясинский, — повернул и придвинул к известной черте на паркете огромный мольберт, прикоснулся к черному коленкору, который заволновался и упал наземь, и мы увидели пригорок, покрытый густой растительностью, и на малороссийских хатках, прячущихся в зелени, заиграло живое, но созданное самим Архипом Ивановичем солнце. Небеса, которые мы увидели, уже начинали погасать. Это были кроткие райские, лилово-розовые небеса, пронизанные последними лучами умирающего светила. Еще ничего подобного никогда не создавало искусство. Безукоризненный огненно-розовый свет освещал белые стены хат, а теневые стороны их были погружены в голубой сумрак. Голубая тень легла от дерева на освещенную стену.
Взмах руки Архипа Ивановича — и коленкор закрыл чудную картину, странно вспыхнувшую и на мгновение загоревшуюся странной жизнью в этот зимний петербургский день; мольберт отошел в глубину комнаты, повернулся и опять, покорный руке художника, приблизился к нам, дойдя до волшебной черты, проведенной на полу. “Это что за координата такая?” — спросил Дмитрий Иванович. А это была просто выверенная линия, которую надо было иметь в виду, чтобы магическое полотно не давало рефлексов, ослабляющих впечатление…
Д. И. Менделеев среди инженеров Кушвинского завода на Урале. 1899 г.
Опять собрался в складки черный коленкор — и мы увидели темный густолиственный кедровый и масличный сад на горе Елеонской с яркой темно-голубой прогалиной посредине, по которой, облитый теплым лунным светом, шествовал Спаситель мира. Это — не лунный эффект: это — лунный свет во всей своей несказанной силе, золотисто-серебряный, мягкий, сливающийся с зеленью дерев и травы и проникающий собою белые ткани одежды. Какое-то ослепительное, непостижимое видение…”
Переходя к третьей картине Архипа Ивановича, г-н Ясинский высказывается о ней так: “Пред нами открылось необъятное бледное пространство — берег, покрытый полевыми цветами и чертополохом; река, уходящая в безграничную даль, светлые, воздушные, чистые, как глаза ангела, небеса в легких параллельных, едва розовых, едва лиловых, едва серебряных облаках, и над берегами, над рекою заструился утренний прозрачный пар. Странное чувство испытал я, когда вдруг увидел этот Днепр, извивающийся по великой низменности. Я уверен, что все то же испытали. Наверно, у каждого сжалось сердце, схваченное радостным чувством, и на ресницы стала проситься слеза…”
Менделеев закашлялся. Архип Иванович спросил его: “Что это вы так кашляете, Дмитрий Иванович?”
Профессор весело отвечал: “Я уже шестьдесят восемь лет кашляю, это ничего, а вот картину такую вижу в первый раз”.
Перестановка — и вот перед нами четвертое чудо: березовая рощица с ручейком, освещенная солнцем и с голубыми небесами на заднем плане…
Какая необыкновенная чистота красок! Как они сверкают!..
“Да в чем секрет, Архип Иванович?” — опять начал Менделеев.
Кто-то заявил: “Я закрываю глаза и все-таки вижу”.
“Секрета нет никакого, Дмитрий Иванович”,— смеясь, сказал Куинджи, задергивая картину к великому нашему сожалению, потому что хотелось все стоять перед нею и смотреть и слушать этот ручеек, распавшийся на мочижинки (твердое, не торфяное болотце, здесь по — видимому, пересыхающий ручей), которые теряются в траве, между тем как немного выше по зеленой мураве тянется солнечный настоящий луч.
“Много секретов есть у меня в душе, — заключил Менделеев, — но не знаю вашего секрета…”
Картины, показанные в этот раз, были: “Вечер в Малороссии”, “Христос в Гефсиманском саду”, “Днепр” и “Березовая роща”».
М. П. Неведомский, И. Е. Репин. А. И. Куинджи. СПб.,
О-во им. А. И. Куинджи, 1913, с. 161, 162.
«По вторникам на квартире Лемоха (художник-передвижник) собиралось довольно большое общество: товарищи-передвижники, профессора Академии художеств и люди из мира ученых.
Часто бывал Д. И. Менделеев, сын которого, моряк, был женат на дочери Лемоха (он умер ранее моего знакомства с семьей Лемоха).
Великий ученый Менделеев был интересен в домашней обстановке. Разговор вел простой, особого русского склада. От него веяло Русью, которую он любил.
Большая, умная медвежья голова, длинные нечесаные волосы и задумчивые, иногда мечтательные глаза.
Излагая новую теорию или мгновенно родившуюся мысль, Менделеев вперял в пространство глаза и точно пророчествовал.
Крутил толстейшие папиросы и подымал густой столб табачного дыма, среди которого казался каким-то магом, чародеем, алхимиком, умеющим превращать медь в золото и добывать жизненный эликсир.
Смотрю я на прожженные табаком коричневые пальцы Менделеева и говорю: “Как это вы, Дмитрий Иванович, не бережете себя от никотина, вы, как ученый, знаете его вред”. А он отвечает: “Врут ученые: я пропускал дым сквозь вату, насыщенную микробами, и увидал, что он убивает некоторых из них. Вот видите — даже польза есть. И вот курю, курю, а не чувствую, чтобы поглупел или потерял здоровье”.
Близок был к Менделееву Максимов — художник-передвижник. Максимов был малообразован, не мог разбираться в вопросах научных, сложных, общественного порядка, и все же Менделеев много с ним говорил, строил грандиозные планы экономического переустройства нашей страны и, как поэт, мечтал о ее счастливой будущности. Максимов, вспоминая разговор Дмитрия Ивановича, будоражил свою кудрявую голову и говорил: “Вот, батюшка, что Дмитрий Иванович говорит… ой-ой-ой, куда тебе!”
Вопросы искусства были близки Менделееву в такой же степени, как и вопросы науки, а народное начало, вложенное в его натуру, находило отзвук в содержании искусства передвижников, с которыми он часто общался».{253}
Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках.
Л., «Художник РСФСР», 1959, с. 68, 69.
«Вот на кафедре показалась какая-то бородатая фигура, она устанавливает большие химические весы, эмблему новейшей химии, орудие великого Лавуазье. Но эта фигура еще не он, не профессор. Это его помощник, лаборант, сурово ворчащий на смельчаков, решающихся, стоя у кафедры, потрогать те предметы, какие-то склянки, которые он устанавливает. Аудитория шумит, болтает, кашляет, посмеивается над маленьким невзрачным человечком с полотенцем на плече; это знаменитый Алеша, служитель менделеевской лаборатории, вот уже двадцать (тогда, а теперь сорок) лет помогающий лаборантам в препаровочной устанавливать приборы и ставить опыты, демонстрируемые во время лекций. Еще несколько минут ожидания, и вот раздается оглушительный, долго длящийся гром рукоплесканий. Из маленькой двери, ведущей из препаровочной на кафедру, появляется могучая, сутуловатая слегка фигура Дмитрия Ивановича. Он кланяется аудитории, рукоплескания трещат еще сильней. Он машет рукой, давая знак к тишине, и говорит: “Ну, к чему хлопать? Только ладоши отобьете”. Вот наконец наступает тишина, и аудитория вся замирает. Менделеев начинает говорить.
Первое время, с непривычки или от сравнения с другими профессорами-говорунами, нами овладевает какое-то чувство неловкости. Лектор растягивает как-то своеобразно фразу, подыскивая слово, тянет некоторое время “э-э-э…”, вам даже как будто хочется подсказать не подвертывающееся на язык слово, но не беспокойтесь, оно будет найдено, и какое — сильное, меткое, образное. Своеобразный сибирский говор на “о”, все еще сохранившийся акцент далекой родины! Речь течет дальше и дальше. Вы уже привыкли к ней, вы уже цените ее русскую меткость, способность вырубить сравнение, как топором, оставить в мало-мальски внимательной памяти след на всю жизнь. Еще немного, и вы, вникая в трудный иногда для неподготовленного гимназией ума путь доводов, все более и более поражаетесь глубиной и богатством содержания читаемой вам лекции. Да, это сама наука, более того — философия науки говорит с вами своим строгим, но ясным и убедительным языком. Вы начинаете любоваться мощною, напоминающей микеланджеловского Моисея, сумрачно-грозной фигурой. В ней хорошо все: и царственно широкий лоб мыслителя, и сосредоточенно сдвинутые брови, и львиная грива падающей на плечи шевелюры, и извивающаяся при покачивании головой борода, по поводу которой как-то сам собой выскакивает в памяти отрывок стиха: “Косматой трясет бородой” — или отрывок о Зевсе, Нептуне или другом олимпийце, герое из испаряющейся из нашей головы греческой или латинской поэзии. И когда этот титан в сумрачной аудитории, с окнами, затененными липами университетского сада, освещаемый красноватым пламенем какой-нибудь стронциевой соли, говорит вам о мостах знания, прокладываемых через бездну неизвестного, о спектральном анализе, разлагающем свет, доносящийся с далеких миров, быть может, уже потухших за те сотни лет, что этот луч несется к Земле, — нервный холодок пробегает по вашей спине от сознания мощи человеческого разума. Вы содрогаетесь от прикосновения к вечным тайнам, к бесконечности…»{254}






