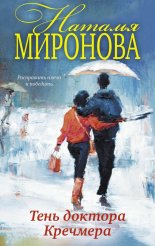Чужое побережье Улюкаев Алексей

Чины остались в пиджаке,
Пиджак – на вешалке. О’кей,
Теперь бы печку с дурочкой.
На девочках – фигурочки!
Без кьянти закачаешься!
А спьяну обещаешь все,
Что обещают исстари,
Мальчонки неказистые,
Очкарики-ботаники
В пылу страстей немаленьких.
А Рим при чем? Для рифмы ли?
Для красного словца ли?
Меняем жизнь на мифы мы:
Как хорошо в Италии!
Houte boissons
Алкоголь – это надо все выше идти,
Как в дороге любой. Молодой или старый,
Если дюж – не свернешь ты на этом пути
Ни к Хеннеси, ни тем паче к Отару.
Вот Петрюс, понимаешь,
Он люб и Петру,
И Ивану, и Сидору, и его козам.
Иль Шваль Блан наливаешь
Хоть и блан, но не шваль —
Как хорош он с устатку и после мороза!
Оцени ты Мутона Ротшильда, дружок,
Или Ротшильда – этот ни капли не хуже.
Все до капли ты выпьешь – алеет восток,
И ты носом лежишь в восхитительной луже.
Коли квасишь коньяк – тут Луи тебе Трез.
Коли виски – Макаллан Лалик ты возьми.
Только что будет толку от этой возни,
Лучше водки – 100 ре – не останешься трезв.
Девушка с веслом
Однажды в студеную зимнюю по…
Нет, в летнюю знойную пору,
Читал я Эдгара, Алана и По.
Но это я так, к разговору.
Ни месяц не помню, ни день, ни число,
Но вроде читал. А читал ли?
А может, хватая девчонку с веслом,
С размаху ложился на грабли?
Чтоб греблей заняться в привычной среде,
Без всяких там крибле и крабле.
Пусть фиоритурит в далекой воде
Без нас первоклассный кораблик.
Мы посуху аки по морю плывем,
Граблями себе помогая.
Пускай без воды мы, зато мы вдвоем
И неподалеку от рая.
НЕИСЧЕРПЫВАЕМЫЙ ОСТАТОК. Сергей Чупринин
Теперь уже и не верится, но для мыслящих юношей из поколения, чье взросление пришлось на рубеж 70—80-х годов минувшего века, любовь к стихам была естестенной нормой. И в новые книжки Евтушенко заглядывали, и Бродского знали по слепым машинописным копиям. Заучивали наизусть Мандельштама и Хармса. Говорили раскавыченными цитатами, острили центонно. Даже барышень соблазняли только так – нельзя же силком / Девчонку тащить на кровать. / Ей надо сначала стихи почитать, / Потом угостить вином. И понятно, что сами тоже пробовали сочинительствовать. Более робкие держали зарифмованные строчки при себе. Те, кто поувереннее, пробивались и пробились-таки в журналы.
Например, в «Студенческий меридиан», как Алексей Улюкаев.
Незачем гадать, выработался бы он с годами в значительного поэта или, не приведи Бог, пополнил бы собою армию дюжинных, хотя и вполне себе профессиональных стихотворцев, у которых и публикации, и книжки, и, случается, даже литературные премии, но смотреть на которых нельзя сейчас без мучительной жалости. Мол, мог бы жизнь просвистеть скворцом, / Заесть ореховым пирогом, но – дано не всякому.
Как бы то ни было, жизнь отняла у Алексея Улюкаева обе эти перспективы. Захваченный перестроечной волной, увлеченный верою в то, что именно ему и его товарищам суждено переменить Россию, он поднимался все выше и выше по карьерному косогору, все больше и больше удаляясь от стихов.
Вернее, стихи ушли сами – за ненадобностью.
Да, конечно, привычка острить центонно сохранилась. И да, конечно, стихи, писавшиеся еще в студенчестве, были при случае собраны в книгу: как памятник временам, когда мы были молодые / и чушь прекрасную несли.
Многих славный путь. Обычная и, что уж тут, скучная история.
Если бы спустя почти 30 лет, отданных семье, частной собственности и государству, – стихи вдруг не вернулись.
И как вернулись – лавиною, что уже не остановить.
Случай для русского стихотворчества едва ли не уникальный. И очень в своем роде поучительный.
Потому что технически и стилистически, по манере выстраивать строку и держать интонацию, стихи, составившие этот сборник, оттуда – из поздних 70-х, когда Бродский взломал русский поэтический синтаксис, веселость едкая литературной шутки была замещена мизантропической угрюмостью, а центоны из живого интеллигентского просторечия поднялись в лирику. Тридцать лет, что в отечественной поэзии были отмечены лихорадочной движухой (простите мне это новомодное слово), сменой кумиров и приоритетов и едва ли не окончательным добиванием традиций гармонической ясности, прошли для Алексея Улюкаева почти бесследно, никак не сказавшись на строе его стихов.
Зато сказавшись на их смысле или (теперь простите мне слово старомодное) на их содержании.
Перед нами не лирический дневник, конечно. И не последовательное развертывание символа веры. Скорее реплики, что вызываются к жизни не столько внешними поводами, сколько состояниями души – иногда минутными, как слабость или счастье, чаще устойчивыми.
Образующими характер. И в этом-то, в открытии нового для нашей поэзии лирического характера, – основное достоинство стихов, предлагаемых сегодня вашему просвещенному вниманию.
Ты скажешь: слишком много Мандельштама в моих словах, – иронически виноватится Алексей Улюкаев перед читателями и самим собою. Действительно, многовато. Но разница, причем дьявольская, в том, что автору «Чужого побережья» не дано отстраниться от своего времени, как пытался отстраниться учитель: мол, нет, никогда, ничей я не был современник. Как не дано и сквозь фортку крикнуть детворе: Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе? Или произнести с величавой обреченностью: меня, как реку, эпоха повернула…
Хотя бы потому, что он сам из тех, кто эпоху поворачивал, кто определял, какому времени быть на дворе.
И это действительно ново, поскольку лирические герои наших больших поэтов почти всегда либо очевидцы, либо жертвы исторического процесса. Такой уж у русской поэзии испокон века залог – страдательный. А тут вдруг о себе и о своем времени заговорил человек действия, призванный (и привыкший) распоряжаться не только собственной судьбой. И за 30 победных лет не утративший – вероятно, один из немногих в своем кругу – способности к рефлексии, разъедающему самоанализу.
Мы славно начинали в этом мире – вот отправная точка размышлений Алексея Улюкаева. И вот основание для опасных вопросов: отчего же тогда поколение, где каждый отвечал за себя и все были вместе, распалось на враждующие между собою группы по интересам, и нас много, нас, быть может, пять иль десять / Осталось не прописанных по стаям? Отчего, если раньше веселил жар труда со всеми сообща / И заодно с правопорядком, то теперь каждого обстали беспросветные дни, несусветные ночи, и не очень / Помогает теперь твой бурбон – молоко / Одиночек? Отчего, если с умом и талантом все в порядке, молчать умеем мы на языке любом, / Мы, в общем, записные полиглоты? И отчего, черт побери, Россия, которую они (и он тоже) вроде бы переменили, все ж таки так далека от заявленной в мечтах и проектах, что только и остается советовать:
Езжай, мой сын, езжай отсель.
На шарике найдешь теперь
Немало мест, где шаг вперед
Необязательно пятьсот
Шагов назад, где, говорят,
Не всё всегда наоборот.
Где не всегда конвойный взвод
На малых выгонят ребят,
Где не всегда затычку в рот.
Бывает – правду говорят.
Бывает, голова вверху,
А ниже – ноги.
Где в хлеб не сыпали труху,
И не смеялись над убогим:
Ха-ха, хе-хе, хи-хи, ху-ху.
О боги!
Кто виноват? Что делать? Экономист и государственный муж с огромным уже опытом, Алексей Улюкаев, разумеется, знает, где искать ответ на эти вопросы, – в теории, конечно, и, само собою, в отечественной практике ее применения. Но поэзия чужда и сухой теории, и самодовлеющей практике. Она, вся, сфера захлестывающих и перехлестывающих эмоций, у каждого своих. Кто-то впадает в уныние, кто-то – в утешительный самообман, а натуры истинно сильные захватываются раздражением.
Ранние стихи, составившие раздел «До н. э.», прочитываются в этом смысле как контрастно светлый фон для стихов поздних, где господствуют – и с перебором господствуют! – раздражение, раздражительность и раздраженность.
Взгляд поэта, как это и предписано национальной традицией, опускается в толщу русской истории:
Мы шли к отеческим гробам,
А тут бедлам, —
проникает в толщу российского этноса:
Родства не помнят – ни Ивана,
Ни Моисея, ни Ноя, – к чему им эти пазлы!
Все то, что тяжелей стакана,
Заведомо из рук выскальзывает.
Их вид смешон, убог, нелеп,
И образ жизни почти что скотский.
Они только и делали, что сеяли хлеб,
Но в холодную землю ложились не хуже,
чем предки Бродского.
Надо ли говорить, что финальный вывод этих экскурсов в то, что дано по праву и по обязательствам происхождения, у Алексея Улюкаева остается всецело в пределах классической парадигмы:
…я лучше с ними буду пить горькую,
Чем без них – дольче виту.
Или вот еще:
Так жизнь гнобят – свою, чужую.
Совсем не понимают нас
И нажираются на раз,
Падут – и в ус себе не дуют.
…Но я люблю их.
Вот весь сказ.
Примиряющие уроки Лермонтова (Люблю отчизну я, но странною любовью. / Не победит ее рассудок мой…) и Блока (Да, и такой, моя Россия, / Ты всех краев дороже мне) усвоены автором «Чужого побережья» накрепко, приняты как самая что ни на есть последняя истина. Но читателю, и в этом сила стихов, их самородность, передается не только финальный вывод, но и то, с какой надсадой, с каким раздражением и превозмоганьем самого себя достигается этот вывод.
Хотя… Если соотечественники, свойственники и сродственники совсем не понимают нас, то, может быть, и в самом деле есть какая-то ошибка в наших душах? И это еще один предписанный традицией маршрут: зрачками в душу.
Следуя этим путем, многие и многие русские поэты-современники за тридцать лет, «пропущенных» автором «Чужого побережья», наговорили о себе столько гадостей, понараскрывали в себе столько богомерзких тайн, что напрочь утратили возможность (и желание) хоть в какой-то мере служить нравственным ориентиром для читателей. Этот вариант бессудной расправы с самим собою – я правду о тебе (и, в особенности, о себе) порасскажу такую, что хуже всякой лжи – не по Алексею Улюкаеву. Говоря о себе, он в стихах откровенен, но не бесстыден, открыт, но не распахнут, и, видит Бог, этому неприятию лирического эксгибиционизма, вошедшего в моду, этой нравственной опрятности и сдержанности веришь больше, чем лихой исповедальности, где всё – будто (и действительно) на продажу.
Как веришь и тому, с какой деликатностью и с каким прямодушием поэт говорит о возрасте, старении и – увы, увы – о близящемся уходе из нашей с вами юдоли. Конечно, для мальчиков не умирают Позы, и да здравствует вера в собственное бессмертие, но, как сказал совсем другой поэт, поэзия – дело седых, / Не мальчиков, а мужчин, / Израненных, немолодых, / Покрытых рубцами морщин, / Сто жизней проживших сполна / Не мальчиков, а мужчин, / Поднявшихся с самого дна / К заоблачной дали вершин. Мальчикам стихи Алексея Улюкаева читать, действительно, не стоит: поздний опыт зрелого ума возрасту иному не годится. А вот тем, кто постарше, – в самый раз. Ибо им (нам) тоже хочется всё – весь свой (хваленый) интеллектуализм и все свои (в трудах добытые) преимущества – бросить ради самых-самых грубых радостей:
Меняю первородство на чечевичную похлебку
И бабу, у которой я не первый.
Требования к похлебке: едкая, к бабе – ёбкая,
И желательно не полная стерва.
С подлинным верно.
И ибо им (нам) тоже знакомо молящее – хоть так:
Вся эта жизнь, короткая – как прежде,
Казалась длинной юному невежде.
Неужто кончится? Берет тоска и…
Не отпускает
Что там вера, что надежда… —
хоть этак:
Ты только дай нам знак: уже не рано.
И мы уходим. Тихо. По-английски.
…А можно я еще чуть-чуть побуду?
Впрочем, жизнь хороша, особенно в конце, – сказал старший современник Улюкаева. А сам Улюкаев охотно взял ту же ноту, изобилием восклицательных знаков заглушая такую понятную и уже тем самым простительную печаль:
Но до чего же (все то же – дожили, боже!)
Жизнь хороша – хоть вприпрыжку, хоть еле дыша!
К черту пророчества! Рано итожить!
…Жизнь хороша!
Ведь и в зрелом возрасте многое доступно. Работа. Семья. Путешествия. Перечитывание любимых книг. Или, например, игра в слова и со словами, которой Алексей Улюкаев предается, кажется, сверх всякой меры. Мне-то все эти гремушки (ну, типа за горизонтом на горе зонтик или керосинь с нами в синь) видятся едва ли не единственной в стихах «Чужого побережья» приметой самозабвенного дилетантизма, но… Будем снисходительны к автору – когда столько лет работаешь с цифрами, диаграммами и графиками, как же не взмолиться: Ну дайте же вы мне пографоманить. / Манить, подманивать словечки на местечки, / В которых их прикармливал заранее.
Стихи для Алексея Улюкаева – только отдушина, вне всякого сомнения. Антракт – между действием и действием. Или, простите уж совсем непочтительную параллель, – кулуары, где можно наконец-то расслабить галстучный узел и где часто говорится что-то вроде бы и не обязательное, но если вдуматься, то самое важное, проявляющее личность.
То, чему сам поэт дал название – отросток малый. И что я рискую назвать неуклюже, но точно – неисчерпываемым остатком.
Абсолютно необходимым для самого поэта.
Да и для читателя не лишним.
Примечания
1
Иосиф Александрович Бродский.
2
Лауреат Сталинской премии.