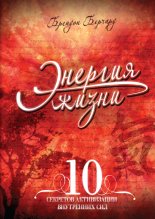Живые, или Беспокойники города Питера Крусанов Павел
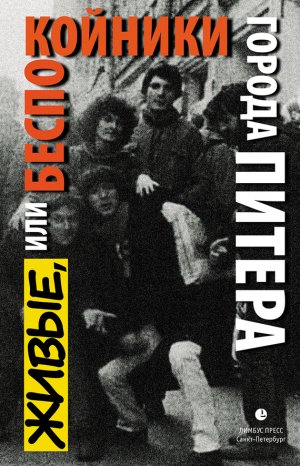
В Швеции Курехин, для разминки поразив изнуренных безмятежной жизнью викингов дикарской практикой горлового пения, вывел к рампе приглашенную на выступление с «Поп-механикой» приму из Стокгольмской оперы (теперь не вспомнить имени, но утверждали — знаменитость) и в середине ее сольного номера запустил на сцену стадо гогочущих гусей. Затем была театральная постановка в Балтийском Доме — «Колобок». Курехин исполнял роль колобка, Пригов — поэта. Еще там играли Баширов, Юля Соболевская, а также отпетые некрореалисты Юфит и Циркуль. Во время финального трагического монолога колобка, в миг несказанного катарсиса на сцену въехал экскаватор и разрушил все декорации. Алексей Герман, присутствовавший в театре, вздохнул печально: «Мне пора уходить из профессии».
А однажды Капитан предложил Ростроповичу выступить в Кремлевском дворце дуэтом, но только Ростропович должен играть на рояле, а он, Курехин, на виолончели. Ростропович сдрейфил. Еще бы — это серьезнее, чем с американским паспортом в кармане российскую демократию спасать… Продолжать перечень его артистических подвигов и великолепных сумасбродств (были еще истории с тринадцатью арфистками; ванной шампанского у Алины Алонсо; военно-морским оркестром; фестивалем в итальянском городе Барии, где на сцене гарцевал жеребец, распугавший хор монашек; Обществом духовного воспитания животных; берлинским Темподромом, ошарашенным «Поп-механикой» с Дэвидом Моссом, Африкой и визжащими поросятами; спектаклем «Гляжу в озера синие», где оживала мумия Эдуарда Хиля и проч.) бессмысленно и даже вредно — слова все равно не могут выразить всю полноту невыразимой действительности, потому что сами же без умысла обкрадывают ее, как фотография, которая, копируя мир, тут же лямзит у него третье измерение.
В 1985 году, еще на взлете, Курехин следующим образом описывал принцип действия своего невероятного коллектива:
Дело в том, что «Поп-механика» — это понятие растяжимое… То есть, скажем, мы сидим с Борисом Борисовичем и пьем чай, а Борис Борисович говорит, например, что давненько мы не пели неаполитанских песен. «Ты любишь Неаполь?» Я говорю: «Да». Он говорит: «Давай попоем». Отлично. Что нам для этого нужно?.. Так, Неаполь. То есть… певец или певица, которые поют неаполитанские песни. Дальше, струнный оркестр плюс аранжировку надо сделать в духе неаполитанских песен. Но дело в том, что неаполитанские песни рядовому слушателю будет скучно слушать. Точнее, не скучно, а традиционно. Он может пойти куда-нибудь в другое место и послушать их там. Для того чтобы было как-то интересно, мы вносим элементы другой музыки, которую мы в данный момент любим и хотим слушать. Предположим, это некая индустриальная музыка. В общем, музыка, исполняемая на современных инструментах, как то: токарные станки, рельсы, отбойные молотки, наковальни, молоты, топоры, гвозди… Мы прикидываем приблизительно, какая певица будет исполнять данную программу. Например, Мария Биешу, или Елена Образцова, или Архипова. Предположим, выходит Биешу, начинает петь. На втором куплете публике уже становится скучно, потому что она поет хорошо, но это одно и то же. Тут мы всей индустриальной компанией начинаем громко извлекать звуки из индустриальных инструментов, но этот шум утомляет людей, поэтому мы быстро его прекращаем. Архипова, предположим, продолжает допевать второй куплет. Однако чтобы снова не дать слушателю скучать, мы опять запускаем немножко индустриальной музыки. Но поскольку второй раз — это уже слишком много, то кусочек индустриальной музыки совсем маленький. Потом прекращаем, и она продолжает петь. После этого, чтобы сменить характер — индустрии хватит, — мы пускаем немного электроники, а потом уже, скажем, нам надоела неаполитанская музыка, мы хотим чего-нибудь другого. То есть мы хотим из своего слушательского опыта то, что нам в данный момент хочется слушать… То, что мы, находясь на сцене, хотим услышать сами. Вот это стараемся исполнить и заодно потанцевать, подвигаться на сцене.
Вот еще небольшой фрагмент из беседы Бориса Друбова с Курехиным и Гребенщиковым (тогда Капитан и БГ были еще взаимоочарованы и тянулись друг к другу):
Б. Гребенщиков: …«Популярная механика» исполняет важную роль в процессе разложения нынешней культуры и появления новой.
С. Курехин: То есть она одновременно венец умирающей культуры и в то же время первенец нарождающейся культуры. То есть она совмещает в себе два начала: тотальной смерти и тотального рождения. То есть она выполняет функцию Спасителя.
Курехин неутомимо дурачил всех, начиная с собственных музыкантов (в них он никогда не испытывал недостатка, поскольку, по словам БГ: «Любой музыкант в Ленинграде сочтет за честь играть с Капитаном, поэтому, когда появляется возможность сыграть, то все охотно принимают в этом участие. Их могло бы быть в десять раз больше, просто на сцене они не поместились бы даже стоя») и завороженных слушателей и кончая чиновниками всевозможных худсоветов и массмедиа. А однажды он бесподобно разыграл весь Советский Союз, всю обмякшую, еще не до конца освободившуюся от гипнотического сна и населяющих его призраков страну. Для тех, кто не помнит: в 1991 году по питерскому каналу, который в те времена был общефедеральным, Капитан в образе крупного ученого-миколога (тут ему умело подыграли Шолохов и Африка) с применением наглядных средств, демонстрирующих схожесть контуpa броневика с грибницей, поведал телезрителям о сенсационном открытии — Владимир Ильич Ленин, оказывается, был гриб. Именно так: пролетарской революцией и 1917-м руководил галлюциноген, относящийся, скорее всего, к разряду псилоцибиновых грибов, который вынудил галлюцинировать сначала верхушку партии большевиков, а затем и всех остальных. В столь непривычную (непозволительную) для советского эфира шутку на час (пока Курехин, не выдержав, предательски не прыснул) поверили миллионы наших соотечественников — от учеников спецшкол с разнообразными уклонами до набожных старушек, от партийных работников со стажем до Аллы Пугачевой (по личному ее признанию).Капитан в один миг стал общенациональным героем для всех, кто считал себя идеалом современника или стремился таковому идеалу соответствовать. Теперь, после выступления Курехина, попытки каких-нибудь архивных исследователей-лениноведов, безмерно расплодившихся в ту пору, огласить новые, доселе скрытые под разными запретными грифами, сведения об Ильиче казались просто смехотворными. Капитан закрыл тему.
Глядя на его уморительные проделки, складывалось странное впечатление: с одной стороны, Курехина обуревала невыносимая жажда деятельности, с другой — он каждый раз все обставлял так, чтобы никто не смог подумать, будто он что-то делает всерьез. Потому что когда дело делается не всерьез, человека не может постигнуть поражение — он ничего не теряет, поскольку ничего не ставит на кон. Вообще, это одна из типичных черт постмодернистского поведения — все время быть в маске, в разных масках, стремительно их меняя, чтобы, не дай бог, хоть на миг не обнажить истинное лицо. Потому что, когда ты что-то делаешь всерьез, ты открываешься и можешь стать уязвимым, а нам так не нравиться быть уязвимыми…
Не думаю, что Курехин страшился оказаться уязвимым. Он вел себя бесконечно отважно, но при этом никогда не выскальзывал за рамки некой веселой игры. Как героический колобок, он нарывался, но всякий раз уходил и от бабушки, и от дедушки — уходил ото всех. Тем более странно, на первый взгляд, выглядит его последний жест, благодаря которому он подставился столь откровенно, что невольно возникала мысль: а не снял ли он наконец маску? Впрочем, консервативная революция по своему интеллектуальному, духовному и эмоциональному содержанию столь парадоксальна, артистична, мистична, бескомпромиссна и сверхчеловечна, что тоже вполне могла быть включена Капитаном в проект его вселенской игры. Но об этом ниже.
Петербург — многослойный город как в смысле редко пересекающихся социокультурных пластов, так и и ином, сакральном отношении. Пространство реального города, пространство его образа и пространство, где происходят как самые важные, так и самые будничные события для каждого из нас, постоянно не сходятся. СПб можно уподобить ракушке. Кто-то привык любоваться ее закрученным, рогатым, лощеным панцирем, а между тем эта внешняя чудесная раковина — уже мертвая материя, ну а реально живое в ней — голый моллюск, малопривлекательный слизень, та субстанция, которая чувствует, переживает, заботится о здоровом пищеварении, пудрит носик и подхватывает простуду. Так же и с городом: архитектура — это красивая мертвая раковина, миф города — это чернильное облако (петербургский моллюск умеет пускать такие), фантомы Медных всадников, Акакиев Акакиевичей, Аблеуховых и Тептелкиных, а сам слизень — это живое общество города, которое как раз лощит и покрывает перламутром раковину, хотя само редко вылезает посмотреть на нее снаружи (зачем? оно привыкло, оно не представляет, что можно обитать в другой упаковке), оставляя это удовольствие для заезжего туриста, для гостей нашего города, и именно оно пускает все эти чернильные фантомы. Оно же задает и ту высокую планку эстетизма, тот бесконечный ряд красот и странностей, который позволяет СПб пребывать в том кристально-блистательном виде, в каком он неизменно предстает, в сколь отдаленной географически точке о нем бы ни говорили. Сам по себе слизень аморфен и многолик — это ювелир Ананов и художник Котельников, Гергиев и Гаркуша, Пиотровский и Хлобыстин, Мыльников и Шинкарев, это все мы, многогрешные, качающиеся в сетях волшебного сна наяву и одновременно ежесекундно воспроизводящие этот город-сон со всеми его постоянно действующими миражами.
Курехин был гениальным изготовителем чернильных бомб — в этом деле сравниться с ним некому, тут он был чемпион, тут он воистину несравненный (читая старые газеты, наткнулся на рекламу смирновской водки: «рябиновая несравненная»). Он прекрасно знал, что главное в жизни не состязание реальной силы, а состязание грез, война иллюзий и соблазнов — чья греза окажется обольстительнее, тот победит. Однако, помимо чудесной пурги, он мог похвастать еще очень многим, хотя хвастовство Капитану было совершенно не свойственно. В частности , благодаря своему невероятному обаянию, он владел потрясающим мастерством коммуникации. Вот уж у кого был воистину миллион друзей… (Курехин не зря слыл едва ли не самой известной в СПб личностью, и уж если он кого-то по недоразумению не знал, то его знали все. Я остро понял это, когда, встречаясь с ним по неизвестно уже какому делу в метро «Горьковская», увидел его одиноко стоящим у стены вестибюля и прячущим лицо за поднятым воротником плаща — нам льстит чужое внимание, но оно же лишает нас тихого счастья быть не узнанным в толпе.) В условиях петербургской многослойности, Курехин являлся чем-то вроде стержня в детской пирамидке (помните, такой штырь с насаженными на него, как чеки в булочной, разноцветными, возрастающими к низу по размеру блинами?) — он пронизывал все пласты здешней жизни и не то чтобы скреплял их, нет, но прокладывал между ними каналы общения и всевозможного взаимообмена — идеями, деньгами, деловыми предложениями, профессиональными навыками и т. д. Он с одинаковой непосредственностью общался с шеф-редактором телеканала, тяжело пьющим художником, бандитом, искушенным эзотериком, звездой советской эстрады, православным батюшкой и директором пивзавода. Он соединял разрозненные детали организма мегаполиса в единое целое. Он сразу понимал, кому и чего не хватает, сводил людей между собой, и у них закипала работа. Многие целенаправленно использовали его именно и таком качестве, видя в Курехине универсального связного — самый легкий способ выйти на нужного человека. После смерти Капитана в слоистом пироге Петербурга до сих пор зияет дыра, из которой сочится космический сироп отчуждения.
Помимо «Поп-механики», Курехин держал в голове десятки других проектов — он выпускал альбомы, открывал издательство, планировал телепередачи и театральные спектакли, обдумывал межпланетную акцию на тему магических арканов, выдувал сияющие мыльные пузыри всевозможных мистификаций, выступал с сольными фортепианными концертами, собирался ставить в СПб гигантский памятник воробью, писал музыку для кино и снимался в нем. Весной 1995-го мы вместе с Капитаном, Андреем Левкиным и Сашей Клоповым затеяли журнал под названием «Ё». Во втором номере наряду с прочими материалами должно было публиковаться курехинское либретто драматической оперы «Пять дней из жизни барона Врангеля», к которому художник Анатолий Ясинский сделал отличную графику, однако свет увидел только первый номер «Ё». Этот проект, равно как и памятник воробью или телевизионная программа «Немой свидетель», оказались из малого числа тех изящно-провокационных затей с участием Капитана, которые не нашли своего полного осуществления (первый, так и не пошедший в эфир, упоительный в своем веселом хулиганстве выпуск «Немого свидетеля» о новоорлеанском джазе как порождении вудуизма, я смотрел в записи с видеокассеты). Прочие, подчас гораздо более дерзкие и невероятные, идеи Курехина имели свойство воплощаться — бесспорно, он был человеком удачи, легким и изящным в действии. Моцартианский тип. Именно к таким спускаются с небес драконы и ангелы.
Не следует злоупотреблять цитатами, поскольку цитата — ум дурака, однако, чтобы объяснить кажущуюся всеядность Курехина, его желание и готовность участвовать буквально в любом деле, лучше дать слово ему самому. Вот фрагмент одного из немногих вдумчивых, с минимумом пурги интервью Капитана, данного им Виталию Князеву:
С. К: …мне очень важен индивидуальный опыт, он учит так, как не учит никакой другой. Учиться со стороны — абсурд. Не постигнув что-то, не испытав этого эмоционально, не пережив, ничего никогда не поймешь. А потом, в определенный момент, можно для себя сказать, что вся жизнь, которая была до этого, это лишь попытка жизни. Настанет момент, когда я сделаю что-то, что будет только моим, моим собственным… У меня пока в жизни не было ничего. «Поп-механика», она мне совсем не близка. Я ее делал, она доставляла мне какую-то радость в жизни, но… Мои фортепианные концерты — конечно, они эмоциональны, но они не выражают никакого отношения ко мне самому. А мое сокровенное, оно состоит из большого числа маленьких нюансов, я их коплю, и они составляют самую интимную, самую важную часть моей внутренней жизни. Когда «оно» сформируется… «Оно» уже сформировалось, «оно» уже существует практически, но «оно» еще не достигло такой степени, чтобы пожелало себя выразить. «Оно» уже может, но пока еще выжидает… Как говорил Цвейг, каждый человек точно знает свой звездный час. Одни ощущают, что он прошел, другие — что они в нем живут, а я ощущаю, что мой звездный час еще далек, может быть, после смерти…
B. К.: Дай Бог тебе его не торопить и отдалить максимально.
C. К.: Спасибо, конечно, но бывает, что человек готовится к этому всю жизнь да так и умирает, звездного часа не дождавшись. Поэтому я стараюсь все-таки оставлять какие-то знаки, как собака метит столб. Вдруг мне упадет кирпич на голову? Я хочу, чтобы оставались какие-то знаки, какие-то отрезочки, запахи, по которым, в случае кирпича, можно было бы восстановить какую-то картину… Поэтому мне сейчас очень важна интенсивная деятельность. Сейчас я уже иногда замечаю, что начинаю разрываться. Когда я это четко почувствую, тогда у меня и возникнет потребность в спокойствии и сосредоточении… И тогда я уже ничего не буду делать из того, что не состыковывается с моим состоянием, я перестану думать о других людях, меня это перестанет интересовать. Гуманитарный и социальный моменты исчезнут из моей жизни, как навоз из хлева. Для меня будет важно только то, что я делаю ВЕЩЬ, которая станет полностью выражением моего какого-то самого интимного…
B. К.: А ты не боишься, что тебя отвлекут? Те же проекты — доделанные и недоделанные?
C. К.: Нет, я все доделаю. Я очень четко рассчитываю свое жизненное время. Я очень хорошо научился себя внутренне контролировать…
Такое впечатление, что кирпич себе Курехин накликал. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах…
В ДК им. Ленсовета все начиналось, там же все и закончилось. Не то чтобы подобное обстоятельство выглядело символично, однако факт привязки к месту придает сюжету строгий вид. Осенью 1995-го, на этот раз в большом зале достославного дома культуры, состоялось последнее представление «Поп-механики». Зрелище было грандиозное и проходило под знаком «418». Билет национал-большевистской партии под таким номером незадолго перед тем был вручен Курехину отцами-основателями партии, тогда еще шагавшими в одном строю, Лимоновым и Дугиным. Кроме того, Алистер Кроули в своей «Книге законов» писал, что перейти в новый эон сквозь безжалостную бурю равноденствий сможет лишь тот, кто постиг смысл числа 418. Собственнo говоря, Дугин (в то время их с Капитаном мнения по многим вопросам были весьма схожи) и расценивал эту постановку как иллюстрацию финала зона Осириса.
Действо получилось величественное, надменное и страшное (финский продюсер, финансировавший последнюю «Поп-механику», после осуществления этого проекта бросил свое продюсерское дело, ушел из семьи и занялся разведением кактусов) — освещение в мрачно-багровых тонах, на сцене какие-то полуголые не то борцы, не то тяжелоатлеты в золоченых погребальных масках фараонов, тут же вальсируют центурионы, на огромных качелях над сценой летают старухи-ведьмы, а на крестах заживо горят грешники. Курехин вещал и зал о титанах, поднявшихся на борьбу с богами, чтобы сбросить их с Олимпа, центурионы щелкали кнутами…
Характерно, что никого из героев первой «Поп-механики» в тот день на сцене не было. Ротация состава здесь постоянно происходила и прежде, но всегда имелся костяк, определенная группа доверенных и как бы посвященных… Однако не на этот раз. Прежняя команда покинула Капитана… Или наконец свершилось — «оно» решило себя выразить, и Курехин перестал думать о других людях, он приступил к той самой стопроцентно своей ВЕЩИ, в процессе изготовления которой гуманитарный и социальный моменты исчезли из его жизни, как навоз из хлева? Сначала в концертах «Поп-механики» участвовали только его друзья, ближний круг, потом для потехи и измывательства появились Хили и Кола Бельды, потом основное ядро уменьшилось до трех человек — Ляпин, Костюшкин, Гаккель (остальные участники были как бы случайными, нанятыми за деньги), — потом — никого. Капитан остался один. Если не считать жены Насти, Дебижева, Африки, Новикова и Дугина. Ну, и еще нескольких людей, не привыкших мыслить заданными штампами.
Именно после этой, последней «Поп-механики» начался обвал либеральной брани. Как можно — обаятельный мистификатор, герой контркультуры, столп постмодернизма, вдохновитель самых интересных и блистательных проектов питерского нонконформизма вдруг продался фашистам, разбрасывает национал-большевистские листовки на заводских митингах и в предвыборных роликах агитирует за Дугина?! Это не укладывалось в либеральных головах: кумир зарвался. Капитана тут же обвинили в черной магии, порнографии и шизофрении.
Теперь принято считать, что традиционалистской и патриотической риторикой Курехин воспользовался в качестве инструмента, дабы с их помощью выйти на следующий уровень дурачества и эпатажа почтенной публики. Такой взгляд примиряет демократическую и космополитическую диссидентуру с опасной и здорово оскорбившей их фигурой Капитана. А между тем к консервативной революции Курехин пришел вполне естественным путем. Он всегда интересовался христианской мистикой и различными эзотерическими учениями, еще в семидесятые выискивая по питерским «букинистам» Сведенборга, Св. Фому Аквинского, теософов и Василия Валентина Он интересовался историей религии и философией, не ограничиваясь Флоренским, Бердяевым и Булгаковым, но посягая и на дебри постструктурализма (организованное при его участии издательство «Медуза» задумывалось, в частности, как трибуна для современной французской философии). Он был интеллектуалом в прямом смысле этого слова (речь не о носителе академических знаний, а о человеке, впитавшем широкий спектр идей и на этом основании способном к производству новых, без отвлечений на велосипеды). С традиционалистом Александром Дугиным Курехина связывала не просто тяга к освоению нового и интересного ему материала, а определенная идейная и духовная общность. Его последние политические пристрастия, как говорил сам Капитан, это результат поисков собственной миссии, шаг и сторону ее выявления. Он ведь действительно считал, что в политику должны идти авангардисты от искусства, способные едва ли не магическим (творчество и магия — один проблемный ряд) образом трансформировать реальность, о чем и было заявлено в манифесте «Новых магов». Кроме того, идеи и арсенал консервативной революции с ее сплавом несплавляемого и сочетанием несочетаемого практически идеально совпадали с принципами синтетизма в его собственном творчестве, где нос к носу сводились опера и токарный станок, писк эстрадной звезды и скачущие по сцене кролики, где вязались в единое целое узами его воли глубокое и плоское, высокое и низкое, аристократически-утонченное и нарочито дебильное. , но была все та же «Поп-механика», но на новом, политическом поле.
Вообще, явление Курехина публике в роли весьма своеобразного политика логично или, по крайней мере, не случайно. Еще в начале девяностых он не раз высказывал суждения относительно собственного видения идеального государственного устройства. Это был, безусловно, романтический образ. Он находил смысл государства в том, чтобы людям, гражданам государства, жилось хорошо, а для этого государство должно быть во всех отношениях сильным — вместе с силой приходит спокойствие. Кроме того, ему нравилось сильное государство, потому что сильное государство — красивое государство. Он считал бессмысленными все тогдашние разговоры о демократии и тоталитаризме, потому что нельзя с точки зрения сегодняшнего дня порицать другое время. Нельзя порицать демократию с точки зрения тоталитаризма, потому что на тот момент демократия была отдушиной, впустившей свежий воздух. Но Капитан говорил, что точно также и тоталитаризм может стать живительной отдушиной при засилии демократов. Государство, считал он, это своеобразный космос, способ существования материи, объективная реальность. И все же при этом он хотел преображения, хотел участвовать в создании государства нового типа, небывалого государства, главные люди в котором были бы не тупыми идиотами, а легкими, умными, тонкими, играющими политиками. Политика должна стать красивой игрой. Красота вообще должна стоять во главе угла всего, в том числе и политики. Политика — это умение красиво обыгрывать. Он говорил, что неумно и даже попросту тупо было посылать в Чечню войска и давить сепаратистов танками — чеченцев нужно было просто красиво обхитрить. Просто обвести вокруг пальца. В конце концов, для подобных вещей человеку и дан ум. Так говорил Курехин.
Впрочем, он много чего говорил и помимо этого. И совсем на другие темы. На какие угодно. Победив всех соперников, он словно сам с собой состязался в грезах.
Ловко и изобретательно. Играя. Он говорил так, что приучил себе не верить. Все слушали его с жадным вниманием, как сладкоголосого алконоста, способного снесенным яйцом на шесть дней успокоить море, как обольстительного райского сирина, заставляющего забыть скорби земной юдоли, слушали — и не верили ни единому слову.
Трудно сказать, что Капитан предпринял бы в дальнейшем. Вероятно, побузив на подступах к думской трибуне, одурачив и выставив голыми королями до зевоты пошлую политическую элиту и прочих подвернувшихся на пути мордатых государственных мужей, он отправился бы выявлять собственную миссию в иные дали (будучи введенным в состав коллегии по культуре при мэрии СПб, он выдержал лишь два заседания и дал оттуда деру). А может, вернулся бы на художественное поле с волшебным ящиком (Пандоры) новых ошеломляющих проектов и артистических чудачеств. Благо он и в самом деле был полон сил и внешне выглядел едва ли не юношей. Однако кирпич настиг Капитана именно на этом витке его судьбы.
В конце 1995-го Курехин почувствовал первое недомогание, но все равно уехал с фортепианными концертами в США (Майами и Нью-Йорк). После возвращения ему стало хуже, однако он снова отправился в поездку — на этот раз в Москву, обсуждать очередной проект с режиссером Андреем И. В итоге в больницу с диагнозом саркома сердца (редчайшая болезнь, принесшая людских смертей едва ли больше, чем принес их птичий грипп) он лег только 7 мая 1996-го.
На больничной койке Капитану пришла в голову блестящая мысль, что впредь, после выздоровления, они с Настей будут носить одежду исключительно от Армани. Попутно он обдумывал какой-то новый японский проект — Курехин не верил, не хотел верить в собственную смерть, как колобок, он должен был уйти и от нее… В больнице чаще других его навещали Дугин, Волков, Дебижев, Потемкин, Таня Брагинская, Ринат Ахметчин. Несколько раз к Капитану в его последние дни приходил отец Константин. Настя дневала и ночевала в его палате, и однажды ей приснилось, что Сергей выздоровел…
Он умер 9 июля 1996 года, ему было сорок два. Отпевали Капитана в церкви Спаса Нерукотворного на Конюшенной площади, где служил отец Константин и где когда-то отпевали Пушкина. Места в храме всем пришедшим не хватило — люди толпой стояли на тротуаре перед церковью и на площади Тогдашние петербургские власти не разрешили хоронить Курехина на Литераторских мостках (как можно, он же фашист), и его похоронили на тихом загородном кладбище в Комарове.
В тот день мы не поехали в Комарове — не хотели видеть, как Сергея закапывают в землю, — с Рыбой, Трофименковым и еще пятью-шестью пришибленными этой трагической потерей сиротами (товарищами/подругами) мы остались пить теплую поминальную водку в Михайловском саду Мы много выпили, преступно соскальзывая на понижение от водки к вину и, одумавшись, возносясь обратно, мы хотели, чтобы спасительный хмель заполнил внезапно открывшуюся пустоту, примирил нас с утратой и снова сделал веселыми и злыми, но ничего не вышло. Пустота на том месте, где был Курехин, не исчезает и поныне, порой кажется — она только растет.
Р S. Если начать фильм о Капитане действительно уместно с грезы о грядущем, то завершить его следует приветом из прошлого, улыбкой с той стороны Неподражаемой улыбкой человека, не знающего, что такое поражение, потому что поражению в пространстве его жизни не за что было зацепиться.
Рассказывали, что какое-то время после смерти Капитана Настин автоответчик говорил его голосом. От неожиданности звонивший вздрагивал.
АНДРЕЙ ХЛОБЫСТИН
Тимур Новиков
Сарпакша — Змеиный Глаз, или Слепой художник
Сейчас не лучшее время писать о Тимуре Новикове, шумихи и так хватает. Но, перефразируя Георгия Гурьянова, думаю, что «уж лучше я, чем какой-нибудь урод» напишет для издания, которое я для себя называю «пинок мертвым». До сих пор Тимур, уже уйдя от нас «на повышение», громыхает где-то поблизости, как лягушонка в коробчонке. Весть о нем всегда бежала впереди него. Только потянувшись в богемную молодежную среду и услышав что-то о компании Новикова, я сразу же был заинтригован, подпал под очарование этих слухов. Это была самая веселая, отвязанная и модная компания добрых панков. Тем не менее в сонном ханжеском обществе, где место современных бандитов занимали гопники, эти милые хулиганы производили устрашающее впечатление. Новикова я узнал сразу, ни разу не видев его прежде. Они стояли на балконе кинотеатра «Спартак» с Юфой и, глядя в зал, зверски ухмылялись, как две нотрдамские химеры петербургского извода. Казалось, сейчас они начнут плеваться в зал.
Меня, молодого господина из академической среды, привлекало в них именно это свободное и импровизационное хулиганское начало. Сами же «дети проходных дворов» и Купчино тяготели к публичности и признанию. Любая форма официальной подачи их деятельности казалась им до колик смешной фантастикой. Тем не менее через три года именно их произведения первыми из всего андеграунда попадут в Русский музей, музыка покорит всю страну, а сами они будут именоваться профессорами, академиками или «последними героями». Тимур как раз был тем человеком, который умел делать все эти невероятные волшебства. В то время, когда бородатые диссиденты гневно потрясали цепями, принимая позы жертв и пророков, модно одетая молодежь просто плевала на власть, которая для них имела ту же тупую репрессивную природу, что и бородачи, не пускавшие их на свои выставки, как «антиискусство». Молодежь уже давно почувствовала, что новая, настоящая власть не подавляет, а соблазняет.
Сарпакша (змеиный глаз, санскр.), Курносый Блондин, Ноль, Тимурище (гаврилыч.), Тимофей Петрович и т. д. — самая заметная личность на художественном небосклоне Петербурга 1980-1990-х. Если идти путем бюрократического перечисления, то к его главным достижениям можно отнести следующие мощные свершения: он вывел на художественную сцену молодежную культуру, сделал ей прививку от СМИ и заставил всех опять считаться с нашим искусством. Помимо этого, он организовал «Ноль-движение», «Новых художников», «Клуб друзей Маяковского», «Новых композиторов», «Новую Академию», первые сквоты, первые перформансы и хепенинги, стал «дедушкой русского рейва» и т. д. и т. п. Художников, групп и институций Новиков налепил столько, что искусствоведам и функционерам хватит материала для исследования и паразитизма еще на многие годы. В восьмидесятые он стал одним из первых художников-авангардистов, чью деятельность трудно свести к чему-либо конкретно и лучше всего характеризует определение «деятель культуры»: его произведением были не картины, герои или события, а художественная ситуация в целом. Новиков без стеснения каламбурил со своей фамилией, давая названия всем своим проектам со словом «Новый», но это не вызывало протеста. Он действительно был новатором и небывало расширил сферу местного искусства, дал ему разнообразные версии и обеспечил его жизнеспособность в будущем. Новиков стал крупнейшим отечественным художественным стратегом-патриотом 1980-1990-х годов, по кпд явно превосходившим министерство культуры. Он был одним из немногих в России людей, кто обладал настоящей прозорливостью и глобальным взглядом на ситуацию в культуре. (Как анекдот можно рассказать, что еще в девяносто четвертом Тимур предлагал подать на Биеннале проект от имени российских художниц-мусульманок, владеющих новейшими технологиями и носящих паранджу. Тогда это казалось абсурдной шуткой, но через несколько лет мусульманские художницы заполонили всемирные выставки.) Новиков владел уникальной способностью «по живому» создавать историю искусства, загодя отводя там место себе и своим друзьям. Как факир, он заклинал вещи и события (поразительны были похороны Новикова, когда его друзья в черных сюртуках шли за гробом через карнавальные толпы: в присутствии Путина и Буша проходил праздник города), из воздуха лепил художников, действительно скоро попадавших в музеи и журналы, а из цилиндра доставал новые художественные движения, в том числе и не совпадавшие по идеологии с его собственной политикой. Тимур делал это осознано эгоистично: без авантюр, интересной среды и бурлящей вокруг «борьбы течений» ему было скучно. Энергия распирала его так, что, разговаривая с вами, он подпрыгивал на месте, будто хотел писать, а затем садился на велосипед и мчался эдаким чертом по городу. Однажды в Нью-Йорке Тимур рассказал мне, как потерял девственность в двадцать восемь лет (фрейдисты-сублиматоры, шаг вперед!) и познакомил меня с девушкой, помогшей ему в этом трудном деле. После этого я навещал ее на работе, с интересом наблюдая страсти закулисной жизни небольшого стриптиз-клуба. Будучи человеком-фейерверком, он постоянно всех тормошил и провоцировал. Казалось, ничего нового не происходило без его участия. Можно спорить о методах Новикова, но нельзя не признать, что благодаря именно ему петербургская школа ощутила самодостаточность и вновь «зазвучала» после многих лет ее замалчивания, а отечественное искусство нашло признание и даже последователей на международной сцене.
А по-человечески он был магом и чародеем, видящим человеком, который поэтому может помогать другим (что-то вроде бодхисатвы). Тимур обладал настоящим даром видеть красоту, что ведет по пути к победе над эгоизмом. И этот видящий последние пять лет своей жизни был слеп.
История жизненного пути Тимура Новикова — весьма драматичный и трагический поиск волшебной правды искусства. Люди веселого поколения («Кто не жил до 89-го года, тот не знает, что такое радость жизни» — Талейран) мерли «от смеха», как мухи. Но, что поделаешь, как говорили махновцы, «нам хоть водка, хоть пулемет, лишь бы с ног валило».
На разных этапах жизни Новиковым владели страсти, амбиции, страх бесследного исчезновения (а он знал многих канувших в бездну). Всю жизнь он был внимателен и осторожен в быту, боялся сумасшедших, умел «обрубать хвосты» и конспирироваться, был выверен и движеньях и в пище (вегетарианец). В быту Тимур, проживший большую часть жизни в коммуналке, был неприхотлив. Он постоянно ощущал черту потусторонности и, стремясь заглянуть за нее, все время завышал планку, тщательно выстраивал документально подтвержденного Т. П. Новикова — великого художника, окруженного выдающимися друзьями. В итоге главным мнилось то, что многие люди благодаря Новикову увидели в жизни возвышенное и прекрасное. А он, как и мечтал, стал самым признанным художником Петербурга рубежа тысячелетий.
Красота «ослепила» Тимура в детстве в своих крайне выразительных ипостасях. Таковыми можно считать культурную среду — петербургскую ведуту + ГРМ (Государственный Русский музей), где работала машинисткой его мама; природные ландшафты — новоземельную тундру, куда его забросило в детстве; магию — волшебные сказки народов мира, большую коллекцию которых он собрал (в молодости его любимой книгой стала «Морфология сказки» В. Я. Проппа). Эта потребность обращать жизнь сказочным приключением владела им всю жизнь.
Тимур начал карьеру бородатым и волосатым хиппи (в образе волосатика Новиков представлен в массовке фильма «11 надежд» — тогда были собраны местные хиппи, чтобы изобразить тифози на западном стадионе) в кругу группы «Летопись» Боба Кошелохова. Молодой художник-экспрессионист быстро проявил помимо выдающегося художественного дарования еще и организаторский талант. Он создает первый художественный сквот, расположившийся в церкви. Подпольный художественный центр «Кирилл и Мефодий», где проходили выставки и вечеринки, быстро был вычислен и разгромлен властями. Но уже тогда молодежь проявила пред лицом власти еще не виданную пластичность. «Не трогайте картины!» — призывали они дружинников/дворников, выбрасывавших картины на улицу. «А ведь это и вправду говно!» — в изумлении завопил один из погромщиков, схватившийся за холст Саши Горошко. Вандализм захлебнулся, а бодрая богема продолжила делать свои выставки на городских панелях, в лесу и на пляжах курортной зоны.Ощутив рамки нонконформистской организации слишком узкими для себя, Новиков провоцирует абсурдный скандал с «Ноль-объектом» — дырявым стендом, объявленным им и Иваном Сотниковым произведением искусства. Скандал вылился в длинную, уморительную бюрократическую переписку с администраторами Товарищества экспериментального изобразительного искусства. Вскоре, окончательно разругавшись с альтернативным союзом художников ТЭИИ по абсурдному поводу «Ноль-объекта», Тимур создает собственную группу «Новые художники». Постепенно группа перерастает в движение, охватившее весь молодежный авангард. На протяжении 1980-х в эту культуру втягивались заумники-нулевики, еще в конце 1970-х нашедшие в Москве выход на чистый «сандоз», новые романтики всех мастей во главе с группой «Кино», панки, некрореалисты, твистуны «тедди», «новые дикие» из сквота «НЧ/ВЧ», первые электронные композиторы, левые интеллектуалы, образовавшие «новую критику» и т. д. и т. п. В стилистическом смысле это было первое в советской России движение, стихийно совпавшее с подобными явлениями на Западе — «ист-вилледжем» в Нью-Йорке, «фигурасьон либре» во Франции и немецкими «ное вильден». Каким образом граффитизм и «новая городская дикость» преодолевали политические и национальные границы, возникая синхронно в схожих формах в мегаполисах обоих полушарий, остается выпытывать у Мальчиша-Кибальчиша. Но если западные сверстники «новых» так и остались в восьмидесятых, повиснув многомиллионными экспонатами в музеях современного искусства, как, например, покойные Баскса и Херинг, их русские ровесники сделали очередной ход. Съездив заграницу и понежившись в ласке модернистской элиты в лице Кейджа, Уорхола, Нам Джун Пайка, Раушенберга, цвета французкой философии и звезд Голливуда, бывшие авангардисты вернулись домой законченными патриотами и консерваторами. На этой основе возник неоакадемизм.
Неоакадемизм был столь же агрессивным, стремившимся к всеохвату явлением, как и «новые». Этот главный тимуровский проект 1990-х также перерос в целую культуру. Поскольку в его костяке находились все те же бывшие панки и рейверы, то я полагаю, что неоакадемизм можно считать родом постпанка.
Стратегии Новикова, помимо почерпнутых из занятий историей искусства (по воспоминаниям Котельникова, искусствоведческие кружки при ГРМ и Эрмитаже, в которых Тимур занимался с восьмого класса, были сферой, отделявшей Новикова от его дружеской компании; современное искусство он знал и понимал практически лучше всех отечественных искусствоведов) и изучения книг, клеймящих модернизм, проистекали из непосредственного «уличного» опыта ленинградских (а затем новороссийских и пр.) молодежных группировок, в семидесятые представленных хиппи, а затем, в начале восьмидесятых, панками (наиболее выразительно их позиция проявлена в лозунге «Бодрость, тупость и наглость!» некрореалистов, входивших в движение «Новых художников»). Отсюда происходили шокировавшие нонконформистов хулиганские прихваты, манера запугивания, забалтывания, бахвальства, стремление доминировать любой ценой, превращение искусства в игру, свойственные «Новым художникам», а затем в той или иной мере другим созданным им группам. Вспомним акцию «Сожжение сует к 500-летию казни Дж. Савонаролы», когда «академики» на кронштадтском форту жгли свои старые произведения. Такие манеры, направленные на взлом костной ситуации, в художественных кругах со времен футуристов (хулиганские черты были присущи в 1940-1960-е кругу арефьевцев — самой выдающейся в то время художественной группе, представлявшей на нашей почве поколение, параллельное битникам и экзистенциалистам, — но это был замкнутый на себя круг, непосредственного влияния на «Новых» они не оказали, хотя знатоки и находили сходства в живописной пластике работ арефьевцев и О. Котельиикова) успели позабыть. Футуристы были еще одним источником стратегических идей Новикова, ценившего знакомство с носительницами духа 1910-1920-х Марией Спендиаровой, Алисой Порет, Марией Синяковой-Уречиной (последняя, например, известна тем, что во время похорон провезла по городу умершую мать, раскрашенную в супрематической манере). В 1986 году Новиков знакомится с замечательным трудом Андрея Крусанова «Русский авангард» (работа печаталась в самиздатовском журнале «Промокашка» и имела хождение и форме рукописи) — уникальным источником информации о прикладной тактике футуристов, которую он тут же начинает примерять к современной практике. Кроме того, богатый стратегический опыт борьбы за выживание давало художественное подполье, ко «второй волне» которого Новиков примкнул еще девятнадцатилетним юношей. Не чурался Тимур и эзотерических кругов.
В конце восьмидесятых искусство пережило крайнее унижение, когда художники перестали верить в саму его возможность. Искусством стали называться раз-личные формы манипуляции и имитаторства, понимаемые как ирония или ускользание. (В то время это смешило как издевательство над тупостью рыночной машины, но как прием оказалось одноразового использования. Тимур любил упоминать об известном «произведении» Дж. Кунса — баскетбольном мяче, плавающем в аквариуме, — виденном им в одном нью-йоркском доме. Мяч сдулся и притонул, и коллекционеры, прежде купившие его за бешеные деньги, не знали, что с этим делать.) Это была окончательная победа масс-медиа, окончательный переход от эстетики Власти репрессивной к Власти как соблазнению, которую теперь осуществляла поп/массовая культура через СМИ. Симуляционизм конца 80-х — начала 90-х был пиком линии, идущей от Ларионова и Маяковского, первых, кто начал скрещивать авангард с массовым языком, к Уорхолу. Прежде всего, этих художников Новиков выделял в 80-е. Русских и итальянских футуристов, осуществлявших себя через скандал, можно назвать первыми модернистскими поп-звездами и модниками.
Новиков, в отличии от нонконформистов и соцартистов/концептуалов, продолжавших внешне по-разному бороться с репрессивной властью, ощутил ее уход и стал первым отечественным медиа-художником, работающим с новыми властными энергиями. Прививка медиа-культуры была (и до сих пор остается) необходимостью, позволившей петербургскому искусству снимать проблему «власти», не влипая в нее. Еще находясь в рядах организованного движения художников-нонконформистов, Тимур охотно брался за бюрократическую борьбу «на измор» с чиновниками от культуры. Будучи «ходоком» в Управление культуры, ведя бесконечные переговоры, занимаясь самиздатом и рекламой, посылая петиции и прошения, выступая на дискуссиях, Новиков проявил талант в том, что раньше называлось «связями с общественностью», а ныне именуется «пиаром». С тех пор Новиков всегда питал слабость к различного рода официальным бумагам, удостоверениям, сложно иерархизированным организациям, торжественным заседаниям, грамотам, печатям и т. п., из чего создал особый «джокерский» (Джокер=0) жанр, могущий стать предметом специального исследования.
У истоков ситуации в начале 80-х находились очень талантливые художники, такие корифеи, как Борис Кошелохов, Олег Котельников, Иван Сотников, Соломон Росин, Вадим Овчинников, но их было слишком мало для воплощения новиковских замыслов. Целью Новикова было создание крупномасштабного движения, доминирование в художественной среде, взрыв застойной ситуации и культурный переворот, с последующим выходом на простор мировой арены. На этом пути главным был поиск потенциальных художников и образа искусства будущего, еще неясного самому ищущему. Искали неизвестно кого, повсюду, в самых неожиданных местах, даже в прошлом. В первую очередь в художников обращались друзья и знакомые. «Группа» формировалась как дружеско-семейный круг, из чего следовали «принцип петуха и кукушки» и «самохвальство». Главной находкой были люди, уже потерявшие ограничения, в «приключении» которых можно было принять участие. Этим определялось крайне широкое понимание искусства и отсутствие специализации (называемые мною «петербургским титанизмом»: ты художник, кинематографист, музыкант, поэт, модник и т. д. одновременно, не потому, что производишь некую продукцию, а потому, что держишь баланс высокого творческого состояния). Большую ценность представляли и просто энергичные, ищущие люди, нуждающиеся в том, чтобы им указали на их высокое предназначение, прочистили желание, дали возвышенную версию жизни. Инициация могла проходить и через открывающую сознание культурно-шоковую терапию. Некоторые из посвященных при этом мутировали в настоящие боевые машины, «срывались с тормозов» и по закону жанра крушили не только застойную среду, но атаковали и своего создателя. («Я подумал: а что, если запустить в самое логово арт-рынка настоящего энского хулигана? — говорил Новиков. — И представь себе, как работает!») Кого-то Новиков много лет назад назвал художником, чел поверил и мучается до сих пор.
Этот бесконечный процесс поиска и сопереживания и стал основным занятием Новикова на протяжении всей его жизни. Здесь не было цинизма и дистанцирования, так как смысл заключался в нахождении нового чувства жизни, принятии риска. Тимур никогда не отступал, принимая ответственность как за победу, так и за поражение. Во всех дальнейших движениях, созданных Тимуром, сохранялся принцип «игры на опережение» и создание моды (побеждает создатель завтрашней моды) и использование всего необычайного и новейшего.
Подобный поиск шел и в направлении новых культурных явлений. Это был период повального увлечения независимой рок-музыкой, столицей которой стал Ленинград. Тимур становится художником самой популярной и модной группы «Кино». Одновременно он сам проектирует авангардные инструменты «утюгон» и «длинные струны», играя на них на первом концерте будущей «Поп-механики» в музее Достоевского, и поддерживает зарождавшуюся маргинальную техно-музыку («Новые композиторы»), которой предстояло стать мэйн-стримом спустя десятилетие. Важным моментом, повлиявшим на его понимание работы с глобальными социокультурными энергиями, стало участие «Новых художников» в первом «Празднике города». По его идее в России возникает первый жанр новых медиа: видеоарт — «Пиратское телевидение». В дальнейшем в умелом использовании СМИ, кинематографа, рекламы и антирекламы, выпуске собственных манифестов, журналов, газет, теле— и радиопрограмм, листовок, сайтов и т. д. с Тимуром никто не мог сравниться.
Торжество комбинаторики во всех сферах культуры Новиков принимал как данность всеобщей иллюзии. Но помимо симуляционизма, важнейшим явлением 80-хбыл «новый романтизм», приверженцем которого и был Тимур. Он оставался крупнейшим русским медиа-художником, так как не опускал жизнь до медиального цинизма, а напротив, использовал его энергии и пластичность, пытаясь указать на высокие сферы, поднимающиеся над этой суетой.
Однажды Тимур заявил, что «достаточно все делать на четыре процента: сделаешь больше — перенапряжешься, меньше — ничего вообще не произойдет». Эта шутка вполне соответствует физическому облику новиковского произведения: значок/герой сжимается до тех самых минимальных процентов относительно общей площади «полотна», «став крестиком на ткани и меткой на белье» (подмечено М. Стариковым). Так боец у-шу бьет в конкретную точку или сложная машина приводится в движение нажатием маленькой кнопки. Небольшое, но точное, сконцентрированное усилие приводит в динамику грандиозные массы. Новиков развивал и форсировал традиционный петербургский минимализм, истоки которого можно возводить к богдановскому энергетизму эпохи футуристов, Даниилу Хармсу, кругу арефьевцев, Олегу Григорьеву и Валерию Черкасову. (Григорьева к Новикову привел в 1980 году художник Гоосс.) Эта традиция понималась как делание максимально эффективных и красивых жестов с минимальной затратой энергии. То есть эти поступки должны быть не подражательны, а уникальны в своей точной выверенности, что, собственно, и следует называть творчеством. Понимание в местной традиции искусства как традиции чести, вне отрыва от повседневного проживания, переносило принцип минимализма в самые разнообразные сферы жизни художника. Все совершенное и «правильное» создается практически из ничего и само собой; материал и техника изобретаются на ходу; художник действует «вслепую». «Из ничего» делались произведения и события. Использование того, что есть мод рукой, внешне было продиктовано суровой убогостью быта. Тем не менее это не были картонные баррикады. Фокус не может быть чудом: чудо — это мир в самой своей обыденности, это то, что явлено (банальное противопоставление: смотрение и видение).
Всепобеждающая простота, воплотившаяся в Т-34, "Калашникове», ракетоносителях, которые китайцы предпочитают «шатлам» за надежность и т. д., всегда имела и эстетические эквиваленты. Минималистическая эстетика восьмидесятых воплощалась в мантре «Не умничай!», что интерпретировалось как «будь проще», «умерь важность», «не суетись, держись достойно», а в основе восходила к невысказываемости и сокровенности религиозного переживания. Это, конечно, резко противоречило концептуализму или соц-артистскому стебу. Если западная молодежь избрала своим лозунгом «опен йор майнд!», русские сверстники, справедливо опасавшиеся, что того только от них и ждут, были осторожнее, используя блатное «фильтруй базар, секи поляну» (думай, что говоришь, будь внимателен) или цоевское «будь осторожен, следи за собой». Это соответствовало и представлению о внимании как основе искусства и магии, и конспиративным целям эзотерических и психоделических сообществ: негласное принятие в художники происходило через признание человека вполне «оторвавшимся» от действительности (прямо-таки по «лествице» Иоанна Дамаскина!). В восьмидесятые и девяностые некоторые богемные сообщества искренне верили в возможность изменения человечества в лучшую сторону с помощью органических и неорганических протезов, которые помогали находить неординарные решения художественных проблем. Магические совпадения мы с Тимуром называли «Ноосферату». Он (Ноосферату) помогал в самых разных сферах: найти на дороге крапаль или организовать акцию. Например, выходим мы с Литейного, 60 (из дома Тимура). Я иду в пальто с каракулевым воротником, пирожке, «прощай молодость» и галошах плюс накладной бороде. «А ты, — говорит Тимур, — работаешь в образе городского сумасшедшего, который ходит так по СПб круглый год. Только я встречаю его очень редко — раз в два года, беспокоюсь: не умер ли». В этот же момент старик выворачивает на нас с Невского.
На практике минимализм проявлялся как в традиционных жанрах и техниках, так, например, и в использовании «низкой» техники ризографии для вполне коммерческого произведения, а репродукций (копии) классического произведения как материала для успешной выставки. Одними из первых выставок организованных Тимуром в «Новой Академии Изящных Искусств» на Пушкинской, 10, стали персональные выставки Рафаэля и А. Иванова, на которых публика подолгу разгуливала с задумчивым видом.
Андрей Медведев полагает главным качеством Тимура Новикова исключительное чувство меры, сбалансированность, проявлявшиеся, в частности, в выверенности композиции. Так, рассказывает он, слепец, придя на развеску выставки, руками и шагами измерял пространство и произведения, после чего сам участвовал в развеске, добиваясь идеальных соотношений.
Минималистические решения Новиков принимал и в своей глобальной политике: он никогда не толкался у кормушки и не шел на штурм. Он смело занимал пустое место, например, никому не нужную помойку, которой для рынка и политкорректного искусства конца восьмидесятых была неоклассика. «Все лучшие места на сцене мирового искусства давно заняты, — говорил он, — и мы захватили то, что было свободно — презираемые задворки, неоклассицизм, бывший на самом деле сокровищницей». Минимализм Новикова проявлялся и в смиренном принятии ситуации «как есть» — в условиях наступления новой торгашеской идеологии (деньги, как и бытовой комфорт, мало интересовали Новикова — практически все оказывающиеся в его руках средства он тратил на пропаганду собственных идей, поддержку интересных проектов и помощь бедным художникам) Тимур сетовал: «Раньше казалось, что вот-вот придет совершенно новое поколение блестящих молодых людей и все это сметет. Но нет, никто не появляется и, что поделаешь, приходится уживаться и работать со все теми же К и Б».
В многочисленных текстах, ругающих или хвалящих Новикова, никто не говорит, что художник-то слеп! (Фактически единственная статья, упоминающая о слепоте Новикова, в «Художественном журнале» предполагает, что по логике новиковского мифа должно произойти чудо: Тимур прозреет, будет принят президентом России, Патриархом, а затем Папой Римским, что приведет к воссоединению христианских церквей.) Кроме Новикова, история искусства не знает по-настоящему незрячих художников. Это либо легендарные ослепленные архитекторы, типа строителей Василия Блаженного — Бармы и Постника, либо почти ослепшие в конце жизни Гойя, Тернер и Моне, что очевидно сказывается на их манере письма.
Слепой художник, глухой музыкант, сумасшедший философ и т. п. — признак особой судьбы, отмеченности свыше. В традиции это значит абсолютный, великий художник, композитор, пророк. Рисование не только извлекает образ из пустоты, выявляя невидимое прежде, но и само по себе является процессом ослепления. Художник — человек с необычайно развитым внутренним видением, прозревая для духовного зрения, слепнет для этого мира, что особенно понятно в русско-византийской традиции. В этом художник подобен верующему («слепая вера»). И впрямь, Новиков, ослепнув, искренне уверовал.
Физическое зрение всегда направлено вовне, и глаз не видит себя. Религия и философия в разных формах ставили вопрос как о необходимости соединения сознания и тела, состоящего из не могущих осознавать себя органов (например, Гуссерль), так и снимали эту проблему, если видели (простите) несубстанциональность тела и человека как такового. Нейрофизиология Бехтерева, творящая о видении мозгом, сходится с буддизмом и антропологией Леви-Строса, утверждающей, что мы видим только то, что научены видеть.
Одновременно творец, лишенный своего профессионального органа, может пониматься как «сапожник безсапог» или как «бодливая коза, которой Господь рогов не дал», как говорил про себя Новиков, — то есть как жертва наказания, испытания или ревности богов. Тимур был слеп последние пять лет своей жизни, и как раз в эти годы его сознание приобрело особую интенсивность, а сам он говорил о новой, более интересной и глубокой жизни.
Мне не раз приходилось сталкиваться с людьми, которые всерьез спрашивали, а не розыгрыш ли эта слепота? Действительно, когда на вернисажах величественный бородатый старик с тростью, в сюртуке и цилиндре (живой классик!), открыв лорнет, вплотную разглядывал картины или собеседника — «что-то я вас не разгляжу» — (пристальное разглядывание всего окружающего через различного рода оптические приборы было стилем «les incroyables» («невероятных») — эпатажно одевавшихся молодых аристократов времен Великой Французской Революции, своего рода стиляг той эпохи) и метко комментировал происходящее, это вводило в смущение, особенно давних знакомых, привыкших к его непредсказуемости. «Старику» было сорок лет, а его молодость пришлась на время торжества стиля «панк». Жесткая, парадоксальная, хулиганская фактура веселья, свойственная панкам, сохраняется в поведенческой пластике и стратегиях восмидесятников и в 1990-е годы, возродившие термин «денди». Когда в 1997 году Тимур лежал в Боткинской больнице и светские люди распространяли слухи о его скорой смерти, он назначал встречи и интервью на ближайшем кладбище, в Некрополе корифеев русской культуры, среди могил Чайковского, Достоевского и Мусоргского. Я рассказываю эти анекдоты, как примеры: «человек становится достойным то-то, что с ним происходит», достойным своих несчастии. Говорящий об этом Жиль Делез называет этот эффект Событием, то есть не тем, что происходит (происшествием), а тем, что должно быть понято возвышенно. По-русски французско-атеистическое идеальное «Событие» может звучать как «Чудо», а от Новикова привыкли ждать необычного и невероятного. Достоинство, проявленное ослепшим Тимуром — свидетельство того, что в событиях жизни он видел знаменья сверхъестественности, неслучайности и значительности всего происходящего. Новиков верил в высокую тайну жизни и в тайну незримой жизнеутверждающей традиции, которая говорит об одном и том же во все времена, в любом обличий. В зависимости от ситуации он с легкостью создавал новый стиль, который считал необходимым в данных обстоятельствах. В чередовании этих стилей у него можно найти некий ритм почвенных, какашечных, «теплых» периодов, перемежающихся с прохладной аккуратностью. При этом непреклонная веселость оставалась главной чертой, которая всегда привлекала в Новикове. Сдав на отлично модернизм и преуспев в главном рейтинге — новизне и первенстве, Новиков осознает его исчерпанность и далее в модернистском контексте видит только одну возможную позицию — гомерический хохот Панурга. Можно сказать, что радость жизни, которой Новиков был наделен от природы, и была сутью его энергии, в молодости заставлявшей его, разговаривая с нами, подпрыгивать на месте, будто он хочет писать. Затем он вскакивал на велосипед и мчался по городу, успевая все узнать, всех навестить и при желании переболтать. Унывающих он убеждал, что мы живем в редкое для нашей страны счастливое время, когда нас неотстреливают и можно делать все что угодно. На жалобы о безденежье Тимур отвечал, что на искусство можно только тратить: деньги, здоровье и жизнь.
Л. Н. Гумилев говорил о том, что в эпохи этнического упадка люди страсти — пассионарии, — живущие ради внешне не прагматичных идей, становятся не воинами или политиками, а художниками. Возможно, и хорошо, что Новиков не пошел по чиновной, дипломатической или военной линии, а то бы мы мыли усталые от походов ноги в Индийском океане, а там много акул.
НАЛЬ ПОДОЛЬСКИЙ
Олег Григорьев
Продавец маков продавал раков
Он постоянно носил с собой толстую тетрадь. Девяносто шесть листов «в клеточку» и коричневый коленкоровый переплет, слегка прилипающий к пальцам. В школьно-письменной торговле такие тетради назывались «общими». В этой тетради Олег Григорьев записывал свои стихи — и дома, и во время блужданий по городу, в гостях и на литературных тусовках. Когда очередная тетрадь приближалась к заполнению, в ней накапливалось много интересного.
Если в компании его просили что-нибудь почитать, он не ломался, как некоторые другие поэты, и соглашался либо сразу, либо со второй просьбы. И тотчас в его руках появлялась коричневая тетрадь, она возникала сама собой, словно бы ниоткуда — он извлекал ее из внутреннего кармана пиджака почему-то всегда незаметно для окружающих.
Однажды художник Владимир Гоосс праздновал день рождения в своей мастерской на улице Чайковского, по соседству с «Большим домом», и именинник попросил Олега почитать стихи. Тот едва успел раскрыть свою тетрадь и выбрать подходящий текст, как пришел опоздавший Лев Звягин, фотограф, с девушкой и фотокамерой. У девушки была хорошая улыбка, а Лева был по-хорошему, добродушно пьян. Кроме того, иногда он икал, стесняясь и прикрывая рот ладошкой. Дальнейший сценарий напоминал пьесы Хармса.
ОЛЕГ (читает).
ЛЕВА (икает). Извини.
ОЛЕГ. Что ты, пустяки. (Читает.)
ЛЕВА (икает). Ох, извини, пожалуйста.
ОЛЕГ (сухо). Да, конечно. (Читает.)
ЛЕВА (икает).
ОЛЕГ. Тебе нужно выпить. Иногда помогает.
(Все наливают, выпивают и ждут результата.)
ЛЕВА (сидит молча).
ОЛЕГ (с радостной улыбкой). Ну, вот видишь — помогло. (Читает)
ЛЕВА (икает). Не помогло.
ОЛЕГ. Ты меня достал.
ЛЕВА. Я же не нарочно.
ОЛЕГ. Я понимаю. Но мне придется начать сначала. (Читает сначала)
ЛЕВА (икает).
ОЛЕГ. Слушай, да сделай же с собой что-нибудь! Попей холодной воды, умойся, что ли.
ЛЕВА (отходит к умывальнику, плещется, возвращается к столу, сидит молча).
ОЛЕГ (читает, непроизвольно ускоряя темп и искоса поглядывая на ЛЕВУ).
ЛЕВА (икает).
ОЛЕГ. Да постучите ему по спине! И посильнее.
ЛЕВЕ (стучат по спине.)
ОЛЕГ (после паузы начинает читать).
ЛЕВА (икает).
ОЛЕГ. Ну знаешь! Да в конце концов, зажми себе рот и нос, перестань дышать и умри, как мужчина! Я не буду читать. (Тетрадь со стихами исчезает из его рук.)
Кончилось тем, что девушка Левы, несмотря ни на что не потерявшая своей хорошей улыбки, увела его домой. Гости уговорили Олега все-таки почитать, и он читал много и с удовольствием. Но раздражение у него тем не менее осталось. Оно-то и послужило позднее источником скандала.
Олега с Гооссом роднило то, что оба владели искусством скандала и подходили к нему как к художественному произведению. Оба умели спровоцировать скандал буквально «из ничего» и точно чувствовали динамику его развития. Но технологии у них были разные. Гоосс, выбрав жертву, умел найти у нее слабое место и наиболее обидные слова, от которых человек сразу же был готов лезть на стену. А Олег произносил почти случайные фразы, но с интонацией, делавшей их для объекта крайне оскорбительными. Гоосс затевал скандал из любопытства и в процессе его развития оставался спокойным, а Олег — от раздражения, и далее подпитывал действие своими эмоциями.
В тот вечер Олег начал вдруг пристально разглядывать одного из гостей, а затем произнес недовольно и с расстановкой:
— Ты похож на ассирийца.
Тот был действительно смуглым, черноволосым, волосатым и бородатым. Он взбесился мгновенно и после нескольких вводных слов надел на голову Олега миску с салатом. По лицу и плечам Олега поползли ручейки сметаны, и всем нам было невдомек, с чего это бородач вдруг так взбеленился. По-моему, и сам Олег не ожидал такого эффекта.
Все уже были пьяны, и возникла бестолковая потасовка. «Ассирийца» побили, да и другим тоже досталось. В том числе и Олегу, которому кто-то из заступников локтем нечаянно разбил нос.
Гоосс потом комментировал инцидент так:
— Это же западло, обижаться и обижать Григорьева. Все равно, что пнуть сапогом юродивого.
Вообще говоря, я время от времени сталкивался с отношением к Олегу как к юродивому, и отчасти он это сам провоцировал.
Когда страсти утихли и кончилась выпивка, наиболее утомленные гости стали пристраиваться подремать — кто сидя, кто полулежа, потому что в маленькой мастерской спальных мест почти не было. А у окна в коридоре стояла большая корзина, короб, плетеный из ивовых прутьев, величиной с письменный стол. Такие корзины в те времена использовались для сбора листьев в садах, и Гоосс зачем-то притащил ее в мастерскую. В ней он держал всякое тряпье — занавески, одеяла, куски холста. Вот в этой-то корзине и угнездился поспать Олег. Я обнаружил его в ней на рассвете, проходя мимо и услышав сопение. Он спал по-детски упоенно и безмятежно; в нем вообще было много детского. И когда я вспоминаю Олега, чаще всего он мне видится спящим в большой плетеной корзине.
Разбуженный светом позднего ноябрьского утра, Олег вылез из своего гнезда и удалился, когда все еще спали. Испытывая жгучую необходимость опохмелиться, он, по причине территориальной близости, направился прямо в тогда еще не сгоревший Союз писателей. Его пиджачок хранил следы ночного праздника — потеки сметаны, винные пятна и кровь, свою и чужую. Вид он имел всклокоченный.
Первым, кого он встретил, был Михаил Дудин.
— Михаил Александрович, одолжите треху, — на вежливые предисловия у Олега сил не было.
Дудин пожалел — то ли треху, то ли бессмертную Олегову душу. Треху не дал и взамен прочитал нотацию:
— Как не стыдно, Олег, вы и так в таком виде… и т. д. и т. п.
Это было ошибкой, и Дудин тогда не мог и предположить, во что она ему обойдется.
Олег униженно выслушал отповедь, затаил на Дудина хамство и пошел дальше. Следующим судьба послала ему Михаила Жванецкого. Тот, умудренный знанием жизни, едва увидев Олега, протянул ему пять рублей. По тогдашним ценам это означало почти две бутылки портвейна.
Прошло года два или три. Случился очередной юбилей Победы, в Союзе писателей по этому поводу состоялось какое-то официальное действо, и после него, вечером, в ресторане было полно народу. Войдя в зал, соседний с буфетом, я стал свидетелем неприличного скандального зрелища. Зрители кучковались у стен, а в центре возвышалась фигура Михаила Дудина, казавшаяся монументальной. Он был в хорошо отглаженном темном костюме, при галстуке, и на груди сияли ордена и медали. А вокруг него мелким бесом вился маленький и пьяный Олег Григорьев.
— Михаил Александрович, дай! Дай хоть один! — Отчаянно взывал Олег и тянулся рукой к орденам Дудина. — Таким, как я, не дают. А тебе еще дадут, ты только попроси, дадут сколько угодно. Дай, Михаил Александрович! Ну хоть один дай!
Лицо Дудина все больше багровело, наводя на мысль о близком инфаркте.
— Михаил Александрович, ну, пожалуйста, дай! — Не унимался Олег. — Ты же знаешь, мне никогда не дадут, а тебе дадут прямо завтра. Дай хоть один!
Кругом стояли писатели и поэты, в том числе достаточно известные, одни снисходительно улыбались, другие делали вид, что не замечают происходящего, и никто не попытался прекратить это безобразие.
Олег прекрасно знал, что таким, как он, орденов не дают. Более того, как и многие из его знакомых, он подозревал, что и физически-то существует лишь по чьему-то недосмотру. Поэтому он тянулся к законной, государственной культуре в надежде получить некую индульгенцию. Но у официоза на Григорьева была устойчивая реакция отторжения. От него веяло абсурдом, черным юмором и обэриутами. Издание в Детгизе первых книжек Олега, совсем маленьких, стоило увольнения редактору Марине Титовой и инфаркта Агнии Бар-то, которая во время какого-то заседания вступила в спор с Сергеем Михалковым, отстаивая право Григорьева публиковаться. А тем временем стихи Григорьева переписывают и повторяют наизусть взрослые и дети. Четверостишие, написанное еще в 1961 году, за десять лет до первой публикации Олега:
- Я спросил электрика Петрова:
- — Для чего ты намотал на шею провод?
- Ничего Петров не отвечает,
- Только тихо ботами качает, —
знает каждый второклассник.
Устное распространение текстов идет по законам фольклора — в процессе передачи отдельные слова и строчки изменяются. Любые стихи с «черным юмором» входят в моду, и часто их, даже самые глупые и никудышные, незаслуженно приписывают Григорьеву. Ничего не поделаешь — все это проявления народной любви. Как тут не вспомнить реплику Николая Первого из известной пьесы Булгакова:
— Я понимаю, что это не Пушкин. Но объясните мне, почему нынче любую пакость обязательно приписывают Пушкину?
Дети принимали его стихи «на ура», потому что они разительно отличались от идеологически выдержанной советской печатной продукции. Им нравилась внутренняя логика Олега, логика детской страшилки, они чуяли в нем «своего». Вот короткая «сказочка» из самой первой книжки Олега.
Маша и Петя играли в прятки. Они спрятались в большую трубу. Потом пришли рабочие. Они подняли трубу и сбросили ее в реку. Но Маша и Петя не утонули, потому что они сидели в другой трубе.
Для партийного чиновника «брать слово» было естественно, как дышать воздухом. Для любого же нормального ребенка, как и для Олега, словосочетание «взять слово» звучало откровенной глупостью.
- Председатель Вова
- Хотел взять слово.
- Пока вставал, потерял слово.
- Встал со стула
- И сел снова.
- Потом встал опять,
- Что-то хотел сказать.
- Но решил промолчать
- И не сказал ни слова.
- Потом встал.
- Потом сел.
- Сел — встал,
- Сел — встал,
- Сел — встал
- И сел снова.
- Устал
- И упал,
- Так и не взяв слова.
Обратите внимание — во всем этом стихотворении нет ни одного прилагательного. Григорьев их вообще, как и сравнения, употребляет крайне редко. Ничего лишнего, только самое необходимое. Прежде всего действие. У Григорьева очевидный талант драматурга, у него драматургия — в каждой строчке. Умение с первых слов, «с затакта», начать действие, обозначить конфликт и расставить акценты — редкий дар, ценившийся превыше всего среди сценаристов, например, в Голливуде.
Фольклорная подоснова Григорьева — не только фольклор городской и детский, но и лагерный. Жизнь вынудила Олега с ним познакомиться. Именно от лагерного фольклора идет запредельный лаконизм Олега. Еще Синявский в «Голосе из хора» проводил аналогии между лагерным фольклором и готической литературой и искусством, отмечая в том и другом «перепончатость», иногда создающую ощущение конспективности. В витраже главное — скелет рисунка, он определяет сущность, а вставлять цветные стеклышки каждый мысленно может сам.
Итак, стихи Григорьева предельно лаконичны, аскетичны, суровы — настолько, что можно усомниться: да вообще, поэзия ли это? Нет никаких красот — ни словесных, ни воображаемых зрительно, ни эпитетов, ни аффектации, ни романтики, ни лирики, по крайней мере, в привычном понимании. О том, что такое поэзия, можно говорить и спорить бесконечно, но главным все же было и остается наличие или отсутствие поэтического образа. Таких образов, как «утро туманное, утро седое» или «оленей косящий бег», вы у Григорьева не найдете, он строит образ совершенно иначе, через действие. Но при этом его образы высекают ничуть не меньше впечатлений.
- О, как нехотя летели журавли куда-то вдаль.
- Не хотели, а летели.
Или:
- Нисколько не удивился,
- Звонарь когда удавился.
- Закрутил веревку в удавку
- И ушел в переплавку.
- И вот я главный звонарь!
- Колокол — звуковой фонарь.
Он расходует слова скупо, как ценный материал, и не тратит ни слова отдельно на подачу образа. Образ возникает в процессе действия.
- — Ну как тебе на ветке? —
- Спросила птица в клетке.
- — На ветке как и в клетке,
- Только прутья редки
Звездное вещество «белых карликов» состоит из одних только атомных ядер и потому обладает чудовищной плотностью. Григорьев уплотняет текст, очищая слова от шелухи подробностей, от всякого декора, оставляя только ядра, заставляя их выполнять максимально возможное количество функций.
Вот первая строчка всем известного стихотворения: «Продавец маков продавал раков». Это, прежде всего, поэтический образ (по-григорьевски), но одновременно—и завязка сюжета, и начало конфликта, и введение в формальный звуковой рисунок стиха.
Из-за лаконичности текстов и полифункциональности слов стихи Григорьева часто кажутся конспективными, и это не вызывает внутреннего протеста не только у взрослых, но и у детей. Ибо именно в силу этих качеств в детском восприятии стихи Олега подобны волшебной коробочке, из которой время от времени можно доставать все новые вещи.
В любом стихе Григорьева обязательно присутствует улыбка. Она бывает разная — веселая, грустная, мрачная, насмешливая, даже злая. И еще одна специфическая улыбка, не обозначающая никакого юмора — «зэковская» улыбка, по которой бывшие заключенные опознают друг друга.
- Людей стало много-много,
- Надо было спасаться.
- Собрал сухарей я в дорогу
- И посох взял, опираться.
- — Когда вернешься? — спросила мама.
- — Когда людей станет мало.
Арестовывали Олега дважды. В первый раз — в начале семидесятых. Не нужно думать, что КГБ гонялось за ним специально. Процесс над Бродским открыл «зеленый свет» преследованию «поэтов-тунеядцев», и Григорьев идеально вписывался в этот стереотип. Уже одним своим видом, манерами и лексиконом он раздражал любого милиционера, и случайное задержание автоматически привело к ссылке «на стройки народного хозяйства» в Вологодскую область. Сценарий был тот же, что у Бродского, только срок поменьше — два года. Второй раз он был арестован «за дебош» в 1989 году, и дело кончилось, к счастью, условным сроком. Судьба уберегла Олега от фактической, лагерной отсидки, но предоставила ему возможность ощутить на себе все репрессивные процедуры и ознакомиться с лагерным фольклором «из первых рук».
Олег воспринимал жизнь как явление суровое и не ждал от нее ни доброты, ни снисхождения. И тем более не ждал ничего хорошего от любых государственных инстанций. В какую бы скверную переделку он ни попал, ему не приходило в голову обратиться за помощью в больницу или травмпункт, не говоря уже о милиции. Но он с легкостью мог попросить помощи у случайных людей, и часто ему помогали. Это было одно из его странных свойств — способность вызывать у незнакомых людей как беспричинное раздражение, так и немотивированную симпатию.
Однажды, примерно в девяностом году, два молодых художника в состоянии похмелья решили срочно поправить здоровье на свежем воздухе и раскупорили бутылку водки прямо на улице Марата К ним подошел человек, залитый кровью, представился как поэт Олег Григорьев и сказал, что ему нужно опохмелиться, иначе он тотчас помрет. Его не сильно беспокоило то, что его щека была распорота ножом от скулы до подбородка, для него главное было — опохмелиться. Но рана самым подлым образом давала о себе знать — водка сквозь дыру в щеке бессмысленно выливалась на шею и на пальто. Зрелище было впечатляющее и жутковатое, и позднее один из участников эпизода, художник Гавриил Лубнин, посвятил этой истории стихотворение, нечто вроде маленькой баллады. Вот короткий отрывок из нее:
- Но тело влево наклонив,
- Он все же сделал свой залив.
- Дружок испуган, я тоскую.
- Ведем поэта в мастерскую.
- И он уснул в холстах и вате
- В пальто на маленькой кровати,
- В тяжелом будучи запое.
- Не дай вам Бог войти в такое.
Жизнь давала Олегу достаточно поводов для жестоких сюжетов и образов. Они возникали вовсе не из природной склонности к «чернухе» — это были просто ответные удары агрессивной и беспощадной жизни.
Однажды ночью, после чьего-то дня рождения, кажется, Аркадия Бартова, я привез Олега к себе в гости, ибо жил он далеко, в Купчино. Наутро, как следует выспавшись и выпив пива, а затем и портвейна, Олег пришел в благостное состояние и стал похож на обласканного ребенка.
— Ну, Наль, ты меня ублажил, — заявил он с радостной улыбкой, — я тоже хочу тебе сделать что-нибудь хорошее. Давай, я тебе почитаю стихи.
В руках его появилась хорошо знакомая тетрадь в коричневом переплете, и он довольно долго ее перелистывал:— Нет, это для тебя мрачно. Это тоже мрачно. Ты человек светлый, это для тебя не годится. Это тоже… Наконец подходящий текст нашелся:
- Отбросив с десяток трупов,
- Некрофаг задержался на мне.
- Взрезал грудь и, сердце нащупав,
- Приготовил его на огне.
Затем он захлопнул тетрадь и пояснил:
— Дальше опять мрачное, тебе не годится.
Со второй частью стихотворения я ознакомился уже после смерти Олега:
- Обсыпал перцем и солью
- И с жадностью зубы вонзил.
- О, с какой я живою болью
- Содрогнулся, хоть мертвый уж был.
У судьбы есть свое, мрачноватое чувство юмора. Похоронен Олег на Волковом кладбище, на невысоком холме, над могилами детишек, в конце восьмидесятых засыпанных песком в пещерах во время своих детских игр. Для детского поэта — самое подходящее место.
Тот самый Кривулин
У него была похвальная привычка ничего не делать, если на то не было особого настроения.
Г. Бюргер.Приключения барона Мюнхгаузена
Телефонный разговор нередко начинался так:
— Тебе не кажется, Наль, что последнее время мы скучно живем?
Сие означало, что далее последует какое-либо оригинальное предложение. К примеру, написать письмо директору ЮНЕСКО с приглашением наряду с охраной памятников культуры заняться и защитой живых носителей культуры, то есть составить для андеграунда нечто вроде Красной книги.
Или купить где-нибудь необитаемый остров, чтобы основать на нем культурный центр и независимое издательство. Каталог островов, выставленных на продажу, уже лежит у Виктора на столе, а спонсоры найдутся. Да и вся затея очень быстро начнет окупаться, это точно, он уже все просчитал.
Среди выдумок Вити пустых идей не было, в том смысле, что каждая соответствовала одной из ниточек многожильного советского уголовного кодекса и припахивала лагерными сроками. Время было глухое, опасное, и на него пришлась большая часть жизни Виктора Кривулина. Будучи человеком хорошо образованным, мыслящим и талантливым, он воспринимал советскую власть как явление бессмысленное и биологически вредное, ощущая свою несовместимость с ней, можно сказать, на клеточном уровне. Подобные люди тогда оказывались перед неприятной дилеммой: либо вступить с режимом и открытый конфликт и быть пожранным снаружи карательными органами, либо затаиться, хитрить, приспосабливаться и быть съеденным изнутри бессилием, злобой и комплексом собственной продажности. Виктор избежал и того, и другого, и секрет его заключался в незлобивости. Подобно Владимиру Соловьеву он был убежден, что даже к дьяволу надо относиться по-джентельменски. Ему нравилась присказка одного из героев Лоуренса Даррела о том, что мудрый человек не пытается убить врага, а садится на пороге своей хижины и ждет — и однажды он видит похоронную процессию. Впрочем, сам Виктор, в силу природной непоседливости, на пороге хижины не мог усидеть и суток. Однажды он позвонил около десяти вечера и пригласил посетить его немедленно. В ответ на мои робкие возражения, что время уже для визитов неподходящее, последовало непререкаемое разъяснение:
— Дело не телефонное. Приезжай.
Мне не понравились нотки деловитой торжественности в его голосе, но что поделаешь — пришлось ехать. Поджидая меня, они вдвоем с Суреном Тахтаджяном пили портвейн. Они только что основали независимый профсоюз литераторов и приглашают меня тотчас в него вступить.
Независимый профсоюз по тем временам тянул на семидесятую статью по максимуму, и я стал осторожно отнекиваться. Основали, мол, профсоюз — вот и славно, а я здесь при чем? Оказалось, Татьяна Горичева сообщила не то из Берлина, не то из Парижа, что новый профсоюз будет зарегистрирован Всемирной федерацией профсоюзов лишь при наличии протокола общего собрания — и тогда уж никого из его членов наши власти тронуть не рискнут (?). Вот и получается: Витя — председатель, Сурен — секретарь, а мне уготована роль человека из зала, исправно голосующего «за».
Не помню, как удалось отделаться от этой истории, но в тот вечер, видя, что Сурен к ней относится с полной серьезностью, я дождался его ухода и бесцеремонно спросил у Виктора, зачем ему этот балаган понадобился? Последовал хорошо знакомый ответ:
— Мне показалось, последнее время мы скучно живем.
Я столь подробно остановился на этом эпизоде, потому что в нем хорошо видна особенная способность Виктора — одним жестом раздать призы всем участникам процесса. Здесь и издевка над советской системой собраний и голосований, и насмешка над идиотическим бюрократизмом западного сочувствия диссидентам, и подтрунивание над столь распространенным тогда среди нас ожиданием помощи из-за границы.
К официозной советской культуре Кривулин относился весьма иронически и критически, но отнюдь не оголтело-отрицательно. Впрочем, и на творческие успехи андеграунда у него был достаточно скептический взгляд
- на помойке общенья стихи да холсты
- нарисованы плохо, написаны вяло
- но зато — партизанская щель красоты
- в оккупированных нищетою кварталах
- в три погибели скрючась, ползком, из подвала
- выползая, крадется — но кто это здесь
- с героической лампочкой в четверть накала?
- свет — за пазухой, жаркий цветок алкоголя
- шарф — как вымпел — великое дело, благое!
- и горит в удлиненных бутылках горючая смесь
После известной выставки в ДК Газа петербургский андеграунд пребывал в состоянии эйфории. Слушая восторженные речи о скором расцвете нового петербургского авангарда, Виктор скептически улыбался и не упускал случая слегка притушить избыточный пафос. Константин Кузьминский, хотевший взять на себя функции координатора всевозможных андеграундных меропериятий, носился тогда с идеей некоего ночного фестиваля искусств на набережных Невы во время белых ночей — чтобы поэты читали стихи, художники показывали живопись, а музыканты играли бы рок-музыку.
— Вы подумайте, — говорил он возбужденно, — ведь Петербург — единственный в мире город, где можно устроить ночную выставку живописи при естественном освещении! — Постой, я чего-то не понимаю, — задумчиво заметил Кривулин, — ну, художники — еще ладно, бывает такая живопись, что лучше смотреть ночью. А музыканты? Куда они на Неве будут втыкать свои инструменты?
— Это не важно! — не унимался Костя. — Им втыкать не обязательно, они могут играть как угодно!
— Ты хочешь сказать, — усмехнулся Виктор, — что их надо обкурить до такой степени, чтобы они не понимали, на чем играют?
Виктор был из тех людей, про которых говорят: «Он фантазер, а не врун». Те, кто хорошо знали Кривулина, умели распознавать моменты, когда он собирался преподнести очередную выдумку, — по специфическому открыто-проникновенному взгляду, иногда для убедительности сопровождаемому многозначительным вращением глаз.
Около восьмидесятого года по Москве прокатилась массовая серия обысков, как большинство акций КГБ того времени, бессмысленных и безрезультатных. Комментарий Виктора выглядел так:
— Вся Москва удивляется, никто ничего не может понять: столько обысков и ни одного ареста. Говорят, мол, у КГБ крыша поехала. А я выяснил в чем дело. Им дали двадцать тысяч долларов на приобретение антисоветской литературы, так жена генерала Трофимова (имя генерала, естественно, было придумано на ходу) поехала в Монте-Карло и все проиграла в рулетку. А у них тут ревизия, надо отчитываться. Вот они и устроили обыски для изъятия литературы. Как набрали на двадцать тысяч, обыски кончились.
Постоянным гостем в доме Виктора был шотландец еврейского происхождения стажер-славист Майкл Молнер. Когда он собрался посетить свою туманную родину, Витя сказал:— Хочу тебя попросить: привези мне диски «Битлз», и побольше. У меня было сорок штук, так представь себе, появился какой-то вирус — разъедает пластмассу, только серый порошок остается (речь шла о виниловых дисках).
Уловив сомнение в мимике Майкла, Виктор добавил:
— Точно, точно, одни пустые конверты остались, хочешь, могу показать.
— А эти почему целы? — подозрительно спросил Майкл, тыкая пальцем в пластинки на полке.
— Потому что это наши, советские. Их вирус не берет, — непринужденно пояснил Витя.
Фантазия в данном случае была совершенно бескорыстной, ибо Виктор отлично знал, что никаких дисков Майкл покупать не станет.
В 1981 году возник оппозиционный по отношению к Союзу писателей Клуб-81, по тем временам — значимое событие. Одни ветви власти его поощряли, другие были нe прочь уничтожить, и к концу следующего года продвижение клубного сборника (будущего сборника «Круг») затормозилось, в делах клуба наступил застой. Примерно тогда же, в 1982 году, умер главный идеолог и «серый кардинал» Кремля Михаил Суслов.
Кривулин мгновенно отреагировал на это событие:
— Мне в Москве рассказали, в чем дело. Клуб на сто человек приказал организовать лично Суслов и сразу умер. Власти приказ выполнили, а как быть теперь, не знают. Потому что Суслов перед смертью не сказал, что делать дальше. Боюсь, мы надолго зависли.
По-видимому, мне не удалось скрыть недоверия к этой версии.
— Ну понимаешь, — стал объяснять Витя, — это как змея: голову отрубят, а хвост еще шевелится, — и для наглядности показал рукой, как именно шевелится хвост безголовой змеи. Зачем ему были нужны все эти выдумки — сказать трудно. Во всяком случае, специального желания повеселить публику у Виктора никогда не было. Вероятнее всего, здесь работал инстинкт сочинительства, инстинкт авторствования, который, собственно, и заставляет человека стать литератором. Но литератор, любящий порядок, знает, что огню место в печке и на свечке, окуркам — в пепельнице, а сочинительству — на бумаге, в текстах. Витя же порядка не любил, можно даже сказать, что, скорее, он любил беспорядок. Порой мне казалось, что он даже в мелочах просто боится порядка как потенциального ограничителя внутренней свободы. Пепельницы у него частенько дымились и иногда возгорались, окурки попадались где угодно, а сочинительство пронизывало всю жизнь и всякое общение.
Впрочем, у Вити случались и такие варианты сочинительства, которые иначе как враньем не назовешь, причем это вранье, как правило, носило провокативный характер.
Все знали, что книжку, которой не хочешь лишиться, Вите лучше не давать, потому что она могла исчезнуть мгновенно и бесследно. И вовсе не потому, что он злостно присваивал чужие книги, — этого не было. Чаще всего они терялись в бессистемных нагромождениях книг, имевшихся всюду — на кухне, в спальне, на полу и стульях около книжных шкафов и, понятно, вокруг рабочего стола. Но это было еще полбеды — такая книжка могла со временем выплыть на поверхность. Гораздо хуже было то, что Витя по доброте душевной охотно давал читать книги как свои, так и чужие, практически всем, кто ни попросит. А поскольку через его дом проходило ежедневно от одного до нескольких десятков человек, проследить судьбу конкретной книги было практически невозмож-но. Однажды он взял у меня довольно редкую антологию персидской поэзии с превосходными репродукциями миниатюр. Поняв, что совершил ошибку и, как говорится, «сам виноват», я выбросил ее из памяти, но Витя еще и течение года допекал меня сообщениями типа: «Сейчас твоя персидская поэзия в Киеве, ее читает такой-то, передает тебе спасибо» или «твоя книжка только что переехала в Польшу, ее читает весь Краковский университет». В конце концов я возненавидел задним числом и эту антологию, и персидскую поэзию вообще.
Не у всех хватало чувства юмора без обид воспринимать подобные ситуации. К концу восьмидесятых годов Виктор протоптал дорожку во «Франкфуртер альгемайне», у него там стали появляться публикации о российской культуре и бескультурии, и все друзья узнали, что тираж «Франкфуртера» — четырнадцать миллионов, что каждый немец, где бы он ни жил на земном шаре, считает своим первейшим долгом выписывать эту газету, а самому Кривулину они платят даже не построчно, а то ли по марке, то ли по доллару за каждое слово (и этом вопросе Витя иногда путался). Наслушавшись увлекательных рассказов, Михаил Берг тоже захотел породниться с газетным монстром. Он подготовил объемистый материал о современной русской литературе, и Виктор передал его в русское представительство газеты и Москве. Берг время от времени интересовался, как продвигается его детище, и Витя снабжал его информацией, что материал уже прочитали в русском представительстве и переправили во Франкфурт, или что статья переводится на немецкий, или что сейчас ее читает заведующий отделом культуры, но он человек занятой и читает медленно. Так прошло около года. Но однажды, вставая с дивана, Виктор задел сложенную на стуле горуиз книг и рукописей, они рассыпались по полу, и бросившийся собирать книги Берг с изумлением обнаружил в основании кучи свою рукопись. Он вообще не мог представить, как можно так поступить, пришел в ярость и даже грозился вызвать Кривулина на дуэль.
Мне Витя откомментировал происшедшее так:
— У них редактор сам пишет о современной русской литературе, это его главный кусок хлеба. Представляешь? Берг покусился на самое святое, они и читать не стали.
Впрочем, разные люди хранят в памяти разные версии этого эпизода, что вообще характерно для любой истории, связанной с Кривулиным. Дело в том, что, повествуя о событиях, свидетелем или участником коих он был, Виктор каждый раз излагал их в новом варианте, хоть немного отличающемся от предыдущего. Он прекрасно понимал, что миф важнее фактологии, что в конечном итоге в людской памяти остается именно миф, и охотно принимал участие в сотворении мифа «о времени и о себе». А кроме того, как художник (в широком смысле слова) он испытывал естественное отвращение к любому дословному повторению.
Когда речь шла о литературе или поэзии, Виктор высказывался предельно взвешенно и ответственно, будь то статья, публичное выступление или частная беседа. Но лишь только разговор касался политики, кривулинские заявления становились эпатажными, порой безответственными и всегда провокативными. Политикой Виктор увлекся сразу после крушения Советского Союза. Он сдружился тогда с Галиной Старовойтовой, выступал на разных митингах и собраниях и много публиковался в периодической прессе. При этом он не признавал никакой политкорректности. В дни августовского путча 1991 года крупный заголовок кривулинской статьи в «Смене» представлял собой его собственную расшифровку «ГКЧП»: «Гады Коммунисты Что Придумали». Впрочем, у него выходили и серьезные, дельные статьи, в основном о Петербурге.
В период перестройки Виктору, опять же с подачи Старовойтовой, вздумалось баллотироваться в Законодательное собрание Петербурга (одновременно с Митей Шагиным, но по разным округам), и иные публичные выступления Кривулина звучали тогда весьма оригинально. Например, комментируя в телевизионном интервью предвыборные технологии, он с экрана на всю страну заявил с совершенно серьезной миной:
— Мне вчера начальник военного училища предложил две тысячи голосов по пятнадцать рублей за штуку и сказал, что если я их не куплю до послезавтра, они поступят на свободный рынок голосов.
Какие-то голоса за деньги ему действительно предлагали, вроде бы, люди Жириновского, но «свободный рынок голосов» — это личная кривулинская находка.
Виктор любил устраивать провокации и хорошо владел этим искусством — одной тихо сказанной фразой он мог побудить людей совершить что-либо такое, чего они делать категорически не собирались. При случае он готов был дразнить даже КГБ.
В восемьдесят третьем году я, как обычно, летом уезжал на археологические раскопки, рейс на Красноярск вылетал в одиннадцать вечера, и днем друзья собрались у меня, чтобы отметить проводы. Попивая из бокала вино, Виктор заметил мечтательным тоном:
— И чего тебя несет куда-то на Енисей? Оставайся-ка лучше здесь, будем жить активной творческой жизнью. Я ручаюсь тебе, здесь будет интересно. Активная творческая жизнь началась в тот же день. Я уже заказал такси для поездки в аэропорт, когда позвонила Витина жена Наташа Ковалева:
— Витю только что увезли, и я не знаю, что в таких случаях полагается делать?
Оказалось, произошло следующее. Лишь только Кривулин от меня вернулся домой, к нему заявились кагэбэшники, вполне официально, с ордером на обыск. Больше двух часов они рылись в книгах, рукописях, просматривали даже отдельные листки бумаги с любыми пометками и изъяли около ста килограммов «антисоветской литературы». КГБ был единственной инстанцией, измерявшей литературу килограммами. А собирательное понятие «антисоветский» отличалось невероятно широким диапазоном: от нью-йоркского издания Бунина или Мандельштама до машинописных перепечаток речей Молотова из предвоенных газет и журналов.
Пока гости рылись в Витином имуществе, заполняли сотни строчек протокола и складывали изымаемое в специальные, привезенные с собой мешки, он сидел за своим рабочим столом и с ангельской кротостью читал стихи Анны Ахматовой. Ребята из КГБ сразу обратили внимание, что издание-то нью-йоркское, но делали вид, что не заметили этого, не желая собачиться с Кривулиным — их заранее предупредили, что от него можно ждать чего угодно. Подумаешь, Ахматова! Дав расписаться понятым и Виктору под протоколом, чекисты облегченно вздохнули — кажется, пронесло — и приготовились тащить мешки к выходу. Но не тут-то было.
Захлопнув книгу, Витя сказал тихо, но с чувством:
— А вот это я не отдам.
Тут уж кагэбэшникам деваться некуда.
— Придется отдать, Виктор Борисович, — строго сказал старший. И тогда Витя уже громко, во весь голос — для протокола, для истории и для радиостанции «Свобода» — воскликнул:
— Делайте со мной что угодно, но Ахматову не отдам! Ребята с Литейного задумались:
— Тогда вам придется поехать с нами, Виктор Борисович.
— Отлично, поехали, — радостно откликнулся Витя.
На Литейном атмосфера сложилась нервная. Кагэбэшники тоже люди, у них дома жены, дети, любовницы, а они в десять вечера сидят в кабинете с этим окаянным поэтом, и он все так же увлеченно читает Ахматову, да еще и курит их кагэбэшные сигареты. В ответ на все увещевания твердит одно: хоть убивайте, Ахматову не отдам.