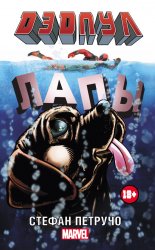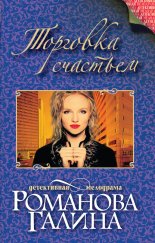Игра с огнем (сборник) Герритсен Тесс
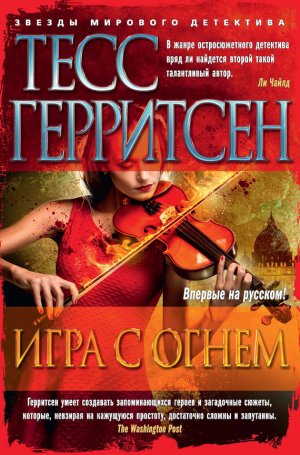
– Я знала, ты вернешься за ней. Вернешься за нами.
– И вот я здесь.
Там, где и должен быть.
На следующее утро Лоренцо проснулся от детского плача.
Спина после проведенной на полу ночи одеревенела, и он, застонав, сел и потер глаза. Свет, проникавший сквозь грязные окна актового зала, окрашивал все лица в холодный серый цвет. Рядом с ним изможденная женщина пыталась успокоить капризничающего ребенка. Старик сидел, раскачиваясь туда-сюда и бормоча слова, понятные только ему. Куда бы ни посмотрел Лоренцо, он видел сутулые плечи и испуганные лица, многие из которых были ему знакомы. Он видел Перлмуттеров, у которых дочь родилась с заячьей губой, видел Сангвинетти, чей четырнадцатилетний сын когда-то ходил к нему учиться игре на скрипке. Он увидел Полаччо, владевших портновской мастерской, и синьора Бержера, который прежде президентствовал в банке, и старую синьору Равенну, которая каждый раз при встрече с мамой на площади вступала с ней в спор. Молодые ли, старые ли, ученые ли, рабочие ли, они все оказались в одинаково бедственном положении.
– Когда нас покормят? – завопила синьора Перлмуттер. – Мои дети голодны!
– Мы все голодны, – раздался мужской голос.
– Вы можете обойтись без еды. А дети – нет.
– Говорите за себя.
– Больше вы ни о ком не в состоянии думать? Только о себе?
Синьор Перлмуттер примирительно прикоснулся к локтю жены:
– Свары никому не помогут. Прошу тебя, прекрати. – Он улыбнулся своим детям. – Не волнуйтесь. Скоро они нас покормят.
– Когда, папа?
– К завтраку, я уверен. Сами увидите.
Но время завтрака пришло и миновало, а потом и время обеда. В тот день их так и не покормили. И в следующий тоже. У них была только вода из крана в туалете.
Ночью крики голодных детей не давали Лоренцо уснуть.
Он свернулся на полу рядом с Пией и Марком, закрыл глаза и попытался не думать о еде, но не получилось. Он вспоминал о яствах, которыми его угощали в доме профессора Бальбони. Прозрачнейшие, чистейшие супы, какие ему доводилось пробовать. Хрустящая рыба из лагуны, такая крохотная, что он ел ее с костями и потрохами. Он вспоминал о печенье и винах, о головокружительном запахе жарящейся курицы.
Сестра стонала во сне – голод вторгался и в ее сны.
– Тише, Пия, я с тобой, – шептал Лоренцо, обнимая ее. – Все будет хорошо.
Она прижалась к брату и снова уснула, но к тому сон не шел.
Лоренцо не спал, когда через открытое окно влетел первый мешок.
Тюк упал чуть не на голову женщины. Она проснулась в темноте с криком:
– Теперь они пытаются нас убить! Размозжить нам головы во сне!
Потом влетел еще один мешок, из него что-то вывалилось и покатилось по полу.
– Кто в нас кидается? Почему они это делают?
Лоренцо забрался на скамью и выглянул из высокого окна: двое в темном скорчились внизу, один собирался забросить в окно через высокий подоконник третий мешок.
– Эй, вы! – крикнул Лоренцо. – Вы что делаете?
Человек поднял голову. Стояла полная луна, и в ее резком свете он увидел лицо пожилой женщины, одетой во все черное. Она прижала палец к губам, призывая его к молчанию, после чего вместе со своим спутником поспешила прочь и исчезла в темноте.
– Яблоки! – раздался довольный женский голос. – Здесь яблоки!
Кто-то зажег свечу, и в ее тусклом свете они увидели щедрые подарки, просыпавшиеся из мешков. Буханки хлеба. Куски сыра, завернутые в газеты. Матерчатый мешок с вареной картошкой.
– Покормите сначала детей! – взмолилась женщина. – Детей!
Но люди уже хватали еду, торопясь завладеть хоть чем-то, прежде чем все исчезнет. Яблоки пропадали в карманах. Две женщины вцепились друг в дружку, борясь за кусок сыра. Мужчина засунул в рот картофелину и проглотил, пока никто не отобрал.
Марко нырнул в эту куча-мала и секунду спустя появился с половиной буханки хлеба – все, что ему удалось добыть для семьи. Они собрались в кучку, и Марко разделил добычу на пять равных кусочков. Хлеб был твердый, как подошва, испеченный минимум день назад, но Лоренцо он показался нежнее самого свежего печенья. Он наслаждался каждым кусочком, закрывал глаза от удовольствия, когда дрожжевая сладость растекалась на языке. Лоренцо вспоминал хлеб, какой ему доводилось есть в жизни, как бездумно он его поглощал, даже не чувствуя вкуса; ведь хлеб – он вроде воздуха, ты его принимаешь как нечто само собой разумеющееся, бесплатное приложение к еде.
Он слизывал последние крошки с ладони, когда увидел, что отец не прикоснулся к хлебу, а только смотрит на него, держа кусок в руке.
– Папа, поешь.
– Я не голоден.
– Не может быть! Ты не ел два дня!
– Не хочу. – Отец протянул хлеб Лоренцо. – На. Это тебе, Пии и Марко.
– Папа, не дури, – сказал Марко. – Тебе нужно поесть.
Бруно отрицательно покачал головой:
– Я виноват. Я во всем виноват. Почему я не слушал умных людей? Не слушал тебя, Марко, и профессора Бальбони. Нужно было уехать из Италии много месяцев назад. Упрямый старый дурак – вот кто я!
Хлеб выпал из его рук, а отец уронил лицо в ладони, подался вперед. Тело его сотрясали рыдания. Лоренцо никогда прежде не видел, чтобы отец плакал. Неужели сломленный человек перед ним и в самом деле его папа, который всегда утверждал, будто знает, что нужно его семье? Который упорно не закрывал свою скрипичную мастерскую, работал шесть дней в неделю, хотя клиентов почти не осталось? Какое мужество требовалось Бруно, чтобы пять лет скрывать сомнения, нести в полной мере бремя ответственности за каждое решение, плохое или хорошее. И вот к чему привели его решения. Сломленный отец совершенно потряс Лоренцо – он не знал ни что ему говорить, ни что делать.
Но мама знала. Нежными руками она обняла мужа и притянула его лицо к своему плечу.
– Нет-нет, Бруно, ты ни в чем не виноват, – пробормотала она. – Я не могла бросить папу. Я тоже не хотела уезжать, значит это и моя вина. Мы вместе сделали выбор.
– И теперь вместе страдаем.
– Это когда-нибудь закончится. И вообще, неужели трудовой лагерь так ужасен? Я не боюсь работы. И знаю, ты тоже не боишься. Ты всю жизнь много работал. Важно то, что мы вместе, ведь правда? – Она разгладила редеющие пряди его волос и поцеловала в затылок. – Правда?
Лоренцо не помнил, когда родители в последний раз на его глазах целовались или обнимались. Дома они казались отдельными планетами, двигались по своим орбитам, сближались, но никогда не соприкасались. Он не мог себе представить, что они горят желанием друг к другу, как горел он желанием к Лауре, но вот сейчас перед ним они обнимались, как любовники. Знал ли он своих родителей?
– Папа, поешь, пожалуйста, – взмолилась Пия и вложила кусок хлеба в руку Бруно.
Бруно уставился на хлеб так, будто никогда не видел его прежде и не знал, что с ним делать. А когда все же начал есть, то без всякого удовольствия, словно исполняя долг и делая это, только чтобы угодить семье.
– Ну вот. – Его жена улыбнулась. – Все будет хорошо.
– Да.
Бруно глубоко вздохнул и сел прямо, глава семьи снова взял бразды правления в свои руки:
– Все будет хорошо.
На рассвете третьего дня двери распахнулись.
Лоренцо разбудил тяжелый топот ботинок по полу. Он поднялся на ноги, глядя на заполнявших помещение людей в форме со знаками различия фашистской Guardia Nazionale Repubblicana.
Заглушая детские вопли, прозвучал громкий голос:
– Внимание! Тишина!
Офицер не перешагнул порога – он обращался к ним от двери, словно воздух в комнате был нечист и он не хотел загрязнять свои легкие.
Пия сунула ладонь в руку Лоренцо. Ее трясло.
– Статья седьмая Веронского манифеста объявляет вас враждебными элементами, – сообщил офицер. – Согласно изданному первого декабря полицейскому приказу номер пять, вы будете отправлены в лагерь для интернированных. Министерство милосердно исключило из списка подлежащих интернированию престарелых и тяжелобольных, но все вы признаны трудоспособными и годными к транспортировке.
– Значит, дедушке ничто не угрожает? – спросила Пия. – Они не заберут его из дома инвалидов?
– Ш-ш-ш. – Лоренцо остерегающе сжал ее ладошку. – Не привлекай их внимания.
– Вас ждет поезд, – сказал офицер. – После погрузки каждый из вас получит разрешение написать по одному письму. Я предлагаю сообщить друзьям или соседям, что с вами все в порядке и они могут не волноваться. Заверяю вас, письма будут доставлены адресатам. А теперь собирайте ваши вещи. Берите только то, что сможете донести до станции.
– Ну видишь? – прошептала Бруно жена. – Они даже разрешают нам отправить письма. И папу оставляют в доме инвалидов. Я ему напишу, чтобы он о нас не беспокоился. А ты должен написать профессору Бальбони. Скажешь ему, он нас напрасно пугал, у нас все в порядке.
Семей было много, много и малолетних детей, а потому процессия двигалась медленно. Евреи плелись мимо знакомых витрин, по тому самому мостику, по которому бессчетное количество раз ходил Лоренцо. Зеваки смотрели на них в боязливом молчании, словно на парад призраков. Среди них он увидел соседскую девочку Изабеллу. Она помахала ему, но отец ухватил и опустил ее руку. Когда Лоренцо проходил мимо, этот человек не смог посмотреть ему в глаза – устремил взгляд в брусчатку мостовой, словно опасался, встретившись с ним глазами, тоже превратиться в обреченного.
Молчаливая колонна пересекла площадь, на которой в любой другой день раздавался бы смех, слышался бы гул разговоров, возгласы женщин, окликающих своих детей. Но сегодня здесь стоял другой звук – шаркающих ног, множества ног, двигающихся в усталой колонне. А те, кто видел это шествие, не осмеливались выразить протест.
Разорвавший тишину одинокий голос прозвучал тем более пугающе:
– Лоренцо! Я здесь!
Сначала он увидел только отблеск солнца на светлых волосах и толпу, расступающуюся перед ней. А Лаура протискивалась с криком:
– Пропустите меня! Мне нужно пройти!
И вдруг она оказалась перед ним, обняла его, прижалась губами к его губам. И он ощутил вкус соли и слез.
– Я тебя люблю, – сказал Лоренцо. – Жди меня.
– Обещаю. А ты должен пообещать, что вернешься.
– Эй, девушка! – пролаял охранник. – Прочь отсюда!
Лауру выхватили из объятий Лоренцо, а его затолкнули в двигающееся стадо, которое понесло его вперед, вперед.
– Обещай мне! – услышал он ее крик.
Лоренцо повернулся – так отчаянно хотелось ему еще раз увидеть возлюбленную, но ее лицо уже затерялось в толпе. Он увидел только бледную руку, поднятую в прощальном жесте.
– Они слепы, они все слепы, – сказал Марко. – Закрывают глаза и не хотят видеть происходящего.
Их родители и сестра задремали рядом с ними, убаюканные ритмичным постукиванием колес на стыках, а братья тихо разговаривали.
– Эти письма домой ничего не значат. Они дали их написать, чтобы мы не волновались. Чтобы нас отвлечь. – Он посмотрел на Лоренцо. – Ты ведь написал Лауре?
– Хочешь сказать, мое письмо не доставят?
– Возможно, она его и получит. Но как ты думаешь – почему?
– Я не понимаю твоего вопроса.
– Ты такой же слепец, как и все остальные, братишка! – фыркнул Марко. – Ты плывешь по жизни на облаке, мечтаешь только о своей музыке, веришь, что все будет хорошо-прекрасно! Ты женишься на Лауре Бальбони, у вас родятся идеальные детишки, и вы заживете счастливо, поигрывая прекрасную музыку.
– По крайней мере, я не стану таким ожесточенным и сердитым, как ты.
– А ты знаешь, почему я ожесточенный? Просто я вижу правду. Твое письмо доставят. Как и письма Пии и мамы. – Он посмотрел на спящих родителей, которые, сплетя руки, прижались друг к другу. – Ты видел ту чушь, которую написала мама? «В нашем поезде удобные сиденья третьего класса. Нам обещают, что условия проживания в лагере также будут приемлемыми». Мы словно едем на какой-то курорт на Комо![15] Наши друзья и соседи посчитают: все в порядке, они путешествуют в поезде, точно туристы, а потому не будут и беспокоиться. Как отказывается беспокоиться папа. Он всю жизнь работал руками, и если чего не видит, если не может потрогать, то и не верит. Ему не хватает воображения, чтобы представить худший вариант. И вот почему никто никогда не оказывает сопротивления – мы все хотим верить в лучшее. Потому что представлять последствия страшновато.
Марко уставился Лоренцо в глаза:
– Ты обратил внимание, в каком направлении мы едем?
– Откуда мне знать? Шторки на всех окнах опущены.
– Они не хотят, чтобы мы знали, куда нас везут. Но даже и сквозь шторки понятно, с какой стороны светит солнце.
– Сказали, нас повезут в лагерь для интернированных в Фоссоли. Они всех туда отправляют.
– Так они говорят. Но ты посмотри на свет, Лоренцо. Видишь, с какой стороны солнце? Мы едем не в Фоссоли. – Марко мрачно вперился перед собой и тихо сказал: – Поезд идет на север.
Джулия
14
Роб ужасно зол на меня. Я понимаю это по громкому хлопку входной двери и по его возбужденным шагам, приближающимся к кухне.
– Почему ты отменила встречу с доктором Роуз? – спрашивает он.
Я не поворачиваюсь к нему, продолжаю нарезать морковку и картошку к обеду. Сегодня у нас в меню жареная курица, натертая оливковым маслом и лимоном, приправленная розмарином и морской солью. Мы будем есть вдвоем, потому что Лили все еще у Вэл. Ее нет в доме, где теперь так тихо, и он уже не то, чем должен быть. Ощущение такое, будто я соскользнула в какую-то грустную параллельную вселенную, а настоящий дом, где обитаю настоящая я, находится где-то в другом месте. Дом, где все мы снова счастливы, где моя дочь любит меня, а муж не стоит на кухне, поедая меня сердитым взглядом.
– Я была не в настроении встречаться с ней, – говорю я ему.
– Не в настроении? Ты представляешь, с каким трудом она втиснула тебя в расписание в столь срочном порядке?
– Обратиться к психиатру – твоя идея, не моя.
– Да, она предупреждала, что ты будешь упорствовать, – раздраженно усмехается Роб. – Она сказала: одна из твоих проблем – отрицание.
Я спокойно кладу нож и поворачиваюсь к параллельной вселенной, где обитает Роб. В отличие от моего спокойного мужа в накрахмаленной рубашке, у человека, которого я вижу перед собой, раскрасневшееся лицо и возбужденный вид, а галстук сбился набок.
– Ты с ней уже встречался? Вы уже говорите обо мне?
– Конечно говорим! Я в отчаянии. Я должен хоть с кем-то говорить.
– И что ты ей сказал?
– Что ты одержима какой-то треклятой музыкальной вещицей и не хочешь думать о реальной проблеме. Отдалилась от Лили. И от меня.
– Если бы тебя кто-то пырнул ножом, ты бы тоже отдалился.
– Я знаю, ты считаешь, проблема в Лили, но доктор Роуз три часа наблюдала за ней. Она увидела совершенно нормального очаровательного трехлетнего ребенка. Никакой склонности к насилию, никаких признаков патологии.
Я смотрю на мужа, ошарашенная его словами.
– Ты водил мою дочь к психиатру и даже не потрудился поставить меня в известность?
– Думаешь, для Лили все так просто? Она больше времени проводит у Вэл, чем здесь. Она совсем не понимает происходящего. А ты тем временем каждый день звонишь в Рим. Я видел телефонные счета. Несчастный владелец антикварного магазина, наверно, понять не может, почему эта сумасшедшая дама никак не оставит его в покое!
Слово «сумасшедшая» бьет меня, как пощечина. Он впервые произносит его мне в лицо, но я знаю, оно уже давно сидит у него в голове. Я – его сумасшедшая жена, дочь другой сумасшедшей женщины.
– Боже мой, Джулия, извини, бога ради. – Он вздыхает и тихо произносит: – Прошу тебя, покажись доктору Роуз.
– Но и что будет проку? Похоже, вы на пару уже поставили мне диагноз. Заочно.
– Она хороший психиатр. С ней легко говорить, и я думаю, она очень внимательна к своим пациентам. Лили она сразу понравилась. Я думаю, тебе она тоже понравится.
Я снова поворачиваюсь к разделочной доске и беру нож, затем медленно и методично нарезаю морковку. Даже когда он подходит ко мне сзади и обнимает за талию, я продолжаю нарезать морковку, лезвие ножа стучит по доске.
– Я делаю это для нас, – шепчет он и целует меня в шею.
От жара его дыхания меня пробирает дрожь – я словно оказалась в объятиях чужого человека. Не мужа, которым я восхищалась, не мужчины, которого любила больше десяти лет.
– Ведь я люблю вас обеих. Тебя и Лили. Двух моих лучших в мире девочек.
Когда Роб засыпает, я вылезаю из кровати, тихонько спускаюсь по лестнице к его компьютеру и нахожу в Интернете доктора Диану Роуз. Роб прав, я целиком погрузилась в поиски автора «Incendio» и не обращала внимания на происходящее в собственном доме. Мне нужно узнать больше о женщине, которая уже диагностировала меня как «упорствующую в отрицании». Она умело протиснулась в мою семью, очаровала мою дочь, произвела впечатление на мужа, а я про нее ничего не знаю.
«Гугл» выкидывает с десяток ссылок на доктора Диану Роуз из Бостона. Ее профессиональный веб-сайт называет ее специализацию (психиатрия), дает сведения о практике (адрес в центре Бостона, многочисленные связи с больницами) и образовании (Бостонский университет и Гарвард). Но мое внимание приковывает ее фотография.
Роб пел ей дифирамбы, но забыл сообщить: доктор Роуз поразительно красивая брюнетка. Нажимаю на следующую гугловскую ссылку. Сообщение из Вустера, штат Массачусетс, о судебном деле, в котором доктор Роуз участвовала в качестве эксперта. Она подтвердила, что некая миссис Лиза Вердон представляет опасность для собственных детей. На основании ее показаний суд назначил отца опекуном детей.
Страх узлом завязывается у меня в животе.
Я иду по следующей ссылке. Еще одно судебное дело, я читаю слова «слушания о дееспособности». Доктор Роуз дает показания от имени штата Массачусетс и рекомендует принудительную госпитализацию для некоего мистера Лестера Хейста, потому что он опасен для себя самого.
И еще в десятке найденных ссылок я неизменно встречаю слово «дееспособность». Экспертиза доктора Роуз. Она определяет, опасен ли пациент для себя или других. Следуют ли запереть его в психушку, как заперли мою мать.
Я закрываю браузер, смотрю на экран компьютера и тут обращаю внимание на новые обои рабочего стола. Когда Роб их заменил? Всего неделю назад тут была наша семейная фотография на фоне нашего сада. Теперь на фото одна Лили, ее волосы ярко светятся в солнечном нимбе. Накатывает чувство, будто меня стерли из нашей семьи, и если я опущу взгляд, то увижу, как исчезают мои руки. Сколько должно пройти времени, чтобы на рабочем столе появилась фотография другой женщины? Большеглазой брюнетки, которая считает мою дочь абсолютно нормальной очаровательной малышкой?
Доктор Диана Роуз в жизни не менее привлекательна, чем на фотографии ее веб-сайта. Большие окна ее кабинета на пятом этаже выходят на реку Чарльз, но жалюзи опущены. Темные окна давят на меня неким подобием клаустрофобии, я словно заперта в белой коробке с белой мебелью, и если не произнесу правильных слов, если не докажу, что я в здравом уме, эта женщина запрет меня здесь навсегда.
Ее первые вопросы вполне безобидные. Где я родилась, где росла, каково мое общее физическое состояние. У нее зеленые глаза и безупречная кожа, а бледно-желтая шелковая блузка достаточно прозрачна, чтобы рассмотреть под ней очертания бюстгальтера. Я спрашиваю себя, отметил ли эти детали мой муж, сидя на той самой кушетке, на которой теперь сижу я. Голос у нее сладкий, словно мед, она умеет делать вид, будто ей действительно небезразлично мое здоровье, но я думаю, она – воровка. Она украла любовь моей дочери и преданность мужа. Когда сообщаю, что я профессиональный музыкант и получила степень в консерватории, мне кажется, ее губы презрительно кривятся. Она, видимо, не считает музыкантов настоящими профессионалами. Ее дипломы, сертификаты и грамоты в рамочках развешены по всей стене – документальное подтверждение того, что она выше любого музыкантишки.
– Значит, по вашему мнению, неприятности в семье начались, когда вы сыграли музыкальную вещицу под названием «Incendio», – говорит она. – Расскажите подробнее об этих нотах. Вы сказали, что приобрели их в Риме.
– В антикварном магазине, – подтверждаю я.
– А почему?
– Я коллекционирую ноты. Всегда ищу что-нибудь, чего не слышала прежде. Что-нибудь уникальное и красивое.
– И вы поняли, что вещь красива, просто посмотрев на ноты?
– Да. Читая ноты, я слышу музыку. Я решила, мы сможем сыграть эту вещь в моем квартете. Приехала домой и стала разучивать ее на скрипке. И вот тут Лили… – Я замолкаю. – Вот тогда она и стала другой.
– И вы убеждены: причина ее необычного поведения – «Incendio».
– Я слышу в «Incendio» что-то неправильное. Что-то темное и тревожное. В нем есть негативная энергия, и я ее почувствовала, когда играла вальс в первый раз. Я думаю, Лили почувствовала то же самое. И я думаю, она реагировала на музыку.
– И поэтому она вас поранила…
Доктор Роуз говорит с совершенно нейтральным выражением, но я слышу скептицизм в ее голосе. Я слышу его так же четко, как слышу фальшивую ноту, которая портит в остальном безупречное исполнение.
– …Из-за негативной энергии, содержащейся в музыке.
– Не знаю, как еще сказать, – энергия или нет, но что-то в «Incendio» не так.
Она кивает, словно понимая. Но конечно же, ничего она не понимает.
– И поэтому вы так часто звоните в Рим?
– Я хочу выяснить происхождение и историю «Incendio». Может быть, тогда удастся понять, почему Лили так реагирует на музыку. Я пыталась поговорить с человеком, который продал мне ноты, но он не отвечает на звонки. Его внучка несколько недель назад написала мне письмо, пообещала поспрашивать его, но с тех пор – ни слова.
Доктор Роуз набирает в грудь воздуха, меняет позу. Невербальный знак того, что она собирается изменить стратегию.
– Что вы чувствуете по отношению к дочери, миссис Ансделл? – тихо спрашивает она.
Этот вопрос заставляет меня задуматься, потому что я не уверена, как нужно ответить. Я помню, как мне улыбалась новорожденная Лили и как я тогда думала, будто этот миг всегда будет самым счастливым в моей жизни. Я помню ночь, когда у нее поднялась температура, помню, как я обезумела при мысли о том, что могу ее потерять. Потом я вспоминаю тот день, когда опустила глаза и увидела осколок у себя в ноге и услышала, как моя дочь напевает: «Мамочке сделать бо-бо. Мамочке сделать бо-бо».
– Миссис Ансделл?
– Я, конечно, ее люблю, – автоматически отвечаю я.
– Даже несмотря на то, что она напала на вас.
– Да.
– Даже несмотря на то, что она, кажется, стала другим ребенком.
– Да.
– У вас никогда не возникало желания сделать ей больно в ответ?
Я недоуменно смотрю на нее:
– Что?
– Такие чувства вполне обычны, – говорит она убедительным тоном. – Даже самая терпеливая мать иногда выходит из себя и шлепает или колотит ребенка.
– Я ее ни разу и пальцем не тронула. Я никогда не хотела причинить ей боль!
– А у вас никогда не возникало желания поранить себя?
Ах, как легко она ввернула свой вопросик. Я понимаю, куда такие вопросы могут нас привести.
– Почему вы спрашиваете?
– Вы получили две травмы. Ранение стеклом и ушибы в результате падения с лестницы.
– Не сама же я себе вонзила стекло в ногу! И не бросилась по собственному желанию с лестницы.
Она вздыхает, словно я слишком глупа и не в силах понять очевидное.
– Миссис Ансделл, никто не видел, как это случилось. Может, в вашей памяти сохранилось не совсем то, что было на самом деле?
– В моей памяти все сохранилось точно так, как я рассказываю.
– Я просто пытаюсь проанализировать ситуацию. У вас нет никаких оснований испытывать ко мне враждебность.
Неужели она слышит враждебность в моем голосе? Я набираю полную грудь воздуха, стараясь успокоиться, хотя у меня есть все основания испытывать к ней недобрые чувства. Мой брак под угрозой, дочь хочет меня покалечить, а передо мной сидит доктор Роуз, такая безмятежная и владеющая собой. Занятно, думаю я, ее частная жизнь такая же идеальная, как и ее образ? А вдруг она тайная пьяница, мелкая воровка или нимфоманка?
Или крадет мужей у других женщин.
– Слушайте, я не знаю, почему вообще разговариваю с вами, – замечаю я. – Думаю, мы обе просто попусту теряем время.
– Ваш муж беспокоится о вас, поэтому-то вы и здесь. Он сказал, вы похудели и плохо спите.
– Что он вам еще сказал?
– Что вы отдалились от дочери. И от него. Вы вроде бы заняты собой и, кажется, не слышите его слов. Вот почему я задаю вам такие вопросы. Вы слышите голоса?
– В каком смысле?
– Голоса у вас в голове? Голоса людей, которых нет рядом, но которые говорят, что вы должны делать? Может быть, покалечить себя?
– Вы спрашиваете, не психопатка ли я? – Я разражаюсь смехом. – Отвечаю не просто «нет», доктор Роуз. Категорически «нет»!
– Надеюсь, вы понимаете, я обязана задавать вам такие вопросы. Ваш муж обеспокоен состоянием дочери, а поскольку днем он работает, мы должны быть уверены, что она в безопасности, находясь вдвоем с вами дома.
Наконец-то мы добрались до истинной причины моего появления в кабинете психиатра. Они считают меня опасной для Лили. Считают чудовищем, детоубийцей, как мою мать, и защищают от меня Лили.
– Мне сказали, ваша дочь сейчас у вашей тетушки. Это временное решение, – говорит доктор Роуз. – Ваш муж хочет, чтобы его дочь вернулась домой, но он должен быть уверен: дома ей не угрожает опасность.
– Вы думаете, я не хочу, чтобы она вернулась? Я со дня ее рождения практически с ней не расставалась. Когда ее нет, мне кажется, нет какой-то части меня.
– Даже если вы хотите возвращения Лили, подумайте о случившемся. Вы опоздали на несколько часов, когда должны были забрать ее из детского сада, но даже не поняли этого. Вы верите, что ваша дочь склонна к насилию и хочет вас искалечить. Вы одержимы музыкальной вещицей, в которой, по вашему мнению, таится зло. – Она делает паузу. – И в вашей семье имели место случаи психоза.
Картину она нарисовала безусловно отвратительную. Любой, кто услышит такую безжалостную цепочку фактов, не сможет поспорить с выводами доктора Роуз. А потому ее следующие слова меня вовсе не удивляют:
– Прежде чем я уверюсь в том, что дома ваша дочь в безопасности, полагаю, вам потребуется еще одна экспертиза. Рекомендую наблюдение в стационаре. Близ Вустера есть прекрасная клиника, я уверена, вам там будет удобно. Отнеситесь к этому как к короткому отпуску. К возможности на время снять с плеч груз всех обязанностей и просто сосредоточиться на себе.
– Вы говорите о коротком отпуске – что вы имеете в виду под словом «короткий»?
– Я не могу назвать никаких сроков.
– Значит, речь идет о неделях. Даже месяцах.
– Все будет зависеть от вашего состояния.
– А кто его будет оценивать? Вы?
Моя реплика заставляет ее откинуться на спинку стула. «Пациент проявляет крайнюю враждебность» – вот такой будет запись в моей карте. Тем не менее подобная деталь добавит еще один красочный штрих к неприятному портрету Джулии Ансделл, сумасшедшей мамаши.
– Позвольте мне подчеркнуть, этот период абсолютно произволен, – говорит она. – Вы в любую минуту сможете покинуть клинику.
Она говорит так, словно у меня есть выбор и дальнейшее зависит исключительно от меня, но мы обе знаем: я в ловушке. Скажу «нет» – потеряю дочь и, весьма вероятно, мужа. На самом деле я уже потеряла обоих. У меня теперь осталась только моя свобода, и даже она целиком в руках доктора Роуз. Ей нужно лишь объявить, что я представляю опасность для себя и окружающих, и дверь психушки захлопнется.
Я взвешиваю ответ, чувствуя на себе ее взгляд.
«Ты должна оставаться спокойной, покладистой», – уговариваю я себя.
– Мне нужно время, чтобы подготовиться. И я должна убедиться, что моя тетушка Вэл в состоянии заботиться о Лили.
– Конечно. Я понимаю.
– Поскольку придется отсутствовать некоторое время, я должна решить кое-какие практические вопросы.
– Мы же не говорим о вечности, миссис Ансделл.
Но для моей матери это обернулось вечностью. Клиника для душевнобольных стала точкой в ее короткой и бурной жизни.
Доктор Роуз выводит меня в приемную, где ждет Роб. Он привез меня сюда, чтобы убедиться, что я не пропущу приема, и теперь я вижу его вопросительный взгляд, обращенный на доктора Роуз. Та кивает ему в этаком безмолвном заверении – все, мол, прошло хорошо и сумасшедшая женушка согласилась с их планами.
Согласилась ли я? Какой у меня есть выбор? Я тихо сижу в машине, за рулем – Роб. Мы приезжаем домой, и он на некоторое время задерживается, хочет убедиться, что я не выброшусь в окно, не вскрою себе вены. Я слоняюсь по кухне, ставлю чайник на плиту, стараясь по мере сил выглядеть нормальной, хотя мои нервы крайне напряжены – готовы лопнуть в любую минуту. Когда он наконец уезжает на работу, я с облегчением и без сил падаю на стул у кухонного стола и сотрясаюсь в рыданиях.
Вот, значит, как сходят с ума.