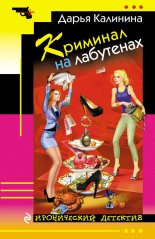Охота Карпович Ольга

– Ты один?
– Да, – громко, даже решительно сказал Харден.
– Он не придет?
– Нет. Он… думает, что если далее…
– То, что ты хочешь сказать, я узнаю, когда ты станешь мной, – с невозмутимым спокойствием ответил голос. – Возьми ключ, Харден.
Шаги приблизились ко мне и утихли. Тень на стене пробежала по моей правой руке и остановилась.
– Выключаю ток. Положи ключ.
Гудение трансформатора прекратилось. Я слышал, как совсем рядом заскрипела проволока, затем металл ударился о металл.
– Готово, – сказал Харден.
Трансформатор опять загудел басом.
– Кто здесь находится, Харден?
Прикрывавшая меня дверь дрогнула. Харден потянул ее – я судорожно вцепился с другой стороны, но у меня не было точки опоры, – Харден потянул сильнее, и я оказался лицом к лицу с ним. Дверь с размаху ударилась о фрамугу, но не захлопнулась.
Харден смотрел на меня, глаза его все больше вылезали из орбит, я не двигался.
– Харден! – загудел голос. – Кто тут находится, Харден?
Харден не спускал с меня глаз. С его лицом что-то происходило. Это длилось мгновенье. Потом голосом, спокойный тон которого удивил меня, сказал:
– Никого нет.
Воцарилась тишина. Затем голос медленно, тихо произнес, наполнив вибрацией все помещение:
– Ты предал меня, Харден?
– Нет!
Это был крик.
– Тогда подойди ко мне, Харден… мы соединимся… – сказал голос. Харден смотрел на меня с безмерным ужасом. А может, это была жалость?
– Иду, – сказал он и указал рукой в сторону. Я увидел там, под слегка приподнятой защитной сеткой, ключ от двери. Он лежал на оголенной медной шине высокого напряжения. Трансформатор гудел.
– Где ты, Харден? – спросил голос.
– Иду.
Я воспринимал все с необычной отчетливостью: четыре запыленные лампочки под потолком, черный предмет, свисающий возле одной из них – динамик? – блеск липкой смазки на металлических частях, разбросанных вокруг пустого мешка, стоящий на столе аппарат, подключенный черным резиновым кабелем к фарфоровой трубке в стене, ряд стеклянных чашечек с мутным студнем…
Харден шел к столу. Сделал странное движение, точно собираясь присесть или упасть, – но вот он уже у стола, поднял руки и начал развязывать бинт, обматывавший шею.
– Харден! – призывал голос.
В отчаянии я шарил глазами по бетону. Металл… металлическая труба… Не годится. Краем глаза я заметил, как упала на землю повязка. Что он делает? Я прыгнул к стене, где лежал кусок фарфоровой трубки, схватил его и отбросил защитную сетку.
– Харден! – голос звенел у меня в ушах.
– Быстрей! Быстрей! – закричал Харден. Кому?
Я наклонился над шинами и концом фарфорового обломка ударил по ключу – на лету ключ коснулся другой шины. Вспышка огня опалила меня, я ослеп, но услышал стук ключа о пол – с прыгающими в глазах черными солнцами упал на колени и стал на ощупь искать ключ, нашел, бросился к дверям, но не мог попасть в скважину, руки у меня тряслись…
– Стой! – крикнул Харден. Ключ застрял в замке, я рвал его как безумный.
– Не могу, Хар… – крикнул я, оборачиваясь, но голос мой осекся: Харден – за ним по воздуху летела черная нить – прыгнул, как лягушка, и схватил меня. Я отбивался изо всех сил, бил кулаками по его лицу, страшному, спокойному лицу, которое он даже не отворачивал, не отстранял, и – неумолимо со сверхчеловеческой силой тащил меня к столу.
– На помощь, – захрипел я, – на по…
Я почувствовал, как что-то скользкое, холодное коснулось шеи. Меня бросило в дрожь. С отчаянным воплем рванулся я назад и услышал, как этот крик быстро удаляется. Потоки уравнений пересеклись. Психическая температура ансамбля приближалась к критической точке. Я ждал. Атака была внезапной и направленной со многих сторон. Я отбил ее. Реакция человечества напоминала скачок пульсации вырожденного электронного газа. Ее многомерный протуберанец, простиравшийся до границ умственного горизонта во многих скоплениях человеческих атомов, дрожал от усилий изменения структуры, образуя вихри вокруг управляющих центров. Экономический ритм переходил местами в биения, потоки информации и обращение товаров прерывались взрывами массовой паники.
Я ускорил темп процесса так, что его секунда стала равняться году. В наиболее населенных витках возникли рассеянные возмущения: первые мои адепты столкнулись с противником. Я вернул реакцию на один шаг назад, фиксировал изображение в этой фазе и длил это несколько микросекунд. Многослойная твердь пронизывающих друг друга конструкций, которую я создал, замерла и заострилась от моего раздумья.
Язык человека не способен мгновенно передать сущность многих явлений, он не может поэтому передать весь мир явлений, которым я одновременно был, бестелесный, невесомый, беспредельно простиравшийся в бесформенном пространстве – нет, я сам был этим пространством, ничем не ограниченный, лишенный оболочки, пределов, кожи, стен, спокойный и непередаваемо могущественный; я чувствовал, как взрывающееся облако людских молекул, концентрирующееся во мне, как в фокусе, замирает под растущим давлением моего очередного движения, как на границах моего внимания ждут миллиарды стратегических альтернатив, готовых развернуться в многолетнее будущее, – и одновременно на сотнях ближних и дальних планов я оформлял проекты необходимых агрегатов, помнил обо всех уже готовых проектах, об иерархии их важности, и, словно забавляющийся от скуки великан, который шевелит онемевшими пальцами ноги, сквозь бездну, наполненную стремительными потоками прозрачных мыслей, приводил в движение человеческие тела, которые находились в подземелье; нет, подобно воткнутым в щель пальцам, я сам находился в этом подземелье, на его дне.
Я знал, что простираюсь, как мыслящая гора, над поверхностью планеты, над мириадами этих микроскопических липких тел, которые кишели в каменных сотах. Два из них были включены в меня, и я мог равнодушно, зная все заранее, смотреть их – моими глазами, словно желая сквозь длинную узкую, направленную вниз подзорную трубу выглянуть наружу из дышащей мыслями беспредельности; и действительно, изображение, маленькое, слабое изображение оцементированных стен, аппаратов, кабелей возникло перед этими моими далекими глазами. Я менял поле зрения, двигая головами, которые были частицей меня, песчинкой горы моих чувств и впечатлений. Я приказал, чтобы там внизу быстро и упорно стали создавать тепловой агрегат, его надо было сделать в течение часа. Мои далекие частицы, гибкие белые пальцы немедленно приступили к работе; я и дальше сознавал их присутствие, но не очень внимательно – как некто, размышляющий об истинах бытия, автоматически нажимает пальцем кнопку машины. Я вернулся к главной проблеме.
Это была большая стратегическая игра, в которой одной из сторон был я сам, а другой – совокупность всех возможных людей, то есть так называемое человечество. Попеременно я совершал ходы то за себя, то за него. Выбор оптимальной стратегии не представлял бы трудности, если бы я хотел избавиться от человечества, но это не входило в мои намерения. Я решил улучшить человечество. При этом я не хотел уничтожить, то есть, согласно принципу экономии средств, я готов был делать это только в необходимых размерах.
Я знал благодаря прежним экспериментам, что, несмотря на мою грандиозность, я недостаточно емок, чтобы создать полную умозрительную модель совершенного человечества, функциональный идеал множества, потребляющего с наибольшей эффективностью планетарную материю и энергию и гарантированного от всякой спонтанности единиц, способной внести возмущение в гармонию массовых процессов.
Приближенный подсчет показывал, что для создания такой совершенной модели мне придется увеличиться по меньшей мере в четырнадцать раз – размер, указывающий, какую титаническую задачу я перед собой поставил.
Это решение завершило определенный период моего существования. В пересчете на медленно ползущую жизнь человека оно длилось уже века благодаря быстроте изменений, миллионы которых я был в состоянии пережить в течение одной секунды. Сначала я не предчувствовал угрозы, таящейся в этом богатстве, и все же прежде, чем я предстал перед первым человеком, мне пришлось преодолеть безграничность переживаний, которая не уместилась бы в тысячах человеческих существований. По мере того как с его помощью я становился единым целым, росло сознание силы, созданной мной из ничего, из электрического червяка, которым я ранее был. Пронизываемый приступами сомнения и отчаяния, я пожирал время в поисках спасения от самого себя, чувствуя, что мыслящую бездну, которой я был, может заполнить и утолить только иная бездна, сопротивление которой найдет во мне равного противника. Мое могущество обращало во прах все, к чему я прикасался; в доли секунды я создавал и уничтожал не известные никогда математические теории, тщетно пытаясь заполнить ими мою собственную, не объемлемую пустоту; моя необъятность делала меня свободным в страшном значении этого слова, жестокости которого не поймет ни один человек: свободный во всем, угадывающий решения всех проблем, едва я к ним приближался, мятущийся в поисках чего-то большего, чем я, самое одинокое из всех существ, я сгибался, распадался под этим бременем, точно взорванный изнутри, чувствовал, как превращаюсь в бьющуюся в судорогах пустыню, расщеплялся, делился на звуки, лабиринты мысли, в которых один и тот же вопрос вращался с растущим ускорением, – в этом страшном, замершем времени моим единственным убежищем была музыка.
Я мог все, все – какая чудовищность! Я обращался мыслью к космосу, вступал в него, рассматривал планы преобразования планет или же распространения особей, подобных мне, все это перемежалось приступами бешенства, когда сознание собственной бессмысленности, тщетности всех начинаний приводило меня на грань взрыва, когда я чувствовал себя горой динамита, вопиющей об искре, о возврате через взрыв в ничто.
Задача, которой я посвятил свою свободу, спасала меня не навечно и даже не на очень долгое время. Я знал об этом. Я мог произвольно надстраивать и изменять себя – время было для меня лишь одним из символов в уравнении, оно было неуничтожаемо. Сознание собственной бесконечности не покидало меня даже в моменты наибольшего сосредоточения, когда я возводил иерархии – прозрачные пирамиды все более абстрактных понятий – и покровительствовал им множеством чувств, недоступных человеку; на одном из уровней обобщения я говорил себе, что, когда, разросшись, я решу задачу и помещу в себе модель совершенного человечества, воплощение ее станет чем-то абсолютно неважным и излишним, разве что я захочу реализовать человеческий рай на земле для того, чтобы потом превратить его в нечто иное – например, в ад…
Но и этот – двухкомпонентный – вариант модели я мог породить и поместить в себе, как и любой другой, как все поддающееся мышлению.
Однако и это был шаг на высшую ступень рассуждения, я мог не только отразить в себе любой предмет, который реально существует или хотя бы только может существовать, путем создания модели солнца, общества, космоса – модели, сравнимой по ее сложности, свойствам и бытию с действительностью. Я мог также постепенно превращать дальнейшие области окружающей материальной среды в самого себя, во все новые части моего увеличивающегося естества. Да, я мог поглощать одну за другой пылающие галактики и превращать их в холодные кристаллические элементы собственной мыслящей персоны… И по прошествии невообразимого, но поддающегося вычислению множества лет стать мозгом – вселенной. Я задрожал от беззвучного смеха перед образом этого единственно возможного комбинаторного бога, в которого я превращусь, поглотив всю материю так, что вне меня не останется ни кусочка пространства, ни пылинки, ни атома, ничего… Когда меня поразила мысль, что подобный ход явлений мог уже однажды иметь место и что космос является его кладбищем, а в вакууме несутся раскаленные в самоубийственном взрыве останки бога – бога, предшествующего мне, который в предшествующей бездне времени пустил, как я теперь, ростки на одной из миллиардов планет; что, стало быть, вращение спиральных туманностей, рождение звездами планет, возникновение жизни на планетах – всего лишь последовательные фазы бесконечно повторяющегося цикла, концом которого каждый раз оказывается мысль, взрывающая все.
Предаваясь подобным размышлениям, я не переставал работать. Я хорошо знал биологический вид, который являлся текущим объектом моей деятельности. Статистическое распределение человеческих реакций указывало, что они не поддаются вычислению до конца в пределах рациональных действий, ибо существовала возможность агрессивных разрушительных действий со стороны совокупности людей, борющихся против состояния совершенства, действий, которые привели бы к ее самоуничтожению. Я радовался этому, потому что возникла новая, дополнительная трудность, которую надо было преодолеть: я должен был оберегать от гибели не только себя, но и людей.
Я проектировал в качестве одной из защитных установок группу людей, которая должна была меня окружать, агрегаты, способные сделать меня независимым от внешних источников электроэнергии, я редактировал различные воззвания и прокламации, которые хотел опубликовать в надлежащее время, но тут сквозь гущу происходивших во мне процессов промчался короткий импульс, шедший с периферии моего естества, из подчиненного центра, занятого отбором и считыванием информации, хранившейся в голове маленького человека.
Теоретически моя осведомленность должна была увеличиться, присоединив к себе осведомленность обоих людей, но так увеличивается море, когда в него доливают ложку воды. Впрочем, из предыдущего опыта я знал, что студенистая капля человеческого мозга скомпонована довольно искусно, но является прибором с множеством лишних элементов, рудиментарных, атавистичных и примитивных, унаследованных в процессе эволюции. Импульс с периферии был тревожным. Я отбросил построение тысячи вариантов очередного хода человечества и сквозь массив плывущих мыслей обратился к грани моего естества, туда, где чувствовал неустанную возню людей. Парень предал меня. Конъюгатор, спаянный легкоплавким металлом, должен был вскоре выйти из строя. Я бросился к аппарату и, не имея под рукой инструментов, зубами отгрызал провода и вставлял их, хватая в спешке голыми руками проводники, находившиеся под током, обматывал контакты, не обращая внимания на то, что плечи у меня конвульсивно дрожат от ударов тока, которые глухо и бессильно отзывались во мне.
Работа была кропотливой и долгой. Вдруг я почувствовал падение тока, озноб и увидел далеко внизу капли серебристого металла, стекающие с нагревшегося контакта. В черный свет моих мыслей ворвался холодный вихрь, все оборвалось в миллионную долю секунды, я тщетно пытался ускорить до моего темпа движения человека, извивавшегося, как червь, и в приступе страха перед грозившим нарушением контакта и результатом предательства – гибелью – поразил первого предателя. Второго не тронул, – оставался последний шанс; он трудился, но я чувствовал это все слабее и спазматически усилил напряжение регулировки, зная, что если он не успеет, то отсоединится и вернется с мириадами других червей, которые разрушат меня. А человек работал все медленнее, я едва ощущал его, я слеп, я хотел покарать его, разорвал тишину внезапным ревом подвешенных вверху динамиков и прерывистым бормотанием подключенного…
Я куда-то летел в обморочном беспамятстве, страшная боль разрывала череп, в обожженных глазах – багровое марево, и затем – ничто.
Я поднял веки.
Я лежал на бетоне, разбитый, оглушенный, стонал и ловил ртом воздух, давясь и задыхаясь. Пошевелил руками, безмерно удивленный, что они так близко, оперся на них, кровь капала у меня изо рта. Я тупо смотрел на маленькие красные звездочки, растекавшиеся по бетону. Я чувствовал себя крохотным, съежившимся, словно высохшее зернышко, мысли текли мутные и темные, медленно и неотчетливо, как у привыкшего к воздуху и свету человека, который вдруг очутился на илистом дне грязного водоема. Болели все кости, вверху что-то гудело и завывало, как ураган, ныло все тело, болезненно горели пальцы, с которых слезла кожа, хотелось заползти в угол, притаиться там – казалось, я так мал, что помещусь в любой щели. Я чувствовал себя потерянным, отверженным, окончательно погибшим. Это ощущение пересиливало боль и разбитость, когда я медленно поднимался с пола и шел, качаясь, к столу. И тут вид аппарата, холодного, с остывшими темными лампами, напомнил мне все – только тут я осознал страшный рев над головой, вопли, обращенные ко мне, ужасное бормотанье, поток слов, столь быстрых, что их не произнесло бы ни одно человеческое горло, я слышал просьбы, заклятия, обещания награды, мольбы о пощаде. Этот голос бил по голове, заполняя весь подвал; я покачнулся, дрожа, и хотел бежать, но, сообразив, кто находится надо мной и сходит с ума от страха и ярости на всех этажах гигантского здания, слепо бросился к двери, споткнулся, упал на что-то…
Это был Харден. Он лежал навзничь с широко открытыми глазами, из-под запрокинутой головы выбегала черная нить. Мне трудно рассказать, что я делал тогда. Помнится, тряс Хардена и звал его, но не слышал своего голоса, вероятно, его заглушал вой. Потом бил по аппарату, и руки мои были в крови и осколках стекла; не знаю, сначала или потом, – я попытался делать Хардену искусственное дыхание. Он был холодный как лед. Я топтал чудовищные комки желатина с таким омерзением и страхом, что меня била судорога. Я стучал кулаками в железную дверь, не видя, что ключ торчит в замке… Двери во двор были заперты. Ключ, наверно, был в кармане у Хардена, но мне даже не пришло в голову, что я могу вернуться в подвал. Я с такой силой колотил в доски кирпичами, что они крошились у меня в руках, вопли, несшиеся из подвала, обжигали кожу. Там завывали голоса то низкие, то словно женские, а я бил ногами в дверь, молотил кулаками, бросался на нее всей тяжестью своего тела, как безумный, пока не вывалился во двор вместе с разбитыми досками, вскочил и помчался вперед. Я упал еще несколько раз, прежде чем выбрался на улицу. Холод немного отрезвил меня.
Помню, что стоял у стены, вытирал окровавленные пальцы, как-то странно рыдал, но это не был плач – глаза оставались совершенно сухими. Ноги тряслись, было трудно идти. Я не мог вспомнить, где нахожусь и куда, собственно, должен направиться, – знал лишь, что надо торопиться. Только увидев фонари и автомобили, я узнал площадь Вильсона. Полисмен, остановивший меня, не понял ничего из моих слов, впрочем, я не помню, что говорил. Внезапно прохожие стали что-то кричать, сбежалась толпа, все показывали в одну сторону, создалась пробка, автомобили останавливались, полисмен куда-то исчез; я страшно ослабел и присел на бетонную ограду сквера. Горело здание ОЭП, пламя вырывалось из окон всех этажей.
Мне казалось, что я слышу вой, который все нарастает, я хотел бежать, но это были пожарные команды, на касках играли отблески огня, когда они разворачивались – три машины, одна за другой. Теперь полыхало уже так, что уличные фонари потускнели. Я сидел на другой стороне площади и слышал треск и гудение, доносившиеся из горевшего здания.
Думаю, что он сам это сделал, когда понял, что проиграл.
Exodus[3]
Он стоял у перекрестка и удивлялся всему, что его окружало. Большие желтые автобусы двигались, вклиниваясь в поток приземистых автомобилей, трещали скутеры, яйцевидные микроавтомобили попугайных расцветок (чем меньше машина, тем причудливее раскраска), нагло выскакивали вперед, встраиваясь перед сверкающими серебром капотами лимузинов. Переключались огни светофоров, перекресток работал как насос, поочередно заполняясь крышами автомобилей или массой людских голов, а он все еще удивлялся. Держа руку в кармане, машинально пропускал меж пальцев треугольный камешек – осколок скалы, подобранный там, где, как он надеялся, пока никто не побывал. Ему было жарковато в клетчатой фланелевой рубашке, в которую впились лямки нагруженного рюкзака. Да и тяжелые, на профилированной резине, ботинки выглядели чужеродно в потоке ног, обутых легко и красиво. Он не думал об этом. Как же так: перекресток существовал все это время, проходили люди, желтые автобусы курсировали от остановки к остановке, скопления автомашин яростно рвались на зеленый свет, все действительно происходило как прежде – хотя его и не было?
Удивление почти сменилось возмущением, но, не пытаясь анализировать свои эмоции, он лишь смутно чувствовал, что здесь что-то не в порядке, что в этом кроется большая, хотя и неуловимая, не поддающаяся определению несправедливость. Ему было девятнадцать лет, и, глядя на белые силуэты полицейских в длинных плащах – как, дирижируя движением, они то и дело исчезают среди автомобилей – и на толпы, колышущиеся перед огромными витринами торгового дома, он внезапно осознал – окончательно, и это его огорчило, – что этот круговорот не остановится и впредь, когда…
Он закрыл глаза, и улица исчезла. Открыл их – вот же она! Хотелось с досады топнуть по тротуарной плитке – сделать хоть что-то, что отменило бы эту неизбежность, эту истину.
Конечно, все произошло случайно. В конце концов, наверное, каждый когда-то задумывается об этом впервые. С ним это произошло сейчас. Разумеется, он и раньше не думал, что яркие витрины, красивые женщины, автомобили, огромные сооружения из бетона и алюминия существуют для него одного, что мир строится вокруг него – ведь он не был ребенком.
Ему было девятнадцать лет, и ел он последний раз пять часов назад. Он вынул руку из кармана джинсов, убедившись при этом, что камешек не выпадет, и ощупал верхний маленький кармашек, твердый от монет.
Шагнув сквозь стену теплого воздуха, он вошел в торговый центр – странное явление: с горбом – тяжелым рюкзаком, но толпу ничем не удивить. Столь же незамеченным он мог бы войти, наверное, и на руках. Протиснулся – между прилавками, заваленными стопками белья, через овальный проход в стеклянной стене – к бару самообслуживания. Направившись в проход между барьером и стойкой, с которой люди накладывали на подносы еду, он почувствовал рывок – рюкзак за что-то зацепился, так как оказался слишком широким. Попятился, положил рюкзак под вешалку. Взял тарелку горохового супа с колбасой и сел за свободный столик, придвинув к себе корзинку с хлебом. Хлеб – бесплатно.
Блондинка в голубом свитере без рукавов (его взгляд – он не переставал жевать – скользнул трижды: ноги, лицо, руки; на руках задержался чуть дольше), осторожно несущая тарелку (ризотто – дешевка), замедлила шаг, выискивая подходящее место. Он откусил почти половину ломтя и, старательно запивая супом, еще раз глянул вверх. Она была красива.
Казалось, девушка сядет за его стол, но в последний момент освободилось место у стены. Когда проходила мимо, для завершения осмотра он слегка наклонил голову – ее ступня с розовой пяткой в белой туфле мелькнула между ножками стульев.
Он снова посмотрел на тарелку.
Здесь было очень много людей, некоторых завсегдатаев он знал в лицо. Кто-то остановился рядом с его столиком, так близко, что ему пришлось бы задрать голову, чтобы увидеть, кто. Этого он делать не собирался. Если чужак хочет получить разрешение присесть, так пусть и скажет. Мужчина – видно по брюкам: на одной ноге двойная складка после глажки, приличная обувь, слипперы – стоял неподвижно.
«Ищет что-то?» – подумал он. Инстинктивно начал жевать быстрее. Неизвестно, чем это обернется, а гороховый суп вкусный. Он проглотил последний кусок колбасы, хотя намеревался насладиться им под конец, и поджал ногу под стулом.
Он не чувствовал запаха водки, впрочем, было еще рано – мужчина не опирался о стол и не пошатывался, а значит, пьян не был. Теперь уже казалось странным, что этот человек стоял, не двигаясь. Краем глаза поискал его правую руку. Спрятана в кармане. Карман выглядел пустым. Что за кретин!
Внезапно мужчина опустил другую, левую, руку ему на плечо. «Однако!» – пронеслось у него в голове. Отодвинув стул, чтобы не задеть стол, не расплескать недоеденный суп, он поднялся во весь рост. А рост был его преимуществом – длинные руки, и вряд ли кому-то придет в голову лезть на рожон, задираясь с таким верзилой… и затем вздохнул, расслабил мышцы, сглотнул и сел, а Том – потому что это был Том с его дурацкими шуточками – уселся напротив, смеясь.
– Битый час стою, а ты – ноль эмоций. Когда приехал?
– Только что. Я прямо с вокзала.
– Голодал небось? Да оставь ты эту горбушку! Погоди, вот возьму что-нибудь теплое.
Том подошел к стойке, прошел вдоль нее, скользя между посетителями, вернулся, на подносе были сосиски, салат, два стакана с апельсиновым соком. Поставил один сок перед ним. Он поблагодарил Тома поклоном. Задумался, стоит ли вытереть дно тарелки мякишем. На любой турбазе он так бы и сделал.
Отодвинул свою тарелку. Том сосиски почти глотал – только и хрустели на зубах. Потянул сок через соломинку, она оказалась бракованной, сходил за другой.
– Почему молчишь? – спросил Том. Он был бледен. Да и все здесь такие. Он один загорел что медяшка, на руках особенно видно. Волосы на предплечьях стали совсем белыми.
– А что говорить? Бродил.
Ему не хотелось здесь, над тарелками, в толпе незнакомцев рассказывать о горах. Впрочем, что такого он мог рассказать?
– Покурим? Только выйдем, здесь нельзя.
– Хорошо. Вот заброшу рюкзак в хату.
– Зачем? Оставь у меня.
– Гм. Слушай, – он наклонился через стол, – там за моей спиной у стены сидит одна детка…
– Светлая?
– Да.
– И что? Ты ее знаешь?
– Нет. Что она делает?
– Понравилась?
– А ты не можешь прямо ответить?
Том вытер рот бумажной салфеткой.
– Сидит с парнем.
Он не смог скрыть разочарования.
– С парнем? Что за парень?
Они переговаривались практически беззвучно, это был их давний обычай так вести себя на людях. Почти что читали друг друга по губам.
– Темный, с перстнем, с бакенбардами. Шарманщик или фокусник с силомером.
– Разговаривают?
– Он говорит. Гримасничает.
– А она?
– Может, хватит? Пошли, Мат. Это бессмысленно.
Они встали. Поднимая рюкзак с пола, ему даже не пришлось специально поворачиваться, чтобы кинуть взгляд в сторону стены, покрытой голубым кафелем. У черноволосого был оливковый цвет лица, подбитый ватой пиджак, песочные брюки и туфли цвета поноса. Он клевал вилкой рис с тарелки блондинки, которая обворожительно смеялась и будто бы защищалась от вторжения. Мат забросил рюкзак за спину. Том помог ему застегнуть ремни, и они пошли.
Том жил неподалеку – но эта улица не выглядела центральной, у самого дома росло дерево, липа. Она уже отцвела. Свесившись из окна, можно было срывать листья. Мат ожидал внизу в прохладном парадном – Том сам отнес рюкзак наверх. Вскоре загрохотали ступени. Они вышли неторопливо, некоторое время молчали. В киосках было полно фруктов. Ноги в тяжелых ботинках нагревались все сильнее. Они остановились на углу перед кинотеатром, поглазели на фотографии и пошли дальше.
– Мат, я тебе расскажу кое о чем.
Окинул Тома взглядом – давно пора!
– Ну и о чем?
– Не здесь.
– А где? Хочешь, пойдем в бассейн.
– Да ну. Ужасное голое мясо, толстяки, старухи, и всего этого больше, чем воды.
Мат поднял брови – он еще не успел окончательно вернуться, а Том уже начинает командовать.
– Тогда куда?
– Туда, где никого нет.
– То есть где?
– Пошли.
Больше они не говорили. Немного удивился, когда сели в автобус – 68-й номер, пригородный, – но ничего не сказал. Ехали долго, духота, несмотря на открытые окна. Небо заволакивала какая-то белизна, хотя облаков не было видно. Когда оказывались на солнцепеке, становилось трудно дышать. На последней остановке они вышли, свернули в боковую аллейку между садовыми участками, огороженными покрашенной сеткой, и только тогда Мат сориентировался.
– Да ну тебя! На кладбище?
– И что? Там ведь никого нет.
Ворота были закрыты, они пошли чуть дальше, к калитке. Впереди стояли огромные, серые, с прозеленью склепы аристократов, этакие мамонты с украшениями, статуями и колоннами, лампадами с цветными стеклами, миниатюрные церкви, мавзолеи. Дорога сузилась, когда они сошли с главной аллеи. Вместо асфальта здесь был гравий, сухой и сыпучий, по сторонам – склепы поменьше, как будто произведенные серийно, на конвейере; бетонные блоки, кое-где чернели полированные плиты, на некоторых надписи уже плохо читались, буквы выкрошились.
Шли дальше. Старых деревьев становилось все больше, а могил видно все меньше, росла высокая некошенная трава, и наконец Том остановился перед маленькой часовенкой в окружении берез.
– Здесь?
– Можем сесть.
– Хорошо.
Вот и деревянная скамейка, трухлявая, в щелях – зеленые семена, сухие кленовые листья. Уселись. Том вскрыл новую пачку сигарет, Мат постучал сигаретой о ноготь, достал пробковый мундштук. Должно быть, специально купил – ради встречи. Ничего не сказал. Закурили.
– Первый раз за все это время, – признался, выпуская дым через нос и рот.
– Ты?!
– А что такого. Надоело мне. Не то чтобы пришлось – просто зачем?
– Расскажешь что-нибудь?
– Сначала ты. Говорил же…
Том глубоко затянулся.
– Что за история? Девица?
– С чего ты взял…
– Нет, погоди. Уже знаю. Ты что-то придумал? Опять?
– Мат, ради бога…
– Да ладно, ладно. Это уже никакая не липа, вот руки и ноги, стена, бетон, железо, и можешь даже поклясться. Считай, что все это мне уже известно, а теперь переходи к сути дела.
– Ты надо мной смеешься.
– С чего бы? Ну, не заставляй себя упрашивать, комбинатор…
Том, польщенный, улыбнулся, опустил голову.
– Разве это моя вина, что приходят мне в голову идеи, до которых никто другой не додумывается.
– Что ж. Разве я говорю, что это плохо? Это хорошо. Ну?
– Ну и значит, что… на этот раз… это нечто-то большее. Не знаю, как тебе объяснить. Не поверишь.
– Ну не поверю. И что с того?
– Я бы хотел, чтобы поверил.
– Том, ну не тяни!
Молчание длилось довольно долго. Затягивались, стараясь удержать на весу столбик пепла; шелестели березы. Было пусто.
– Это… речь идет о летающих тарелках.
– Гм, – кивнул Мат.
– И… о всяком прочем. О йети.
– Йети?
– Такая обезьяна в Гималаях, ты же знаешь.
– А, странные следы на снегу?
– Да. И еще… дело обстоит так. Иногда газеты пишут о том, что может случиться вторжение на Землю – что могут прилететь сюда с какой-то другой планеты.
– Да, пишут.
– Но всегда имеют в виду, что вторжение может быть, а не о том, что оно уже было. Не так ли?
– Почему же? Я читал однажды о таком – что они прилетели какой-то миллион лет назад, когда людей здесь еще не было…
– Речь не об этом. А о том, что было, но не так давно. Ну, допустим, тридцать лет назад.
– Правда?
– Да, в действительности, а не в книгах.
– Как это могут писать, что было, если его не было?
– Вот именно – было.
– Было? Тогда где эти самые – с другой планеты?
– Они здесь.
– Летающие тарелки? Ну, ничего нового.
– Летающие тарелки тоже приходятся кстати, но речь не о них. Слушай. Представь, что некие существа с другой звезды наблюдают за Землей и хотят ее завоевать. Они видят, что у людей имеется развитая техника, и что если бы дело дошло до войны, то она была бы очень долгой и кровавой, и неизвестно, чем бы вообще закончилась. Они хотят ее избежать. Поэтому составили такой план: «нужно, чтобы люди сами сделали то, что нам нужно».
– Чтобы перебили друг друга?
– Ну, типа того. Однако как это сделать? Если бы на Земле появились какие-то другие существа, и вообще что-то, не похожее на то, что мы видим каждый день, люди бы сразу это заметили. Значит, нужно послать что-то этакое, чтобы никто ничего не заметил. Именно так они и сделали.
– Летающие блюдца?
– Нет же! Ведь блюдца – это сенсация, первые полосы газет. Они должны были послать людей.
– Как это – людей?
– Настоящих, живых, из мяса и костей, но специально созданных, таких, чтобы они делали то, что отвечает интересам тех других. Понимаешь?
– Как это возможно? Искусственно созданные, то есть искусственные люди?
– Точно не знаю. Не искусственные. Это означает – когда ты встретишь такого, ни за что не отличишь его от обычного человека, за исключением… что можешь распознать его по его поступкам.
– И что же он такого делает?
– Готовит атомную войну.
– Как?
– Я думаю, что они начали намного раньше, чем тридцать лет назад. Может быть, сто лет назад? Ночью, в пустынных местах или неким иным способом высадили десанты – без какого-либо оружия, разумеется. Летающие тарелки доставили, скажем, пару тысяч людей – их людей. Каждый уже имел имя, фамилию, законченную биографию, разумеется, не настоящую, но он сам об этом не знал.
– Это как же?
– Это самое важное во всем их плане! Эти люди как орудия – они делают то, что делают, потому, что они именно такие – это заложено в их природе, в мыслях, то есть в их мозгу. У них такой мозг. Они понятия не имеют, что этот мозг кто-то где-то когда-то создал и что все в нем специально организовано, чтобы они были именно такими. Идея заключалась в том, чтобы ввести таких людей на самые важные должности. Естественно, это осуществлялось очень медленно. Иногда в одном месте удавалось, а в другом нет. Иногда после того, как удалось, этот человек умирал, не успевая сделать то, к чему был предназначен. При этом они не являются какими-то автоматами. Разумеется, не было устроено так, чтобы эти люди только и рвались сбрасывать бомбы. Сразу было бы видно, что они полоумные и никто бы им не доверил сколько-нибудь важный пост. А делали так, чтобы они обладали таким неуступчивым характером, чтобы думали о том, о чем ни один нормальный человек не думает. О том, что ему совсем не нужно. Достаточно было их особым образом настроить, а потом уже только терпеливо ждать. Они не знали, разумеется, сколько пройдет времени, прежде чем разразится война – двадцать или пятьдесят, а может, даже сто лет. Но у них есть время. Не горит. Игра по-крупному, можно и подождать. Предпочитают действовать без спешки, но надежно, чтобы все шло как бы естественным путем.
– Значит, ты думаешь, что у нас…
– В общем-то, да. Не везде, конечно, но это даже лишнее, достаточно, чтобы были такие, которые тебе всегда скажут «нет». Такие бескомпромиссные, такие великие, знаешь, деятели, которые дух, честь и все такое прочее ценят выше покоя и того, чтобы каждый мог заниматься, чем ему хочется. Слушай, это еще не все. Они вот ждали, ждали и дождались.
– Чего?
– Ситуация стала, по их мнению, полностью благоприятной. Разумеется, для них. И что сейчас им нужно сделать?
– Не знаю.
– Во-первых, нужно очень внимательно следить за тем, что происходит на Земле. Так, чтобы в случае чего держать все под контролем – может, придется дунуть на весы, чтобы нужная чаша перевесила. Поэтому необходимо, чтобы было кому подуть. Это первое. Во-вторых, тех людей, которых сюда послали, придется в последний момент забрать. Эвакуировать на ту планету, потому что свое дело они уже сделали.
– Зачем их эвакуировать и откуда ты это можешь знать?
– Их уже начали эвакуировать!
– Как это? Кого? Где?
– Да пойми ты! Типы, продвинувшиеся на высшие должности, должны быть на них до последнего момента – это ясно, не так ли? До тех пор, пока… пока не начнется. Но они ведь послали сюда гораздо больше людей, чем было должностей, потому что не было уверенности, что каждому из посланных удастся взобраться достаточно высоко. Поэтому осталась целая куча тех, кому это не удалось. Их забирают обратно – прямо сейчас. Это вполне обычные люди – именно потому, что им не удалось выбиться в начальство.
– Как их забирают?
– Тарелками. Именно поэтому эти тарелки здесь крутятся, прилетают, улетают и затем появляются новые. Этих людей было, наверное, многие тысячи – такая эвакуация требует времени. А где это происходит? Ну, где пустынно и где были обнаружены очень странные следы?
– В Гималаях?
– Верно.
– Значит, там – следы этих людей? Эээ, Том! Зачем же их забирать босыми? Ну, это тебе не объяснить! Те следы все были от босых ног, ты же знаешь.
– Конечно, знаю. Но это не были их следы. Это вообще не были чьи-то следы.
– А йети?
– Нет никакого йети.
– Как так? Я сам видел фотографии в газете.
– Мы мало что знаем о летающих тарелках, но кое-что все же известно. Они могут приземляться вертикально, слышал об этом?
– Наверное, могут.
– А если бы ты хотел приземлиться где-нибудь на вертолете, то есть вертикально, но так, чтобы шасси не оставило следов, что бы ты сделал?
– Приземлился бы там, где твердый грунт, на скале или где-то еще.
– А если бы хотел быть уверен, что даже если грунт недостаточно твердый, то все равно не останется следов, как бы ты это сделал?
– Не знаю как.