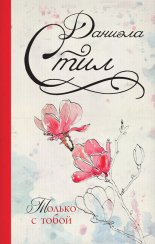Пламя любви Картленд Барбара
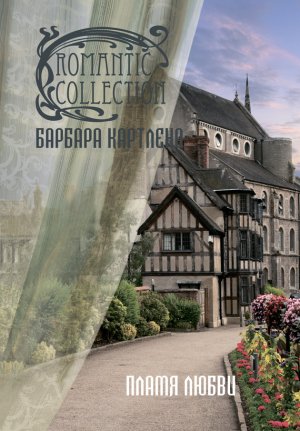
В уши Мона вдела изумрудные серьги, еще один резной изумруд блестел на среднем пальце левой руки.
Изумруды купил ей Лайонел в Каире. За них он заплатил сказочную цену, а когда она упрекнула его за расточительность, лишь рассмеялся и поцеловал ее ладонь.
— Я просто хотел увидеть на тебе это кольцо, — объяснил он. — Никак не могу решить, что прекраснее — твоя рука или драгоценности, которыми я стараюсь ее украсить.
Лайонел любил дарить ей подарки. В этом он был удивительно разборчив — не признавал ничего, кроме самого лучшего. И драгоценности, и одежда для его возлюбленной должны были быть эксклюзивными и высшего качества.
Траты его не волновали: он одевал и украшал Мону с увлечением коллекционера. Иногда она спрашивала себя, не превращается ли в какую-то куклу, которую Лайонел с наслаждением украшает изысканными дарами разных стран: русскими соболями, канадскими черно-бурыми лисами, китайскими нефритами и цейлонскими рубинами.
Подарки ей он выбирал по многу часов, с увлечением коллекционера, так что порой Моне казалось, что он стремится доставить радость не столько ей, сколько самому себе. Он стремился к совершенству — и все же Мона знала: совершенство он ищет лишь в том, что непосредственно с ним связано.
Рядом с ним она должна быть прелестна, должна носить изумительные наряды, потрясающие драгоценности, уникальные меха.
Но, когда его нет рядом, пусть обитает в безвкусных и потертых гостиничных номерах, пусть путешествует в одиночку, возбуждая любопытство и толки, пусть общается со сбродом, населяющим второсортные гостиницы и обедающим во второсортных ресторанах.
В высшее общество, к достойным и интересным людям в любом городе дорога ей была закрыта — из страха, что ее путь пересечется с путем Лайонела и нанесет ущерб его карьере.
Да, Лайонел требовал совершенства — но лишь там, где это касалось его самого…
«Хватит о нем думать!» — приказала она себе и улыбнулась своему отражению.
— Мона Карсдейл готова к вступлению в новую жизнь! — насмешливо проговорила она. — В дивный новый мир крестьян, коров и кабачков!
И, покинув свою маленькую спальню, легким шагом сбежала по широкой дубовой лестнице вниз.
Майкл, только что вошедший, стоял в холле, прямо под ней. Она окликнула его сверху; он поднял голову и смотрел, как она бежит к нему, золотая и сияющая, словно жаркое летнее солнце.
— Ну как? — спросила она, остановившись на нижней ступеньке. — Нравится? Или ты предпочел бы увидеть скромницу в сером?
— Ну, на это ты никогда не пойдешь! — парировал он. — Однако, прежде чем начнем ругаться, позволь повторить то, что я сегодня уже говорил: выглядишь ты намного лучше, чем раньше.
— Начнем ругаться? — повторила Мона, вздернув бровь. — С чего это вдруг?
— Заметил воинственный огонек в твоих глазах — и решил сразу предупредить такое развитие событий.
— И ошибся. Няня сделала мне внушение, так что сегодня я намерена вести себя прилично. Буду сидеть с тобой рядышком, вздыхать и лепетать: «Да, Майкл!», «Совершенно верно, Майкл!», «Как ты прав, Майкл!», «Майкл, ты такой умный!» Ну, как тебе понравится такая Мона?
— Очень понравится. Только не забудь сдержать свое обещание.
— Непременно. Вот увидишь, как у меня это получится!
Вместе с Майклом она вошла в гостиную. Доктор, его жена и генерал Физерстоун уже стояли у камина, а миссис Вейл разносила бокалы с хересом.
Мона сегодня в ударе, думал Майкл, глядя, как она, впорхнув в комнату, радостно приветствует Хаулеттов, подставляет седому генералу щечку для поцелуя и интересуется, хранил ли он ей верность, пока она странствовала в чужих краях.
За ужином Мона вела беседу и развлекала гостей. Ни на секунду она не терялась, не лезла за словом в карман; о чем бы ни заходила речь, говорила живо и остроумно, улыбаясь каждому и каждого вовлекая в беседу.
Миссис Вейл на другом конце стола смотрела на дочь с такой радостью и гордостью, что Майклу даже жаль ее стало, так явно было ее беспокойство о том, чтобы вечер прошел гладко и Мона всем понравилась.
Изумительно вкусный, хоть и довольно скудный ужин был окончен, и миссис Вейл повела дам в гостиную.
— Не слишком увлекайтесь картами, — предупредила она мужчин, — а вы, Майкл, следите, чтобы генерал, увлекшись своими рассказами, не забывал пасовать.
Выйдя из столовой, Мона взяла под руку Дороти Хаулетт.
— Как поживаешь? — спросила она.
До свадьбы Моны Дороти Хаулетт была, пожалуй, единственным близким ей человеком в деревне.
В молодости жена доктора была хорошенькой, хоть и довольно заурядной внешности, но со временем сделалась совсем бесцветной. Однако лицо у нее было простое, доброе, открытое, как у ребенка, — и весь Литтл-Коббл знал, что женщины добрее и приветливее Дот Хаулетт в округе не найти. Все говорили, что у нее золотое сердце.
Доброта и безотказность Дороти вошли в поговорку — и в результате ей часто приходилось выполнять не только свои, но и чужие обязанности. Она кормила и обстирывала мужа, занятого своими больными, растила четверых детей, а с начала войны на попечении у нее оказались еще и трое эвакуированных.
Словно этого было мало, она взвалила на себя Общество помощи фронту, а кроме того, вызвалась руководить размещением эвакуированных в Литтл-Коббле и соседней деревушке — задача, требующая недюжинных дипломатических способностей и такта в сочетании со стальной волей.
Но Дороти Хаулетт не жаловалась. Работала она без выходных и праздников, ни минуты не оставляла на себя — и однако всегда выглядела счастливой, а мужа своего, судя по всему, обожала.
«Так вот что такое счастливый брак?» — спрашивала себя Мона.
Она смотрела на вечернее платье Дороти — пятилетней давности и уже расползающееся по швам, на седину в ее каштановых волосах, явно нуждающихся в стрижке и укладке.
После ужина и стакана портвейна (она пыталась отказаться, но уступила настояниям миссис Вейл) Дороти слегка раскраснелась. Говорила она много, с лихорадочной быстротой, стараясь не отставать от Моны.
— Как же я рада, что ты вернулась! — воскликнула она.
— Все здесь так добры ко мне, — ответила Мона. — Удивительно, сколько людей говорят, что рады моему возвращению! Я как-то не ожидала такого.
— Почему же? — спросила Дороти. — Все мы скучали по тебе — я-то уж точно!
— А почему? — с любопытством спросила Мона.
Дороти взглянула на нее с удивлением.
— Неужели не понимаешь? — ответила она. — Все мы хотим проснуться. Хотим услышать, что за пределами Литтл-Коббла есть другой, большой мир. Ты словно отблеск какой-то иной жизни, даже, может быть, другой цивилизации, ты как… как бы это сказать? Вот: ты как героиня голливудского фильма!
Мона рассмеялась:
— Спасибо, милая Дот! Никогда еще не слышала таких похвал в свой адрес. Если бы только они соответствовали истине! Но, увы, я вернулась усталой и разочарованной, чтобы сложить здесь свои бренные кости.
В голосе ее прозвучало какое-то сильное чувство; но, прежде чем Дороти успела задать вопрос или хотя бы задуматься об этом, к ним присоединилась миссис Вейл.
— Ну, что скажете о моей дочери? — гордо поинтересовалась она. — Похорошела, как вам кажется?
— Мама напрашивается на комплимент — причем себе, а не мне, — объявила Мона. — Бедная мамочка до сих пор считает, что ее гадкий утенок превратился в лебедя!
— Никогда ты не была гадким утенком! — возразила миссис Вейл. — Хоть ты и моя дочь, но скажу как на духу: никогда я не видела более очаровательного ребенка!
— Мамочка, милая! — воскликнула Мона. — Неужели ты не знаешь, что для любой матери ее ребенок — самый красивый на всем белом свете? В Сан-Франциско я разговаривала с негритянками — они показывали мне своих малышей, приглашали ими полюбоваться и, уверяю тебя, свято верили, что розовенькие голубоглазые ангелочки ни в какое сравнение не идут с их шоколадными негритятами!
— Что верно, то верно, — согласилась миссис Вейл. — Я всегда говорила: ничто не дает женщине такой радости, такой гордости, как дети. Вы согласны, Дороти?
— Конечно, — ответила Дороти Хаулетт.
— И ты, милая, однажды это поймешь, — задумчиво заключила миссис Вейл.
В этот миг дверь отворилась, и вошли мужчины. Мона вскочила на ноги.
— Вы как раз вовремя! — воскликнула она. — Спасите меня! Мало того что с самого моего приезда мамочка ищет мне мужа — теперь она требует, чтобы я родила ребенка! Только никак не могу понять, что же я должна сделать сначала, а что потом.
— Милая, как ты все переворачиваешь с ног на голову! — упрекнула ее мать. — Совсем не это я говорила. Не слушайте ее, генерал, она у меня иногда такая неугомонная!
— И прехорошенькая! — заметил генерал. — Не знаю, что за эликсир красоты вы открыли в Америке, но, если привозить его сюда в бутылках и продавать местным дамам, мы определенно сделаем на этом состояние!
— Отличная мысль! — рассмеялась Мона. — Вы станете председателем компании, я — управляющей…
— А я что буду делать? — поинтересовался Майкл.
Мона смерила его дерзким взглядом.
— Станешь спонсором, конечно, — ответила она. — На что ты еще годишься?
И по гневному блеску в глазах Майкла с удовольствием отметила, что стрела ее попала в цель.
Ей нравилось его дразнить, а деньги, как она знала, были для него больной темой. Майкл терпеть не мог разговоров о своем богатстве; ему неприятно было думать, что окружающие, особенно друзья, быть может, тянутся к нему только из-за его щедрости.
Тем временем миссис Вейл раздвинула столик для бриджа.
— Дети, хватит болтать ерунду! — приказала она. — Мы, старички, собираемся сыграть партию в бридж. Мона, нечего вам с Майклом тут пререкаться и отвлекать нас от игры. Почему бы вам не сходить в Длинную галерею и не пожарить себе каштанов? Диксон принес сегодня целую корзину.
— Отличная мысль, мамочка, — смиренно ответила Мона.
Однако, выйдя из комнаты вместе с Майклом, она расхохоталась.
— Мамочка просто прелесть, правда? — спросила она. — Ты когда-нибудь еще слышал настолько прозрачный намек? По-моему, именно это называется «пусть молодые люди получше узнают друг друга». Что ж, Майкл, следующий ход за тобой.
— И что, по-твоему, я должен делать? — мрачно поинтересовался он.
— Я тебе все объясню, — ответила Мона.
Они вышли в Длинную галерею: здесь уже ярко горел огонь и стояла приготовленная корзина каштанов.
— Жду инструкций.
— Ты садись в кресло, — приказала Мона, — а я грациозно опущусь на ковер у твоих ног. Для создания легкой непринужденной атмосферы. Дальше я буду жарить каштаны, а ты задавай мне разные вопросы. Например: «Что ты думаешь о жизни?» И таким путем рано или поздно дойдем до секса.
С этими словами Мона действительно опустилась на ковер. В своей пышной юбке она была похожа на озеро золотистого света.
Но Майкл молчал. Подождав немного, Мона бросила на него взгляд из-под ресниц.
— Не хочешь ли начать? — поинтересовалась она.
— Начинай лучше ты, — ответил Майкл. — Говорят, исповедь облегчает душу.
— Исповедь?! — воскликнула Мона. — Если я и решу кому-то исповедаться, то уж точно не тебе, Майкл Меррил! Уж слишком ты несгибаем и непримирим, совершенно не способен понять и простить чужую слабость. Сам-то ты со слабостью незнаком — всегда идешь напролом прямо к цели!
— Это не значит, что я не смогу тебя понять. Попробуй.
— Исповедаться тебе? Да никогда в жизни! Нет, я не стану просить у тебя поддержки — однажды я уже узнала, каково терпеть твое неодобрение!
— Я ведь сказал: мне очень жаль, и я прошу у тебя прощения.
— Что толку в этих словах? Важны дела. Если бы ты был тогда добр со мной, как я того хотела, если бы поддержал и защитил меня, как старший брат, быть может, все сложилось бы иначе…
— Что «все»? — резко спросил Майкл.
— Да не все ли равно? — нетерпеливо ответила Мона. — Нет, наверное, все это было неизбежно — и твое осуждение тоже. — Она отвернулась к огню. — Каштан готов. Хочешь?
— Нет, спасибо, я не голоден.
— Обиделся? — поддразнила его Мона. — Бедненький Майкл! Что, так хотел услышать историю моей жизни? Не переживай, когда-нибудь я напишу воспоминания. Ты их прочтешь и на полях каждой страницы оставишь свои язвительные комментарии.
— Думаешь, это на меня похоже?
— Право, не знаю. Я пришла к выводу, что очень плохо понимаю людей. Все, с кем мне приходилось сталкиваться, делают то, чего от них никак не ожидаешь. Быть может, я, как и ты, плохой судья людских характеров.
— А кто говорит, что я плохой судья?
— Я говорю. Точнее, во мне говорит досада. Мне всегда, еще девочкой, хотелось, чтобы ты мной восхищался, считал меня очаровательной, умной, самой-самой лучшей. А ты смотрел на меня с таким презрением — типа «да это всего лишь девчонка»!
— Тебя послушать, так я просто негодяй какой-то.
— Меня послушать, — парировала Мона, — так ты всем хорош, вот только любишь нос задирать!
— Откуда ты знаешь? Тебя ведь долго не было. Что, если я изменился?
— Может быть… — задумчиво откликнулась она. — Об этом я не думала. А ты изменился, Майкл? И в чем же? Влюбляешься без памяти и заводишь бурные романы?
— Может быть.
— Как интересно! И никто мне не рассказал! А с кем?
— Мне казалось, ты не любишь исповедей.
— Touch![7] — признала Мона. — Однако, кажется, ты пытаешься соблазнить меня сделкой: мои признания в обмен на твои. Но откуда мне знать, стоят ли того твои признания?.. Хм… мысль, конечно, соблазнительная. В тебе есть какая-то обаятельная загадочность, Майкл. Темноволосый незнакомец, суровый и молчаливый, этакий английский Гэри Купер. Знаешь что — а ведь, пожалуй, ты темная лошадка, Майкл Меррил. Как я раньше этого не замечала?
— Теперь заметила — и что же будешь делать дальше? — поинтересовался Майкл.
— Даже и придумать не могу, — насмешливо протянула Мона. — Но как интересно: по соседству со мной живет молчаливый, загадочный и, скажем без утайки, привлекательный мужчина, о котором я на самом деле ровно ничего не знаю. Может быть, попробовать с ним пофлиртовать?
— Твоя мать будет в восторге.
Мона расхохоталась.
— Майкл, ты действительно изменился! С тобой стало весело. Ладно, пойдем-ка вниз и посмотрим, что делают остальные. Должно быть, они сыграют только один роббер: генерал никогда не задерживается допоздна.
С этими словами она поднялась на ноги и начала поправлять платье. Майкл тоже встал, не сводя с нее глаз.
— Спасибо за интересную беседу, майор Меррил! — игриво бросила Мона.
А в следующий миг ахнула: Майкл шагнул к ней и сжал ее в объятиях.
— Майкл!.. — воскликнула она, но слова застыли у нее на устах, когда он накрыл ее губы своими.
Майкл целовал ее страстно, почти жестоко, прижимая к себе так, что она едва дышала. А через несколько мгновений так же резко отпустил.
Она стояла пораженная тем, что он сделал, прижав одну руку к груди, а другую к щеке.
— Майкл! — снова вскричала она.
— Разве не на это ты напрашивалась? — спросил он голосом жестким и непримиримым, как пощечина. — Кажется, ты хотела пофлиртовать со мной!
Мгновение она смотрела на него словно на сумасшедшего, а затем и щеки ее, и шея, и грудь в вырезе платья залились краской.
Судорожно вздохнув, она развернулась и почти бегом бросилась прочь из галереи.
Глава седьмая
В холл они вышли, не говоря ни слова. Мона шла впереди, гордо подняв голову; щеки ее пылали. Дойдя до подножия дубовой лестницы, она вдруг услышала, как во входную дверь постучали.
«Няня, должно быть, уже легла», — подумала она и, подойдя к двери, отодвинула тяжелый засов.
На пороге стоял молодой человек в форме ВВС.
— Доктор Хаулетт здесь? — спросил он.
— Да, — ответила Мона. — Вы хотите с ним поговорить?
— Он мне срочно нужен! — ответил незнакомец. — Мой сын ранен!
— Сейчас позову доктора, — ответила Мона. — Заходите.
— Вы, кажется, командир нашей летной эскадрильи? — услышала она голос Майкла у себя за спиной.
Через несколько секунд в холл выбежал доктор Хаулетт.
— Что случилось, Арчер? — спросил он. — Кто-то из ваших ребятишек заболел?
— Джерри порезался, — отвечал молодой летчик. — Он проснулся и попросил молока. Жена дала ему молока в стакане. Отвернулась всего на секунду, но он как-то умудрился разбить стакан и сильно порезался осколками. Нам не удается остановить кровь.
— Иду немедленно, — ответил доктор. — Слава богу, мой саквояж со мной в машине! В такое время, как сейчас, я никуда без него не выхожу.
И начал надевать пальто.
Повинуясь какому-то порыву, Мона открыла дверцу гардероба и достала оттуда старое твидовое пальто — одно из тех, что хранила там мать.
— Я с вами, — коротко сказала она в ответ на вопросительный взгляд доктора.
— Объясните Дороти, что случилось, хорошо? — попросил доктор Майкла.
Тот кивнул.
— Все объясню, а потом догоню вас, — ответил он. — Кто знает, быть может, и я вам пригожусь.
До сторожки они добежали за несколько минут.
«Должно быть, это муж той «писательницы», о которой говорила няня, — думала Мона на ходу. — Для командира эскадрильи он еще очень молод, а для отца нескольких детей тем более!»
Интересно, думала она, как все это семейство умещается в сторожке?
С детских своих лет, когда в сторожке еще жили садовник с женой, она запомнила темную тесную гостиную, загроможденную ветхой старинной мебелью, вечно с плотными шторами на окнах. В такой мрачной комнате, по ее мнению, должны были обитать ведьмы или гоблины.
Они поднялись на крыльцо. Не тратя времени на церемонии, доктор Хаулетт первым вошел в дом. Мона вбежала за ним.
Комната оказалась гораздо больше, чем ей помнилось. Сразу бросились в глаза стены, оклеенные нежно-золотистыми обоями, солнечно-оранжевые занавески, скромная, но аккуратная дубовая мебель.
Но в следующий миг все ее внимание обратилось на молодую женщину, сидящую у огня с плачущим ребенком на руках.
Женщина была прехорошенькой — личико сердечком, темные волосы с модной стрижкой «паж», миндалевидные глаза. Но сейчас лицо ее было искажено страхом.
Ребенок, на вид лет трех, вопил во весь голос. Кровь была повсюду: у него на ногах, на платье матери, на полу…
— Я пыталась наложить ему жгут, — срывающимся от волнения голосом сообщила миссис Арчер.
— Вы все сделали правильно, — ободрил ее доктор. — Не беспокойтесь, через несколько минут мы все исправим.
На левой руке мальчугана зияла огромная уродливая рана, казалось перерезавшая ручку почти пополам.
— Горячей воды, — коротко приказал доктор, — и тазик, если есть.
Летчик беспомощно застыл, в ужасе глядя на окровавленного сына. Мона и Майкл поспешили в тесную кухоньку.
Майкл нашел большую миску, а Мона включила электрический чайник. Вернувшись в гостиную с горячей водой, она услышала слабый голос миссис Арчер:
— Простите, но я… я, кажется, сейчас упаду в обморок!
Мона сама толком не поняла, как ребенок оказался у нее на руках. Дальше — тошнотворно-сладкий запах хлороформа… и вот маленькая, теплая и неожиданно твердая детская головка расслабленно прильнула к ее груди.
Врач начал зашивать рану. Мать ребенка, пепельно-бледная, лежала в кресле, а муж суетился вокруг нее со стаканом бренди.
— Мона, поверните его немного, — попросил доктор Хаулетт. — Так, хорошо. Теперь держите крепче. Отлично.
Он уже заканчивал операцию.
На крохотную ручку, изуродованную раной, Мона смотреть не могла; поэтому не отрывала глаз от кудрявой белокурой головки, от нежного детского личика, такого бледного на фоне ее блистательного наряда.
Лишь один раз она подняла глаза — и встретилась с пристальным взглядом Майкла. Мона поспешно отвела взгляд, с некоторым усилием напомнив себе, что на Майкла она сердита.
Здесь, рядом с ребенком, уютно устроившимся у нее на руках, ее обида почему-то казалась совсем неважной.
«Я ведь люблюдетей, — подумалось ей вдруг. — Когда-то мечтала, что у нас с Лайонелом ребятишек будет полный дом. Интересно, какие бы у меня получились дети? Должно быть, хорошенькие — и страшные шалуны, и непоседы!»
На миг она позволила себе помечтать о том, что держит на руках собственного ребенка… но от этих грез оторвал ее голос доктора Хаулетта:
— Отлично, Мона, большое вам спасибо. Теперь отнесите его в колыбель.
— Это наверху? — спросила она у летчика.
— Я вам покажу, — ответил он. — Нет-нет, Линн, сиди, — обратился он к жене, — тебе не стоит вставать.
Следом за молодым отцом Мона поднялась по узкой скрипучей лестнице. Он открыл дверь в спальню. Здесь было темно и слышалось ровное сонное дыхание.
Летчик зажег свет; Мона увидела две детские кроватки и колыбель, стоящие в ряд. Она осторожно положила малыша в пустую колыбельку и накрыла одеялом.
— Слава богу, остальные так и не проснулись, — полушепотом проговорил летчик.
Мона взглянула на другие кровати. На одной спала девочка лет пяти, на другой мальчик, должно быть, годом постарше. Они крепко спали, и лица их, полные мира и покоя, напоминали ангелов.
В спальню поднялся доктор.
— Теперь с ним все будет хорошо, — сказал он. — Еще некоторое время он поспит. Я оставлю вашей жене снотворное; когда он проснется, пусть даст ему, чтобы заснул снова. Думаю, всем вам нужно хорошенько отдохнуть.
— Да уж, перепугались мы не на шутку! — с улыбкой облегчения ответил летчик. — Доктор, как насчет стаканчика виски?
— Именно это лекарство я и собирался вам прописать, — ответил доктор Хаулетт. — И с удовольствием к вам присоединюсь.
Все они снова спустились вниз. Миссис Арчер уже встала и теперь сидела на ковре перед камином.
— Мне ужасно стыдно за свое малодушие, — проговорила она. — Доктор Хаулетт, простите ли вы меня?
— Не за что извиняться, дорогая моя, — ответил он. — Вы очень хорошо держались. По крайней мере, нас дождались.
Взглянув на Мону, миссис Арчер воскликнула:
— Боже мой! Ваше платье — какой ужас! Извините нас!
Взглянув на себя, Мона обнаружила на тонком шифоне длинный потек крови.
— Ничего страшного, — ответила она. — Вряд ли в Литтл-Коббле мне представится случай снова его надеть.
— И все же мне ужасно жаль! — настаивала миссис Арчер. — Билл, что же нам делать?
Билл Арчер был смущен и расстроен не меньше жены.
— Право, не знаю, — ответил он. — Разве что начнем платить миссис Вейл двойную цену за жилье?
— Ах да, конечно, вы же дочь миссис Вейл! — воскликнула миссис Арчер. — Я сразу и не поняла. Мы слышали, что вы возвращаетесь домой. На самом деле все здесь только об этом и говорят.
— Приятно слышать, — ответила Мона.
— Я тоже так вас ждала! — продолжала миссис Арчер. — И вот, пожалуйста, с первого же знакомства мы с Джерри все испортили!
— Джерри ничего не способен испортить, — с улыбкой ответила Мона. — Никогда не видела такого очаровательного мальчугана — даже когда кричит во весь голос, в нем чувствуется какое-то особое обаяние. Если он вам надоест, дайте мне знать — я его усыновлю.
— Боюсь, на это вам надеяться не стоит, — с улыбкой ответила миссис Арчер. — Мы с Биллом его обожаем, хотя порой, признаюсь, мне приходит на ум, что детей у нас многовато. Особенно когда я пытаюсь писать.
— Неужели вы здесь пишете? — удивилась Мона. — Но как? В такой тесноте, и дети, наверное, шумят?
— Да, мне приходится нелегко, — призналась миссис Арчер. — Если на улице хорошая погода, то просто выставляю всех в сад и прошу погулять подольше.
— На самом деле вы затронули больную тему, — вставил Билл. — Линн пишет новую книгу, и работа у нее не ладится. Если к ней не придет вдохновение, мы не сможем больше платить за жилье и переселимся в сад навсегда.
— Непременно попробую вас вдохновить, — шутливо предложила Мона. — Только не сегодня: вы, должно быть, не можете дождаться, когда же мы уйдем. Зайду завтра и познакомлюсь по всем правилам.
Она поднялась и протянула руку. Доктор Хаулетт взглянул на часы.
— Пожалуй, посижу еще четверть часика. Если Дороти уже наскучила вашей матери, скажите ей, пусть идет к машине и подождет меня.
— Что вы такое говорите, как Дороти может наскучить! — возразила Мона. — И потом, время еще совсем раннее.
— Если она готова идти, — предложил Майкл, — я довезу ее сюда на машине. А если нет, подождем вас.
— Хорошо, — согласился доктор Хаулетт.
Мона и Майкл попрощались с Арчерами и вышли. Мона села рядом с Майклом; он завел автомобиль и медленно покатил к дому. Некоторое время оба молчали; Майкл заговорил первым.
— Я хотел бы принести извинения, — начал он.
Ей показалось, что в голосе его прячется усмешка.
— За что? — поинтересовалась она.
Вдруг ее охватила страшная усталость — и печаль.
Зрелище семейной жизни Арчеров, мирной и уютной, с тремя детьми в тесной спаленке, вызвало в ней новую скорбь — скорбь о собственных утраченных надеждах, о мечтах, которым не суждено было сбыться.
— За то, что вышел из себя, — объяснил Майкл.
С некоторым усилием Мона вспомнила, о чем они только что говорили.