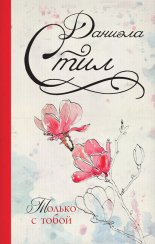Пламя любви Картленд Барбара
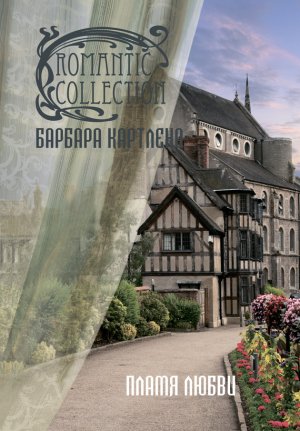
— Любопытный у тебя способ выходить из себя, — заметила она.
— Мне нет оправданий — разве только то, что это ты меня довела. Я считал, что еще много лет назад научился оставаться глухим к твоим колкостям, но, как видно, ошибся. И все же я не имел права делать то, что сделал, хоть ты это и заслужила, — прибавил он с усмешкой.
Мона неожиданно рассмеялась.
— Ты меня поражаешь! — призналась она. — Я совершенно сбита с толку. Все, что я о тебе думала, оказалось ошибкой. Конечно, я на тебя сержусь… гм… ну, по крайней мере, мне надо бы на тебя сердиться, — и в то же время ты прав: я это заслужила.
— Почему бы нам с тобой просто не стать друзьями? — спросил Майкл.
— Я бы с удовольствием, — ответила Мона. — На самом деле я очень этого хочу. Но знаешь, Майкл, во мне словно какой-то бесенок сидит. Не знаю, как объяснить… я так несчастна, я в отчаянии — и тут появляешься ты, такой спокойный, сильный, невозмутимый… Я восхищаюсь твоей силой и спокойствием — и страшно завидую. Потому и пытаюсь вывести тебя из равновесия.
Прежде чем ответить, Майкл остановил машину и заглушил мотор. Однако открывать дверь не стал — вместо этого повернулся к Моне, вгляделся в ее лицо, освещенное тусклым светом приборной доски.
— Что с тобой такое случилось? — спросил он.
— Лучше спроси, чего со мной не случалось, — проглотив комок в горле, сдавленным голосом ответила она. — Майкл, я не могу об этом говорить — ни с тобой, ни с кем другим. Просто поверь: мой мир рухнул. Рухнула жизнь, рухнула вера… и, кажется, мужество тоже меня оставило.
— Ну нет! Ты никогда не лишишься мужества, — успокаивающе проговорил Майкл. Он наклонился к ней и взял обе ее руки в свои. — Послушай, — сказал он. — Когда кажется, что жизнь кончена, на самом деле это всего лишь конец главы. Завтра начнется новая глава.
— А если я не хочу?
— Все равно начнется.
Мона всхлипнула.
— Ох, Майкл, как бы я хотела умереть!
— Это было бы слишком просто.
— Просто? — повторила она, удивленная этим словом.
— Да, — ответил Майкл. — Все мы приходим в этот мир ради какой-то цели. Если при первой же неудаче, при первом же серьезном препятствии на пути к цели мы будем опускать руки и с плачем убегать с поля боя, не будет ли это малодушием, даже предательством самих себя?
— Иногда испытания превышают наши силы.
— Никогда! — твердо ответил Майкл. — Поверь, все, что встречается на нашем пути, мы в силах вынести и преодолеть.
Моне вдруг представилось, как он ползет к пулемету, волоча за собой искалеченную ногу, — терзаемый болью, но полный неотступной решимости, движется к своей цели.
Инстинктивно, не думая об этом, она сжала его пальцы — а миг спустя со вздохом разжала руку.
— Что-то я расклеилась, — сказала она, стараясь, чтобы эти слова прозвучали легко и шутливо.
Майкл ничего не сказал, не изменился в лице, однако она почувствовала: он разочарован тем, что разговор внезапно оборвался.
— Когда-нибудь, Мона, — проговорил он, — ты узнаешь много нового о самой себе.
— Быть может, я и о тебе узнаю что-то новое, Майкл?
— Меня узнать несложно. Конечно, если тебе это интересно.
— Откровенно говоря, сейчас мне не интересно ничего. И такое чувство, что уже никогда ничто меня не заинтересует.
— Поживем — увидим, — ответил Майкл. — Не спеши выносить приговоры ни себе, ни другим. Я теперь занимаюсь сельским хозяйством, а оно учит терпению. Быть может, и ты здесь этому научишься, Мона, — не полагаться на то, что вспахали другие, а самой бросать семена в землю и ждать, когда они взойдут.
— О чем ты? — с внезапным интересом спросила она.
Но Майкл не ответил: вместо этого он неловко, с трудом опираясь на больную ногу, выбрался из машины и, хромая, пошел открывать ей дверь.
Она вышла в ночную прохладу, взяла его за руку.
— Майкл, мне нужен друг.
— Я всегда был твоим другом. Так я прощен?
— За что? Я уже все забыла!
Это была ложь. Вечером, раздеваясь, Мона поймала себя на том, что думает о Майкле: о его сокрушительном, почти жестоком объятии, о губах, до боли впившихся в ее губы.
Что почувствовала она при этом?.. Разумеется, унижение. Поступок Майкла лишь подкрепил ее неуверенность в себе и беспокойство о том, что думают о ней люди.
— Все оттого, что совесть нечиста, — объяснила она своему отражению в зеркале. — Я была тем, что в свете называют «женщиной легкого поведения», — вот и жду, что именно так со мной и будут обращаться.
Однако она радовалась, что примирилась с Майклом. Он надежен, как скала, на него можно положиться. Как нужны ей сейчас такие люди — и как жаль, что так мало их рядом!
Теперь она готова была проклинать прежнюю свою жизнь, когда, всецело сосредоточившись на одном-единственном человеке, отрезала себя от всех остальных. Лайонела больше нет — и что у нее осталось? Ничего.
Кроме памяти о тех годах, что они провели вместе. И все же Мона знала: вернись время назад, предложи ей кто-нибудь прожить эти годы заново — не колеблясь, она выбрала бы прожить их точно так же.
Ей вспомнилось, как Лайонел вошел в гостиную ее лондонской квартиры — с экстравагантной обстановкой, которую они подбирали вместе с Недом и которую теперь, после его гибели, приходилось распродавать за долги.
Когда он явился, Мона разбирала нефритовые украшения. Поначалу она не поверила своим глазам — застыла, судорожно сжав в руке холодные зеленые камни, глядя на него широко открытыми изумленными глазами.
— Мона! Я пришел к тебе, потому что… потому что не мог не прийти.
С усилием выдавив эти слова, он умолк. Мона заметила, что он сильно постарел за тот год, что они не виделись.
— Лайонел! Не могу поверить, что ты здесь! — Затем, приложив все усилия, чтобы скрыть свои чувства, она заговорила спокойно и непринужденно: — Однако очень рада тебя видеть. Ну что же, садись и расскажи мне все последние парижские сплетни. Я ведь уже давно не была в Париже!
Не обращая внимания на ее лихорадочную болтовню, медленными шагами он пересек гостиную и подошел к ней вплотную, едва не касаясь ее.
Только тут Мона осознала, что дрожит и не может поднять на него глаз — лишь судорожно сжимает в руке нефритовые четки, словно надеется, что холодные гладкие камни усмирят бурю в ее сердце.
— Мона! — проговорил Лайонел; в голосе его она узнала знакомые ноты.
— Не надо, Лайонел! — прошептала она. — Я этого не выдержу. Уходи! Как ты можешь так поступать со мной — после всего? Неужели не понимаешь?..
— Без тебя я не могу жить, — выговорил он хрипло и отчаянно, словно срываясь в пропасть.
На какой-то безумный миг она вообразила, что он свободен и пришел исполнить ее мечту — просить ее руки. Но затем — без слов, без жестов, без единого намека с его стороны — все поняла. Лайонел все еще хочет ее, но — на своих условиях.
Она колебалась… кажется, что-то нежное и прекрасное, приподнявшее было голову, умерло в ней в этот миг. Но мир молчал и ждал ее ответа.
Она неуверенно подняла глаза.
— Не понимаю… — начала она, но закончить ей не пришлось.
Лайонел уже сжимал ее в объятиях, губы его прильнули к ее губам; влюбленные прижались друг к другу с отчаянием моряков на плоту среди бушующего моря.
— Мона! Мона! — снова и снова повторял он ее имя.
Она молчала — близость его губ и рук лишила ее дара речи. Слов не осталось — все в ней было захвачено неописуемым восторгом, в котором наслаждение неразрывно сплетено с болью, — чувством, для которого не существует слов.
— Вернись ко мне! Вернись!
Мона знала: у нее нет выбора. Куда бы он ни пошел, она отправится за ним, потому что принадлежит ему, потому что без него ее жизнь безрадостна и пуста.
Смутно, словно во сне, она помнила, как готовилась к отъезду.
Приходили и уходили люди. Говорили, какая это щедрость с ее стороны — ведь ей не жаль расстаться со всеми этими прекрасными вещами, сопровождавшими ее в короткой семейной жизни. И еще говорили, с каким поразительным мужеством переживает она трагическую гибель бедняги Неда!
Они не понимали, что сейчас она совсем не думает о Неде — бедняге Неде, разбившемся на машине в безумных гонках от Лондона до Джон-о’Гротса, все участники которых должны были сидеть за рулем в гетрах и серых цилиндрах.
Очередная безумная затея Неда, очередное заманчивое приключение, о котором непременно напишут в газетах… Газеты-то, конечно, написали — вот только Нед их уже не прочел.
Но не все ли равно, что скажут и что сделают люди, думала Мона.
Так ли важно, что мать Неда терпеть ее не может и демонстрирует это при каждом удобном случае? Что громадное состояние его испарилось без следа, оставив по себе одни долги?
Что друзья Неда — такие верные, готовые за него в огонь и в воду, — пожали плечами и отправились на поиски новых приятелей-спонсоров?
Какое все это имеет значение, если через десять дней она уезжает в Париж?
Так Мона снова оказалась в Париже — в городе своей мечты, в чудном городе, казавшемся ей обворожительнее самого прекрасного сна.
Квартирка на Елисейских Полях — под самой крышей, с видом на соседние крыши и трубы; наряды и украшения, что покупал ей Лайонел, — все слилось для нее в каком-то калейдоскопе цветов, музыки, страсти, всепоглощающего счастья любить и быть любимой.
Теперь, оглядываясь назад, легко было забыть о долгих часах одиночества, о днях, тянувшихся как столетия, о ночах мучительной тоски по Лайонелу, когда он не мог быть с ней.
Ей нечем было занять себя — лишь сидеть и смотреть в окно. Ни друзей, ни знакомых у нее здесь не было, и заводить знакомства она опасалась, боясь выдать Лайонела, — только сидела и тосковала и сама себе казалась воплощением неутоленного желания.
Но вот являлся Лайонел — и забывалось все, кроме того, что они снова вместе.
Очень редко они куда-то выходили, Лайонел боялся, что их увидят вместе. Чаще всего они оставались в ее крошечной квартирке, не желая в мире ничего, кроме друг друга, сжигаемые неутолимым пламенем любви.
Слышался звук ключа, поворачиваемого в замке, — и у Моны замирало сердце.
Она спешила из комнаты в крохотную прихожую. Не нужно было слов, объяснений, — они просто бросались друг другу в объятия, и губы их жадно искали друг друга.
Да, в Париже она была счастлива, как нигде и никогда больше! Но Париж не длился вечно. Лайонелу предложили перевод в Египет.
Соглашаться было не обязательно — но он согласился, и из-за этого его решения они с Моной в первый раз поссорились.
Тогда она сбежала, бросив и Париж, и квартиру, и все его подарки. Ничего не объясняя, не предупреждая о своем приезде, примчалась в Аббатство.
— Вот и я! — объявила она с порога, словно готовясь защищаться от упреков.
— Милая, ты потеряла работу? — спросила миссис Вейл.
Мона вспомнила: она говорила матери, что получила в Париже работу, якобы закупает там одежду для какого-то английского магазина.
— Я потеряла все, — коротко ответила она.
И это было правдой.
Прошло три дня — и Лайонел устремился на поиски. Он звонил, он писал. Он примчался в Лондон и требовал, чтобы она с ним встретилась. Слабость то была или неизбежность — но она согласилась.
«Только чтобы попрощаться», — говорила она себе, прекрасно понимая, что сама себя обманывает.
Ее провели в номер, снятый Лайонелом в «Клэридже». Гостиная была пуста; мгновение спустя он вышел из спальни.
Лицо его было хмуро и решительно; но стоило им увидеть друг друга… забыто было все, кроме неудержимой радости оттого, что они снова вместе.
Снова она таяла в его объятиях, гладила по голове, прижималась щекой к его щеке…
— Любимая моя, как ты могла? — спрашивал он.
И она отвечала, плача и смеясь:
— Должно быть, я сошла с ума! Милый, милый, как я могла подумать, что смогу жить без тебя?
И они поехали в Египет. Все решилось так, как хотел Лайонел. Он всегда добивался своего. Страдала она, но, если бы решилась с ним расстаться, страдала бы куда сильнее. Ей вспомнились слова, сказанные однажды няней: «Так устроен мир: одни дают, другие берут, — и тех, кто берет, на свете гораздо больше».
Лайонел, несомненно, принадлежал к «тем, кто берет». Он властно требовал от жизни всего, что она могла дать. Требовал, чтобы его желания всегда удовлетворялись, — и все, чего желал, хотел получать только на своих условиях.
«И всегда побеждал», — устало подумала Мона.
А расплачивались по его счетам всегда другие. Не деньгами, как она после смерти бедного Неда, — страданием, одиночеством, несчастьем, угрызениями совести и мукой загубленной жизни.
Глава восьмая
В гостиной у Хаулеттов Мона ожидала Дороти.
Доктор с семьей обитал в уродливом кирпичном доме с высокими квадратными комнатами, в которых любая мебель смотрелась как-то нелепо; однако Дороти Хаулетт делала все, что могла, чтобы оживить свое неказистое жилище и придать ему уют.
Не ее вина в том, что годы и нелегкая жизнь стерли глянец с мебели, что желтые занавески выцвели, а паркет потемнел. Гостиная выглядела скромно, даже бедно, и все же в ней чувствовалась атмосфера дома.
Там и сям были расставлены фотографии, на подоконнике стояла корзинка с выпечкой, из-под дивана выглядывала игрушечная машинка, а возле камина мирно прикорнул серый персидский котенок.
Здесь не было ни роскоши, ни претензий. Ковры дешевые, но подобранные со вкусом; массивные, неуклюжие на вид, но прочные и удобные кресла, и горка поленьев перед камином.
Дверь отворилась, и вошла Дороти Хаулетт.
— Извини, Мона, что заставила тебя ждать, — проговорила она извиняющимся тоном. — Все из-за этого ходячего кошмара в юбке!
Не было нужды уточнять, о ком она, — в Литтл-Коббле имелся лишь один «кошмар в юбке», и все его знали.
— Что она устроила на этот раз? — сочувственно спросила Мона. — Только ради бога, Дот, не смотри так озабоченно, от этого ты выглядишь лет на десять старше.
Дороти Хаулетт сняла шляпу и обеими руками пригладила седеющие волосы.
— О своих годах я давно уже не думаю, — ответила она. — Но несколько лет жизни она у меня точно отняла! — Взяв полено, она сунула его в камин, и пламя весело затрещало. — А теперь, — проговорила Дороти, усаживаясь, — мои ребята придут из школы не раньше четырех, так что у нас есть почти три часа, чтобы поболтать.
— Слава богу! — воскликнула Мона. — По-моему, легче получить аудиенцию у короля, чем застать тебя одну.
— Знаю, — поморщившись, ответила Дороти, — но что же тут поделаешь? Мало мне своих четверых ребятишек — приходится заботиться еще о троих эвакуированных. А помогает мне всего одна девушка пятнадцати лет от роду — очень старается, но, откровенно говоря, ей самой еще нянька нужна. И этого мало — еще мое Общество!.. Мона, но что же мне делать с Мейвис Гантер?
— А что она натворила? — спросила Мона.
— То, что она творит, в газетах называется «саботаж», — ответила Дороти. — Я просто вне себя: она увела у меня двух лучших участниц! На них я всегда могла положиться — не только отлично вяжут, но и варенье варят, и вообще делают все, что попросишь!
— Увела? Как?
— Чистым шантажом. Право, было бы смешно, не будь это все так противно. Одна — миссис Уотсон: помнишь, полная такая, живет на Вязовой аллее?
— Помню.
— У нее есть дочка, слабого здоровья, но большая умница. Мать ее обожает и очень хочет, чтобы девочка получила приз в воскресной школе. Так вот, миссис Уотсон передали — разумеется, через третьи руки и в самых обтекаемых выражениях, — что, если она не бросит ОПФ и не перейдет в Вязальный клуб, на приз ее Вера может не рассчитывать.
— Невероятно! — воскликнула Мона. — Она что, с ума сошла?
— Ничуточки. Просто у Мейвис Гантер такой ум.
— А вторая женщина?
— Это миссис Янг, ты, скорее всего, ее не знаешь. Сама она прекрасный человек во всех отношениях, но муж у нее пьяница и бездельник, постоянно сидит без работы. Уже некоторое время они получают помощь от прихода, иначе ее детям просто пришлось бы голодать. Ей передали: если не сделает того, чего Мейвис Гантер от нее хочет, церковной помощи больше не увидит.
— Господи, Средневековье какое-то! — воскликнула Мона. — С этим надо что-то делать!
— Да, но что? — вздохнула Дороти. — Деревенские жители рассуждают здраво. Понимают: что бы там ни было, а Артур все равно будет их лечить на совесть, я им тоже мстить не стану, — вот и, памятуя, с какой стороны у бутерброда масло, или как там по пословице, подчиняются ей.
— И кто стал бы их за это винить?
— Я их винить точно не стану, — ответила Дороти, — но знаешь, Мона, эту женщину я уже просто убить готова!
— Мне особенно жаль ее мужа.
— Стенли Гантера? Да у меня сердце кровью обливается, как подумаю о нем. Только представь себе, изо дня в день засыпать и просыпаться рядом с этой тварью!
— С ним она все такая же мерзкая? — спросила Мона. — Я помню, как она его тиранила в былые годы.
— Ты не поверишь — еще хуже стала! — ответила Дороти. — Чего только ему не говорит, и все на людях, никого не стесняясь! Как змея, подползет, когда он меньше всего этого ожидает, и прямо плюется ядом! Почти не скрывает удовольствия, когда ей удается выставить его дураком в глазах у всей деревни или как-нибудь унизить перед его друзьями!
— Убийство — для таких слишком мягкое наказание, — проговорила Мона. — Знаешь, Дороти, теперь я понимаю, что люди везде одинаковы. Такие, как Мейвис Гантер, встречались мне в самых разных слоях общества, — и везде одно и то же: жестокость, страсть к мучительству и стремление к власти любой ценой.
— Да, власть — вот чего она хочет, — задумчиво ответила Дороти. — Потому она меня и ненавидит. Хотя я ведь не напрашивалась — это леди Бьюмонт, жена главного мирового судьи, предложила мне организовать в нашей деревне отделение ОПФ. Надо было отказаться, но я подумала: это ведь наш долг. Мы так мало можем сделать, чтобы помочь фронту!
— Мало? — воскликнула Мона. — Бог с тобой! Не сомневаюсь, ты делаешь больше многих и многих — и уж точно больше всех здесь, в Литтл-Коббле.
— И все же это гораздо меньше, чем нужно, — ответила Дороти. — Но если бы ты знала, какие войны у нас тут ведутся! Представляешь, что сказала Мейвис Гантер на последнем собрании Вязального клуба? Твоя мать мне передала. Кто-то из женщин предложил связать что-нибудь для летчиков — и знаешь, что она ответила? «Это еще к чему? Ведь никто из нашей деревни не служит в ВВС!»
— Вполне в духе Мейвис Гантер, — заметила Мона.
— Однако расскажи о себе. Я хочу забыть о Литтл-Коббле, обо всех наших заботах и мелочных дрязгах. Расскажи, чем ты занималась все эти годы! Я привыкла думать, что ты веселишься и наслаждаешься жизнью в самых живописных и увлекательных уголках мира!
— Понимаю, так казалось тем, кто сидел дома, — вздохнула Мона. — Но на самом деле, поверь, ничего особо увлекательного в моей жизни не было. Развлечения быстро надоедают, а все живописные места либо замусорены апельсиновой кожурой, либо пахнут туземцами, жующими чеснок.
— Что за ерунда! — с чувством воскликнула Дороти. — Не вздумай меня разочаровывать! Ты не представляешь, как часто под дождем, шлепая по грязи в своем старом макинтоше, я утешала себя мыслями: а вот Мона, должно быть, сейчас нежится на золотом песке или окунается в изумрудное море! Или: должно быть, Мона сейчас, в легком шифоновом платье и широкополой шляпе, сидит, наблюдая за игрой в поло, а вокруг толпятся статные красавцы, и каждый наперебой спешит поднести ей бокал прохладительного…
— Ты меня вообразила какой-то героиней мюзикла! — рассмеялась Мона.
— Неужели ты еще не поняла, что ты значишь для всех нас? «Мюзикл» — не то слово; скорее, мы смотрим на тебя как на кинозвезду. Одно наше знакомство с тобой привносит в нашу серую, унылую жизнь чуточку отраженного света.
— Ну и ну! — воскликнула Мона. — Но ведь богатые тоже плачут, и у женщин в шифоновых платьях порой разбиваются сердца!
Она хотела, чтобы ответ прозвучал шутливо, но на последних словах голос ее дрогнул. Дороти накрыла ее руку своей.
— Прости, дорогая. Понимаю: все это слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Мона сморгнула выступившие на глазах слезы.
— Дот, я не хочу об этом говорить. Точнее, не могу. Не всегда мне было весело — порой я жила как в аду. Но сейчас со всем этим покончено. Я дома.
Дороти сжала ее руку.
— И слава богу! — проговорила она. — Быть может, это прозвучит эгоистично, но я надеюсь, что ты останешься здесь надолго.
— Скорее всего, навсегда, — ответила Мона.
В голосе ее прозвучало уныние, но Дороти предпочла этого не заметить.
— Заварю-ка я чаю — это лучшее лекарство от любых печалей и забот, — предложила она. — Выпьешь чашечку?
— Нет, спасибо, — ответила Мона. — Я обещала маме, что к чаю вернусь домой.
Послышался стук входной двери, и секунду спустя в гостиную просунул голову Артур Хаулетт.
— У нас гости? — воскликнул он. — О, да это вы, Мона! Ну, девочки, чем заняты? Сплетничаете?
— Разумеется, — ответила Мона.
— Отлично, отлично, — проговорил он, входя в комнату. — С тех пор как вы уехали, Дороти было совсем не с кем облегчить душу. Ведь кому-то что-то рассказывать в Литтл-Коббле — все равно что с крыши кричать! Ладно, долго я не задержусь, у меня больной в Уиллингтоне. Зашел только захватить кое-какие препараты.
— А не боитесь, что скоро у вас появится больной в собственном доме? — сурово поинтересовалась Мона.
— Кто бы это? — спросил Артур Хаулетт. — Кто-то из ребят?
— Нет, не из ребят! — отрезала Мона. — Посмотрите на Дороти! Она вконец измотала себя заботой о детях, об эвакуированных, об ОПФ и бог знает о чем еще!
— Знаю, — ответил Артур Хаулетт. — Ей по справедливости за все это полагается медаль.
— Медаль?! — воскликнула Мона. — Не медаль ей нужна — ей нужен букет роз!
Доктор уставился на Мону так, словно она вдруг лишилась рассудка.
— Да, букет роз! — настаивала Мона. — Артур, позвольте спросить: давно ли вы дарили своей жене цветы? Когда вы с Дороти последний раз были в кино? Когда вообще куда-нибудь ходили с ней вместе? Ужинали вдвоем? Когда говорили, что любите ее?
— Ох, Мона! — прервала ее Дороти. — Ну что ты такое говоришь! Артур еще, пожалуй, решит, что я тебе на него жаловалась!
— Разумеется, не жаловалась, — ответила Мона. — Жаловаться ты не станешь, даже если он начнет в тебя гвозди вбивать. Уж извини, Дороти, но ты слишком многое прощаешь своему мужу! Понимаю, работа врача многого требует от человека — и все же это не причина приходить в собственный дом, как в гостиницу, интересуясь только тем, заправлена ли постель и готов ли обед!
— Мона, должен сказать, вы ко мне чересчур суровы, — проговорил Артур Хаулетт. — Положим, в ваших словах есть доля истины… даже немалая доля… но поймите и вы меня: с начала войны у меня нет ни секунды покоя! Два врача из соседних деревень ушли на фронт, и мне пришлось взять их практику…
— Да хоть бы девяносто врачей ушли на фронт! — отрезала Мона. — Дороти должна быть для вас на первом месте. Буду откровенна: когда я увидела Дороти на прошлой неделе, она меня просто поразила. Конечно, она старше меня, но ведь совсем ненамного, — а выглядит столетней старухой!
Теперь возмутилась и Дороти:
— Ну и ну! Что ж, продолжай, не щади мои чувства!
— И не буду, — твердо ответила Мона. — Я тебя не щажу, но для твоего же блага. Завтра или послезавтра мы с тобой едем в Бедфорд и делаем тебе перманент. А еще — на все карточки Артура покупаем тебе какую-нибудь приличную одежду. Если кому-то из вас придется зимой ходить босиком — пусть он ходит!
— Почти на все карточки я уже накупила разных вещей для детей, — извиняющимся тоном пояснила Дороти.
— Дети для тебя такой же кумир, как для Артура его пациенты, — упрекнула ее Мона. — И то и другое прекрасно, но всему свое место. Неужели вы не замечаете, что оба давно уже не живете по-настоящему? Чего вы хотите от жизни — тонуть в бедфордширской грязи все глубже и глубже, пока вас окончательно не засосет? Только на одно и остается надеяться: быть может, в деревне объявится какой-нибудь симпатичный мужчина, начнет ухаживать за Дороти — и хоть это, Артур, заставит вас проснуться!
— Мона, по-моему, вы переходите все границы! — заявил доктор Хаулетт.
Однако глаза его заблестели, и улыбка тронула уголки губ. Он переминался с ноги на ногу, запустив пальцы в волосы, — ни дать ни взять мальчишка, пойманный за воровством яблок в чужом саду.
— Дороти, что скажешь? — обратился он к жене. — В нашу жизнь ворвался ураган и грозит перевернуть тут все вверх дном. По-моему, к нему стоит прислушаться. Как насчет того, чтобы вечером, когда вернусь из Уиллингтона, сходить со мной в кино?
— Вечером? — воскликнула Дороти. — Ох, нет, я, наверное, не смогу…
— Еще как сможешь! — рявкнула на нее Мона. — Не смей отказываться! Пойдешь в кино и будешь развлекаться. А с твоей сопливой малышней я посижу, если нужно.
— Что еще за «сопливая малышня»? — возмутилась Дороти. — Дети у меня уже большие и прекрасно воспитаны!
— Если так, ты с чистой совестью можешь оставить их дома одних, — возразила Мона. — Вот что я сделаю, чтобы ты не смогла увильнуть: сейчас же позвоню Майклу и попрошу заказать нам в «Лебеде» ужин на четверых.
— Ни за что! — запротестовала Дороти. — Что он подумает?
— Пусть думает что хочет, — ответила Мона. — В конце концов, зачем ему деньги, как не на то, чтобы их тратить? Не я подскажу, на что их пустить, так подскажет кто-нибудь другой.
И она вышла в соседнюю комнату к телефону, краем глаза успев с удовлетворением заметить, как Артур Хаулетт, неловко хмыкнув, потянулся поцеловать удивленную жену.
«Им просто нужно встряхнуться, — сказала она себе. — Оба они очень милые люди, но погрязли в рутине».
Позвонив Майклу, она узнала, что он уехал на ферму. Получила телефон фермы, позвонила туда — и почти десять минут ждала, когда он подойдет к телефону.
Она объяснила, чего от него хочет, — и услышала на том конце провода его смех.
— Так и знал, что в роли тихой скромницы ты долго не выдержишь! — проговорил он. — Мона Карсдейл не будет Моной, если не начнет лезть в дела всех встречных-поперечных!
— Не груби, Майкл, — ответила Мона. — Так заедешь за мной сегодня вечером?
— Обязательно.
Мона бегом вернулась в гостиную. Дороти сидела здесь одна, раскрасневшаяся, смущенная и очень довольная.
— Не понимаю, что нашло на Артура! — проговорила она. — Давненько я его таким не видела!
— Твой Артур — милейший человек, — ответила Мона, — но слеп как крот. Запомни: намеков он не понимает. Ему нужно все говорить прямым текстом. Привлекай к себе внимание — только тогда он будет помнить, что ты не робот.
— Ну, в этом ты не совсем права, — отвечала любящая жена. — Но скажу тебе откровенно: порой мне приходит мысль, что все хорошее осталось позади, а впереди — лишь серые, унылые будни.
«Мне тоже», — с внезапной горечью подумала Мона.
Однако тут же она приказала себе забыть о собственных горестях и заняться жизнью подруги.
— У тебя есть приличное выходное платье?
— Ни одного! — смущенно улыбаясь, ответила Дороти.
— Значит, подберу тебе какое-нибудь из своих.
Дороти рассмеялась:
— Дорогая, очень мило с твоей стороны, но я так раздалась в бедрах, что ни одно твое платье на меня не налезет!
— Еще как налезет! — возразила Мона. — У меня есть несколько платьев с пышными юбками, они тебе отлично подойдут. И, Дороти, перестань хмуриться! Ты сегодня должна быть во всеоружии — ведь тебе предстоит соблазнить собственного мужа!
— Боже мой, что ты такое говоришь! Ты меня в краску вгоняешь! Зачем тебе все это?
— Чтобы ты снова стала молодой. Видишь ли, я эгоистка: мне совсем не хочется думать о собственном возрасте — а это неизбежно, когда рядом женщина, которая всего на несколько лет меня старше, а выглядит как старуха.
— Неужели я так плохо выгляжу? — простонала Дороти.
— Именно так, и даже еще хуже, — безжалостно отрезала Мона. — Но мы это исправим! Я пришлю тебе из дома лосьон для лица, румяна и помаду. Ты еще не забыла, что со всем этим делать?