Останкинские истории (сборник) Орлов Владимир
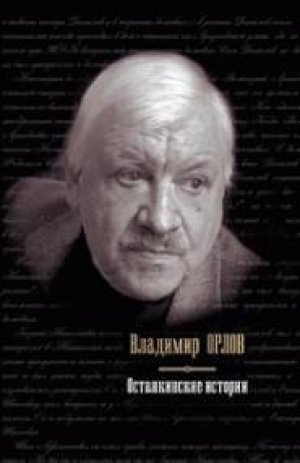
Земский, видимо, и впрямь не верил в возможность гармонии мироздания, его сочинение опять, судя по нервным движениям смычка, отражало трагические столкновения стихий и судеб. Данилов следил за игрой Земского в напряжении, силился услышать что-то. Ему вдруг стало казаться, что он действительно слышит какую-то музыку или хотя бы ночной вой ветра или шуршание газетных обрывков, влекомых ветром по замерзшим лужам, а когда Николай Борисович дошел до третьей части, Данилов закрыл глаза и ясно представил себе, как прямо перед входом в парк ЦДСА грузовик с молочной цистерной врезается в бок тринадцатого троллейбуса и стекла бьются.
— Что-то услышал, — сказал Данилов Земскому, убравшему скрипку в футляр. — Нет, точно, что-то во мне прозвучало.
— Не обязательно должно звучать, — сказал Земский. — Должно возникнуть…
— Нет, точно, — как бы уверяя самого себя, сказал Данилов, — было, было что-то!
Ему сейчас уже казалось, что он и впрямь слышал не только вой ветра, шуршание бумаги, звон стекла, скрип тормозов, но и еще что-то особенное, музыкальное, тронувшее его душу. И теперь он явно ощущал сочувствие к водителю разбитого троллейбуса. Но сказать об этом Николаю Борисовичу Данилов не решался, тот, возможно, полагал вызвать своим сочинением совсем иные эффекты.
— Перешагнуть предрассудки доступно немногим, — сказал Николай Борисович. — Но потом люди привыкнут к музыке Земского. Хорошо хоть, и ты сразу не ринулся в бой со мной. Это и мне приятно. И тебе делает честь.
— С инструментальной музыкой ладно, — сказал Данилов, — а с балетами как?
— Сам понимаешь, и балет — дань прошлому. А принцип — тот же. Необходимо сообщить зрителям идею. И исполнителям, если в них обнаружится нужда. Для менее способных к творчеству придется разработать и либретто, но короткое, как в программке. Потом, думаю, нужда в исполнителях отпадет. Каждый будет смотреть и слушать балет внутри самого себя. Кто по привычке, собираясь в театрах, кто у себя дома, вот в этом кресле, закрыв глаза…
— Значит, и Чайковский, — сказал Данилов, — мог сообщить нам идею «Лебединого озера» или «Спящей» и дать возможность для трактовок своих вещей? Трактовок куда более глубоких и личностных, нежели мы имеем теперь.
Николай Борисович то ли иронию расслышал в словах Данилова, то ли противопоставление ему Петра Ильича показалось Земскому намеренным, но только он обиделся.
— А вот не мог Чайковский, не мог! — произнес он с горячностью. Потом утих и добавил вяло, словно потеряв интерес к предмету затеянной им беседы: — Ты, брат Данилов, весь в оковах старой музыки. И разбивать их пока не намерен. Нравятся они тебе. Это печально, но и понятно. Ты молод, стал хорошо играть, стал блестяще порой играть, ждешь от старой музыки многого для себя. И я когда-то был такой, вон там у меня во встроенном шкафу лежат и призы и дипломы. Я далеко мог пойти. Но сомнения стали грызть меня, совершенства я жаждал, совершенства! Однако понял, что совершенства не будет. И тогда мне все стало скучно. Но я не сложил руки. И победил. В тишизме я и как исполнитель, и как творец, и как мыслитель найду совершенство. Или уже нашел… А ты играй, играй, звучи, пока звучишь! Ты пока еще в полете, ты оптимист, ты искатель, и мир для тебе хорош, ты молодой.
— Где уж молодой… — печально сказал Данилов.
— Хотя, конечно… Миша Коренев в твои годы был уже поверженный…
— Миша приходил к вам?
— Да.
— И часто?
— Он стал мне как сын.
Николай Борисович поднялся резко и принялся ходить по комнате. Данилов отругал себя за бестактность, решил молчать. Но любопытен был Данилов…
— Коренев принял тишизм? — спросил он.
— Миша понял меня. Но тишизм его напугал. И сильно. Очень сильно… Однако его последний поступок говорит о том, что он принял тишизм.
— Разве?
— Да, — сказал Земский. — Ты узнал сегодня об азах тишизма, прочел первое слово в букваре, да и то по слогам… А Миша ушел в высшую тишину. Да что ушел! Прыгнул туда… Или вознесся…
— Стало быть, для вас высшая тишина — исчезновение личности, смерть? Так, что ли?
— Нет, — горячо сказал Земский, — для меня — нет! Я — творец. Для меня моя музыка — продолжение жизни. Или ее воплощение. Даже если эта жизнь и состоит из одних скорбей и грехов. А для слабых натур Мишин прыжок в тишину — благость…
— Миша ушел в тишину и унес с собой тайну М. Ф. К…
— М. Ф. К.? — сразу остановился Земский. — Откуда ты о ней знаешь?
— Прочел в одном письме… М. Ф. К. Это его инициалы, видимо… Михаил Федорович Коренев… Так, наверное?
— Он всего стал бояться, — сказал Земский. — Всего. Однако и со всем, что его пугало, был намерен вести бой. И первым делом — с самим собой… А когда узнал от меня, что старая музыка рано или поздно должна исчезнуть или отмереть, он и от этого пришел в ужас, оцепенел, словно на краю пропасти. Но потом решил — доказать и мне и самому себе, что — нет, что старая музыка не ошибка и не частность, а что и она может быть великой. Как и он в ней. А вот не доказал…
— А мог доказать?
— Не знаю. Он, наверное, и не мог… Он долго жил как придется, был ветрен, но жил весело и сыто. Вдруг остановился и словно прозрел. Спросил себя: «А зачем живу?» Хорошо, что спросил, мне он потому и стал приятен. Но лучше бы не спрашивал… Взглянул на все глазами открытыми и пришел в ужас. И от самого себя, и от мира. Себя собрался изменить рывком, да где уж тут! Решил бунтовать. Этакий мятежник. Чтобы оправдать свое существование, намерен был в музыке, старой, понятно, устроить чуть ли не пожар. Или фейерверк. Но почувствовал, что и сам-то как музыкант за годы веселий потихоньку истлел. Да он и вообще, я тебе скажу, особо одаренным не был…
— Я знаю, — кивнул Данилов.
— Не был, увы, не был… Но то впадал в ярость, думал, что одолеет музыку, а то скисал… Считал, что в мире никому не нужен, что надо бросить поганое дело, что он бездарен, что музыка не для него, ему стоит сейчас же уйти в шоферы или еще куда. Я смотрел на него и понимал, что уйдет-то он уйдет, но совсем не в шоферы…
— И не пытались его остановить?
— Нет.
— Он же стал вам как сын…
— Каждому свой жребий… Если бы он утих, если б перестал думать о высоком, лучше б было? Нет. Я открывал ему высоты все новые и новые. Я не желал заливать его пламя водой. А он все больше и больше пугался… Узнал, что машина стала писать вещи не хуже композиторов-шарлатанов, и опять — в озноб… Нет, я его не успокаивал, наоборот. И со мной было такое, но я не сдался. Тут или — или. Иного быть не может. Он не выдержал. Да, значит, и не мог выдержать.
— Вы его искушали… И подталкивали к обрыву…
— Если ты считаешь, что к обрыву, пусть будет к обрыву… Можно посчитать, что к окну, и тут нынче не ошибешься… Да, искушал. Да, подталкивал. И не жалею об этом… Но подталкивал я его не к обрыву, а к выбору и решению… Он выбрал тишину… Он ничего иного уже и не мог выбрать…
— Все это жестоко по отношению к нему.
— Пусть жестоко. Но и честно… А по отношению ко мне все это не жестоко? Ты этого не чувствуешь? Ведь я привязался к Мише… Я на похороны не смог пойти… Не было сил…
— Однако вы живы. А он погиб.
— Он ушел в тишину. В высшую тишину. А я страдал… Я знал, что рано или поздно он уйдет в тишину и я буду страдать… Я не останавливал его, я должен был испытать потрясения, чтобы написать лучшую свою вещь… Я написал ее… Памяти утихшего скрипача… Это сочинение еще потрясет людей…
— Выходит, что Мишина гибель — благо для вас, для музыки и для людей?
— Я не говорю, что благо. Необходимость — да. В мире — разлад, и не скрипачу Кореневу суждено было его вынести. Творец же…
— Такой, как вы…
— Такой, как я. Творец же обязан был не холодным умом представить смертельную схватку личности с миром, а отцом увидеть страдания сына и самому отстрадать… Кровью и сединой оплатить за великое сочинение… А я знаю, что сочинил!
Земский стоял над Даниловым исполином. Тот ли Земский еще вчера в смятении чувств шарахался в буфете от моршанского ножа! Нет. Этот был словно пророк, знающий, что его пророчества сбудутся. В глазах Земского горело торжество. Над всем человечеством возвышался сейчас Николай Борисович Земский.
— И все же, Николай Борисович, — строго сказал Данилов, — это жестоко.
— Истинный художник и должен быть жесток! — воскликнул Земский. — Иначе он превратится в скрипача Шитова, раскатывающего колясочки с детьми да жене стирающего белье! А ведь Шитов был талант! Талант! Нынче же он — никто, домашний хозяин. Ремесленник в яме. И все потому, что дрожал о ближних. И дрожит о них. Стал нянькой. Сиделкой. И слугой. Большому художнику все в природе должно быть подсобным материалом, ниткой и иголкой, а женщины — в особенности… Сострадать человечеству мы можем, но уж ни слугой, ни нянькой, ни сиделкой никому — ни отцу, ни матери, ни сыну — становиться не имеем права!
Данилов сидеть под Земским уже не мог, встал. Движение Данилова было резким, как бы протестующим. Николай Борисович заметил это, будто опомнился, заговорил тише:
— Оттого-то истинный художник и бывает одинок. Я — одинок. И ты — одинок.
— Я одинок? — удивился Данилов.
— Ты одинок, — кивнул Земский. — Я тебе скажу: ты можешь стать большим музыкантом. В старом, естественно, понимании. Я слушаю тебя лет семь, а то и больше. Ты играешь все лучше и лучше. Да и одарен ты куда щедрее, чем покойный Коренев. У тебя пропал Альбани, а ты стал играть на простом инструменте еще ярче.
— Откуда вы знаете о пропаже Альбани?
— Я знаю… — сказал Земский. — У тебя есть многое, чтобы стать блестящим артистом. Ты одинок оттого, что не связал себя душевной цепью ни с кем. И ни у кого ты ни в няньках, ни в сиделках. Но пока ты не жесток, а просто легок. Но коли захочешь выйти в большие художники, то станешь и жестоким. И пошагаешь по плечам и спинам… Так и будет. Не напоминай мне слов о гении и злодействе, они красивы, но в них желание неосуществимого, в них — желание мира-гармонии. А его нет. Сколько видели мы гениев-злодеев. Но я тебе пока и не о злодействе говорю, а о жестокости… Житейской жестокости, и ни о какой другой…
— Неужели и вы, Николай Борисович, были злодей? — спросил Данилов.
— Не про это сейчас речь, — засмущался Земский, — мало ли кто кем был… Многие бы не отказались пойти и на злодейство, чтобы стать гением… Или чтобы их посчитали гениями… Другие бы и за малый успех, за крохотную славу не поскупились бы заплатить ой-ей-ей как… А Миша Коренев?.. Он ведь и душу дьяволу готов был заложить в минуты отчаяния… Пробовал играть Паганини, не выходило, он и думал: а вдруг и верно, Паганини заключил сделку с дьяволом.
— Не было этого! — сказал Данилов.
— Отчего же не было?! — воскликнул Николай Борисович тонко и нервно. — У Миши были минуты, когда он очень хотел поверить в возможность этой сделки! Да что Миша! И у меня бывают мгновения…
— Вы это серьезно? — спросил Данилов.
— Уж куда серьезнее! Такая тоска иногда находит, что я, Николай Борисович Земский, на колени готов рухнуть все равно перед кем — сверхъестественным существом или пришельцем из обогнавшей нас цивилизации, уж не знаю перед кем, рухнуть на колени и молить его: сейчас же сделать меня всемогущим, хотя бы в искусстве, и прославленным, а уж плату он волен потребовать с меня любую!
И тут Николай Борисович упал перед Даниловым на колени.
— Я любую расписку дам, самую страшную, кровью так кровью, — сказал Николай Борисович, — душа моя нужна, так возьмите душу, жизнь — так жизнь, муки я должен потом претерпеть или дело какое исполнить, извольте, я согласен! Только утолите мои желания!
— Встаньте, Николай Борисович, что же вы передо мной-то на колени грохнулись!
— А перед кем же еще? — спросил Земский.
— Сейчас же встаньте, Николай Борисович, — сухо сказал Данилов. — Право, это неприятно.
На колени Николай Борисович падал, а вставал с усилием, словно теперь дало о себе знать люмбаго. К креслу он двинулся разбитым стариком, и, когда утвердился в нем, Данилов увидел, что и в глазах Николая Борисовича пламени более нет. И нет надежды.
— Я понимаю, Николай Борисович, — покачал головой Данилов, — вы шутник и артист, но я ведь к вам пришел не ради мистерий пятнадцатого века.
— Ты прав, — сказал Земский.
Он быстро взглянул Данилову в глаза. Но тут же опустил голову. Потом, помолчав, спросил:
— А приятель твой из Иркутска, он что — не появится больше?
— Не знаю, — сказал Данилов, — но думаю, что и перед ним падать на колени было бы неразумно.
— Может быть, — прошептал Земский, — может быть. Это я так… На всякий случай…
— Да и как же вдруг? — спросил Данилов. — Зачем чья-то помощь? Вы что же — не уверены в тишизме?
— Уверен! Уверен! — горячо произнес Николай Борисович. — Но кто бы узнал о Золушке, если бы она туфлю в двенадцать часов не потеряла!
— То есть?
— Кто поймет теперь мой тишизм? Никто. Кто узнает о моих сочинениях через сто лет? Никто. Я сдохну, и пионеры сейчас же отнесут мои бумаги в макулатуру — кому нужен утиль какого-то Земского! Чтобы к моим мыслям и сочинениям был интерес, чтобы в моих бумагах копались умные люди через сто лет, я теперь, теперь должен стать известным. Пусть и в этой ложной старой музыке. Пусть и со скандалом. Со скандалом-то вернее! Имя мое должно застрять в умах людей! Туфелька Золушки мне нужна. Даже и похожая на рваный сапог. Ради этого я готов поставить подпись где угодно. И кровью!
— Ничем не могу вам помочь, — сказал Данилов.
— Ой ли?
— Николай Борисович, вы смотрите на меня как-то странно. Не думаете ли вы и меня напугать, как напугали Мишу Коренева?
— Тебя не напугаешь, — угрюмо сказал Земский. — Ты сам скоро напугаешься, коли и впрямь ринулся в большие музыканты. Так напугаешься, что однажды подойдешь к окну и подумаешь: «А не прав ли Миша Коренев?..» Если ты, конечно, тот, за кого себя выдаешь…
— Я себя ни за кого не выдаю, — сказал Данилов. — Однако у меня создается впечатление, что вы меня за кого-то принимаете. За кого же?
— Мало ли за кого…
— Вы взрослый человек, — сердито сказал Данилов, — а, видно, уверили себя в каком-то детском вздоре… Это и смешно, и неприятно… Разрешите на этом откланяться.
— Извини, Володя, — быстро заговорил Земский, — это все шутки… Но ведь как шутник, сам знаешь, я не всем нравлюсь… Извини… И забудь о моих словах… Нам и в театр пора. Я тебе сейчас напоследок налью коньяка. Себе же — вина, фирменного.
Николай Борисович наполнил рюмку Данилова, а сам отправился в соседнюю комнату и вернулся с большой чашей, сделанной, как разглядел Данилов, из черепа и опоясанной сверху и снизу полосками серебра. На серебре имелась чеканка. Вино в чаше было вишневого цвета, чуть прозрачное. «Экий печенег!» — подумал Данилов.
— Это все шутки, Володя! Может, и не поверил я ни в какой вздор. Я пока в свою силу верю! Родись я веков на пять раньше, был бы я Васькой Буслаевым и дружины б крушил. Помнишь, что Васька говорил: «Не верю я, Васенька, ни в сон, ни в чох, а верю я в свой червленый вяз!»
Тут Николай Борисович рассмеялся, из перстня, украсившего средний палец его левой руки, высыпал в чашу красный порошок, отчего вишневая жидкость будто вскипела, забулькала и пошла вверх сизым паром. Чашу Николай Борисович поднял рывком и осушил, как граненый стакан. Данилов коньяк пить не хотел, однако теперь выпил. «Мистика какая-то», — подумал Данилов.
В прихожей Данилов сказал Земскому:
— Червленый вяз пусть при вас остается, вы ему служите, это ваше дело, однако Мише Кореневу жизнь вы укоротили напрасно.
— Может, и укоротил, а может быть, и нет! — рассмеялся Земский.
Был он теперь в кураже, вишневая жидкость из чаши взбодрила его. Словно бы радость распирала Николая Борисовича. В прихожей обширным животом он вдруг придавил Данилова к стене, оглушил его:
— А ты, Данилов, не храбрись! Что ты знаешь? Да ничего! Вот Миша-то унес с собой тайну. Тайну М. Ф. К. Разгадай-ка ее. Слабо будет!
Выходя к лифту, Данилов все же поклонился Земскому, и тот шумно закрыл за ним дверь.
26
«За кого же он принимает меня? — думал Данилов, собираясь на работу. — Если за пришельца или еще за кого, пусть, куда ни шло… А если — за жулика или за какого агента? Еще настрочит бумаги куда следует, людей зряшным делом заставит заняться…» Данилов посчитал, что сейчас же надо истребить из памяти Николая Борисовича Земского даже и мельчайшие впечатления от знакомства с Андреем Ивановичем из Иркутска, их сидений и прогулок. Словно бы и не было ни Андрея Ивановича, ни моршанского ножа. И о его, Данилова, оплошностях во время гуляний с Кармадоном Земский должен был забыть! Николай Борисович в ту же секунду и забыл… В театре был смирный, к Данилову не приставал.
Два дня или три Данилов провел в суете, в беготне из оркестра в оркестр, по ночам готовил дома симфонию Переслегина. С трудом выкраивал время для встреч с Наташей. То и дело — и даже в театр — ему звонила Клавдия, говорила обиженно, просила посетить ее Монплезир. Под Монплезиром она имела в виду квартиру, из какой Данилов ушел и за какую платил. Данилов рассудил, что Клавдия от него все равно не отвяжется, и на четвертый день ее просьб поехал в гости.
Клавдия одета была тщательно, словно бы Данилов стал интересен ей как мужчина. Краску и тушь на веки и на ресницы она наложила под девизом: «А лес стоит загадочный…» И точно, некая загадочность была и в облике хозяйки и в ее словах. Однако Данилов чувствовал, что тайны в Клавдии долго не удержатся. А потому и ни о чем ее не спрашивал.
— Не кажется ли тебе, Данилов, — сказала Клавдия, расставляя на кухонном столе чашки для чая, — что по отношению ко мне ты ведешь себя неблагородно?
— Нет, не кажется, — сказал Данилов.
Клавдия посмотрела на него удивленно.
— Отчего ты так переменился? Вот ты мне и хамишь…
— Я устал, — сказал Данилов, — ты же видишь во мне прислугу, будь я свободен, возможно, я помогал бы тебе, но, увы, сейчас твои хлопоты мне в тягость.
Клавдия чашки оставила, опустилась на табуретку.
— Ах, Данилов, — сказала она. — Я вижу в тебе друга. Ты нужен мне для душевных общений.
— Для душевных общений тебе могло хватить и Войнова… Он профессор и автор книг…
— Войнов, конечно, — согласилась Клавдия, — профессор… Но ведь есть у меня в душе и тайные уголки.
«Ну вот, дело дошло и до тайных уголков», — расстроился Данилов.
— А что касается твоей Наташи, — сказала Клавдия, — то мы с ней подружились. Она сшила мне чалму. Быстро сшила. Я довольна. Сейчас я покажу тебе. Только надевать ее следует с вечерним платьем… Я сейчас…
Клавдия направилась в соседнюю комнату, Данилов крикнул ей, что не надо вечернего платья, что ему через полчаса бежать. Что было толку! А увидеть чалму, сшитую Наташей, он желал.
К удивлению Данилова, Клавдия позвала его через пятнадцать минут. Войдя к ней в комнату, Данилов забыл о недовольствах. Британской королеве предстояло увидеть жену профессора Войнова в черном платье из бархата и в черной чалме. Смелые вырезы платья открывали плечи и грудь московской гостьи, черный бархат украшала бриллиантовая гроздь. И на чалме играли бриллианты.
— А что, — сказал Данилов, — хорошо.
Он искренне радовался за Клавдию.
Ему показалось, что и чалма хороша, хотя игра бриллиантов мешала ему разглядеть чалму внимательно.
— Для вечернего приема у королевы, — сказала Клавдия, — я сшила еще и тюрбан из горностаев. Но к нему у меня другое платье. Белое. Оно на той квартире. У Войнова. И тюрбан там.
— Жаль, — сказал на всякий случай Данилов.
— Жаль, — согласилась Клавдия. — Я потому тебе показываюсь, что у тебя художественный вкус. Раз ты говоришь, что хорошо, значит, хорошо.
— А тюрбан тоже Наташа шила?
— Нет, она не скорняк. Чалма вышла у нее безупречная. Но берет она дорого. И так решительно с меня запросила, будто я мильонщица. И это со своей-то!
— А ты уж и своя?
— Данилов, какой ты, право! Ты думаешь, эта Наташа простая? Ой нет! Поверь женщине. Мы с ней и вправду подружились, о чем только не переболтали… О тебе, конечно… Еще кое о чем… И я тебе скажу…
— Если ты шьешь наряды для королевы, — сухо сказал Данилов, — стало быть, вы с Войновым скоро уедете в Англию? И надолго?
— Ах, Данилов, — вздохнула Клавдия, — никуда мы пока не едем. Войнов, правда, старается получить командировку в Англию на три года, но до самой поездки далеко…
— А почему именно в Англию?
— Англию нам припрогнозировали, — сказала Клавдия и сразу же словно бы в испуге посмотрела по сторонам.
— Хлопобуды?
— Хлопобуды, — прошептала Клавдия.
— Но наряды твои устареют, что же их было шить?
— Чалма и тюрбан не устареют. А платья я заменю.
— И это все твои тайны? Из-за них ты вызывала меня?
— Ты не получил удовольствия от моих обновок?
— Ну… получил… — неуверенно произнес Данилов. — Но зачем тайнами-то заманивать?
— А ящики тебя совсем не интересуют? Те, что мы с твоими приятелями тащили…
— Да… Действительно… И что же с ящиками?
— Пошли! — приказала Клавдия.
Шли недолго, из кухни коридором и до кладовки, свет в коридоре был неяркий, однако Данилов сумел рассмотреть вечернюю Клавдию, не снявшую чалму, в движении и понял, что тело ее нисколько не потеряло прежних форм, наоборот, что-что волнующее Данилова и приобрело. «Да, она красивая женщина», — словно бы согласился с кем-то Данилов. Ящики занимали половину кладовки, надписи на их боках, удостоверявшие принадлежность ценностей Камчатской экспедиции, были замазаны синей краской. Крышку верхнего ящика отодрали, и Данилов увидел в ящике большой камень.
— Камень какой-то, — сказал Данилов.
— Ну и какой камень? — спросила Клавдия, в глазах ее теперь были и торжество, и тайна, и предчувствие будущих радостей, и желание вновь показать Данилову свое превосходство над ним.
— Я не знаю.
— А ты посмотри внимательно.
Данилов не только осмотрел камень, но и общупал его, и запахи камня уловил, только что не попробовал его на зуб. Верхняя поверхность камня была плоская, но не ровная, вся в выбоинах, видимо, ломами или перфора торами вынимали камень из родной среды.
— Лава, что ли? — сказал Данилов, вспомнив о вулкане Шивелуч.
— Лава! — рассмеялась Клавдия и с удовольствием погладила камень.
Минуты две она любовалась камнем, потом закрыла дверь кладовки и повела Данилова в кухню. Платье для королевы она не испачкала и не помяла, носить его, да и чалму, ей нравилось. Бриллианты с двойным внутренним отражением по-прежнему играли на Клавдии тут и там. На кухне Клавдия закурила и сказала:
— Это лава. А через четыре года будут изумруды.
— Два ящика изумрудов?
— Два не два, а шкатулку заполнят.
— Неужели тут такая замечательная кладовка?
— Кладовка ни при чем. Каким образом лава превратится в изумруды, не имеет значения, но превратится.
Твердость была в словах Клавдии и деловитость. Она давала понять Данилову, что ту информацию, какую он заслуживал, он получил, а прочее его не касается. Может, и вообще она не имела права говорить об этом прочем. А Данилов молчал, он чувствовал, что Клавдии не терпится поделиться тайной. Он и молчал.
— Сейчас бриллианты в моде, — сказала наконец Клавдия, — а через семь лет, после одного события, в моду войдут изумруды. В такую моду, в какой они не были последние три столетия.
Данилов опять молчал.
— А у меня их будут десятки, около сорока, точнее, тридцать семь, крупные, будто с шапки Мономаха, если мне надоест их носить, я их продам по хорошей цене.
Данилов молчал.
— Это реальные деньги, — сказала Клавдия так, будто Данилов с ней спорил.
Данилов молчал.
— И в том, как они возникнут из лавы, не будет ничего нечестного, никакого волшебства, и все выйдет по науке… Один ученый из одного НИИ… — тут Клавдия опять спохватилась и стала смотреть по сторонам, но вряд ли кто, кроме Данилова и мелких бытовых муравьев, гулявших по столу, мог ее услышать. — Один ученый, то ли Озямов, то ли Озимов, сделал открытие… Все хотел получить искусственный изумруд, бился, бился — и ни с места. Потом решил разобраться, как природа-мать создает изумруды, и действовать ее способом. Понял: они из магмы, она остывает, что-то с ней происходит — и она преобразуется в кристаллы изумрудов…
Дальше объяснять своими словами открытие Озямова стало для Клавдии делом непосильным, она принесла записную книжку, показала Данилову сделанный ею собственноручно рисунок разреза земли — разрез она назвала стратиграфическим. Показала: и где именно пекутся, а потом и остывают изумруды. Рядом на страничке был график движений температуры и давления.
— Ты тут все не поймешь, — заметила Клавдия. — В общем, кавитация… Схлопывание пузырьков газа… А в газ надо перевести магму, то есть в наших условиях остывшую лаву… Температура — порядка полторы тысячи градусов… давление — миллион атмосфер, а то и два… И пожалуйста — изумруд!
— Откуда же твой Озямов, — удивился Данилов, — возьмет давление в два миллиона атмосфер?
— Давление у нас найдется, — махнула рукой Клавдия.
— А зачем тебе лава именно от Шивелуча?
— Озямов бьется, бьется, сделал открытие, выбил оборудование для опытной установки, но подходящей магмы не нашел. Какую лаву брать — не знает. А я знаю.
— Откуда? Ах да… Хлопобуды…
— Да, хлопобуды, — прошептала Клавдия, и обреченные бриллианты взблеснули на черной чалме, — они. Ясно, что не в порядке очереди, а… Ну а в общем, неважно… Они и моду на изумруды мне предсказали, и открытие Озямова учли, и на машинах из всех вариантов выбрали лаву от Шивелуча. А Озямов о ней пока не знает… Я через верного человека наведу его мысль на эту лаву, вот и получу тридцать семь изумрудов — материал-то мой!
— Начнут делать искусственные изумруды — они появятся у всех и станут стоить копейки, как стекляшки.
— Свои изумруды я получу через четыре года. Все посчитают, что они из горных пород. Но у Озямова-то это будут опытные изумруды! А по прогнозам хлопобудов он еще три года походит в шарлатанах, потом перед ним извинятся, станут внедрять открытие — на внедрение уйдет шесть лет. А мне камни уже надоест носить! Я их продам, пока они еще будут в цене… Понял теперь, каково иметь дело с хлопобудами!
Данилова вся история с изумрудами очень заинтересовала, объяснения Клавдии его не удовлетворили, даже и с высоты технических знаний Данилова слова Клавдии показались ему подозрительными. А может, она передала и все верно, да ученый Озямов бродил по ложным тропам. Так или иначе, Данилов решил выяснить, каким образом появляются изумруды и имеет ли к ним отношение лава от вулкана Шивелуч. Ведь ящиками с лавой Шивелуча владела не только Клавдия, но и Камчатская экспедиция, а какие из них подлинные, какие сотворенные им, Даниловым, он не знал, не запомнил в спешке. Камчатские экспедиторы тоже небось могли затеять опыты с лавой. С ящиками следовало разобраться, и сейчас же. Но Клавдия взяла его за руку.
— Данилов, изумруды ладно! — сказала она с неким вдохновением и забыв о шепоте. — Я добыла еще один долговременный прогноз! Подожди тут!
Она моментально принесла из комнаты сувенирный настольный сейф со свежей еще краской и никелированной ручкой. Сейф был как на стоящий. «Бутылки три в него войдет», — отметил про себя Данилов. Ключом Клавдия отворила бронированную дверцу сувенира и пригласила Данилова заглянуть в его недра. Там стопкой лежали документы. Изнутри к дверце был приклеен лист белой бумаги со словами «Операция „Лишние дипломы“». Документы и были дипломами. По большей части синими, лишь два из них, от отличников, имели коричневые обложки. Данилов несколько дипломов осмотрел. Верхний принадлежал Казематову Игорю Платоновичу, получившему в 1960 году профессию врача-стоматолога. Другой — инженеру-металловеду Ципскому Олегу Николаевичу. Узнал Данилов и о дипломной работе третьего специалиста — Думного Виктора Петровича: «Плетение словес в житийном творчестве последователей Епифания Премудрого». Виктор Петрович был учителем литературы.
— Отдел кадров на дому? — осторожно спросил Данилов.
— Эти картонки — мои. Я имею и расписки… Все написавшие их отказываются не только от дипломов, но и вообще от прежних своих профессий. Честное слово дают.
— Зачем тебе все это?
— А-а-а! — протянула Клавдия.
Молчать она уже не могла, и, по ее словам, с дипломами выходило так. По точным исследованиям хлопобудов, лет через пятнадцать — семнадцать разведется у нас столько разных выпускников и так не станет хватать всяких необходимых людей — санитаров, продавцов, мозолистов, мусорщиков, полотеров, клейщиков обоев и афиш, садовников, домработниц, что общество вынуждено будет просить лиц с дипломами, особенно неуверенных в своем призвании, пойти в санитары, домработницы, садовники. Государство якобы даже решит доброхотам платить компенсацию за годы учения.
— Какую компенсацию? — не понял Данилов.
— А такую… Кому девять тысяч, а кому и все четырнадцать. В зависимости от затрат. Только чтобы пошли в санитары и в раздатчики пищи.
— Разве мы тратили деньги на образование?
— Государство и тратило. Ну и что? Если обществу так потребуются люди в обслугу, оно хоть и свои затраты решит компенсировать. Сколько диплом стоил, столько, с учетом школьного воспитания, и заплатят человеку, лишь бы он согласился сдать диплом.
— Странно все это… — покачал головой Данилов.
— Так и будет… Припрет — и будет… И теперь ведь… Сколько людей, что учились, изнуряли себя, спокойно работают — и вовсе не по специальности, а где кому хочется, хоть бы и пожарниками или ассенизаторами… И не нужны им никакие дипломы… Вот я уже сколько приобрела… У кого за пятерку, у кого за двадцатку, у кого подороже, у кого бесплатно… А придет срок, я по этим дипломам и по распискам их владельцев соберу всю компенсацию!
— Нет, что-то тут не так.
— Что не так? Что? Ты, Данилов, далек от социальных проблем. Ты бы лучше мне помог. Есть у тебе люди на примете, кому не нужны дипломы? Только не старые и не больные, чтобы могли тянуть и через двадцать лет?
— Надо подумать… Один есть. Кончил консерваторию, был контрабасистом, теперь он пробочник.
— То есть?
— Люди, не имеющие штопора, обычно проталкивают пробки в бутылку. Бутылка емкостью ноль семь стоит семнадцать копеек, а с пробкой внутри ее берут на пунктах приема по десять копеек. И то как бы из жалости к хозяину. А там у них за ящиками сидит пробочник и леской с петлей вылавливает пробки, имеет за пробку две копейки. Мой знакомый играл скверно, а пробочник, говорят, вышел из него виртуоз. Делом доволен, живет хорошо.
Было похоже, что Клавдию заинтересовал не диплом пробочника, а способ добывания им пробок.
— Надо запомнить, — сказала она. — Именно леской.
— Можно и не леской. Можно веревкой. Или проволокой.
— У тебя один такой знакомый?
— Не знаю… У твоего приятеля Ростовцева, — вспомнил Данилов, — два диплома, из них один университетский, а сам он разводит попугаев, ты обратись к нему.
— Ладно, — быстро сказала Клавдия. — Ты займешься переговорами по моему списку. Там много кандидатов.
— Откуда я время найду? — жалобно произнес Данилов.
«Опять я ей поддаюсь, — подумал он, — опять малодушничаю… Эка ловко она меня приручила снова…»
— Я пошел. Это и были твои сумасшедшие идеи?
— Нет. Главная моя идея иная.
— Ты ее уже получила от хлопобудов?
— Сегодня я тебе ничего не скажу.
— Ну, смотри, — сухо произнес Данилов и направился в прихожую.
Клавдия то ли подумала, что Данилов обиделся, то ли вообще не хотела отпускать его, пошла за ним и заговорила так, словно в чем-то была перед ним виновата:






