Сочинения Плутарх
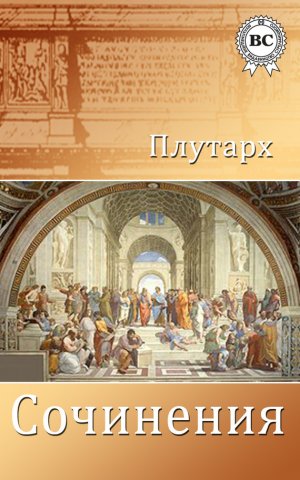
– Я, кажется, прихожу в себя, – сказал Эжен.
– Извозчик, ну же, двигайтесь! – крикнул папаша Горио, подняв переднее стекло. – Прибавьте ходу, я дам вам сто су на водку, если доставите меня через десять минут, куда вам сказано.
Услыхав такое обещание, извозчик помчался во всю прыть.
– Он же не двигается с места, – говорил папаша Горио.
– А куда вы меня везете? – спросил Растиньяк.
– К вам, – ответил папаша Горио.
Карета остановилась на улице д'Артуа. Старик сошел первым и бросил кучеру десять франков с расточительностью какого-нибудь вдовца, которому в угаре наслажденья – все нипочем!
– Ну, идемте, – сказал он Растиньяку и, обогнув через двор новый красивый дом, с заднего фасада привел Эжена к дверям квартиры на четвертом этаже. Папаше Горио не пришлось звонить. Горничная г-жи де Нусинген, Тереза, открыла дверь. Эжен очутился в прелестной квартирке, состоявшей из передней, маленькой гостиной, спальни и кабинета с видом на какой-то сад. Маленькая гостиная по своему уюту и по изяществу всей обстановки выдержала бы любое сравнение, и там при свете восковых свечей Эжен увидел Дельфину, сидевшую перед камином на козетке; она встала, положила ручной экран на доску камина и тоном глубокой нежности сказала Растиньяку:
– Оказывается, за вами надо посылать, господин недогада!
Тереза вышла. Студент обнял Дельфину, прижал к себе и от радости заплакал. После стольких тягостных волнений, за один день истомивших ум и сердце, резкий переход от зрелища в «Доме Воке» к этой картине вызвал у Растиньяка приступ нервической чувствительности.
– Я отлично знал, что он тебя любит, – шопотом говорил дочери папаша Горио, пока Эжен, совершенно разбитый, лежа на козетке, был еще не в силах ни говорить, ни дать себе отчет, откуда появилось это волшебство.
– Да идите же посмотрите, – сказала ему г-жа де Нусинген и, взяв его за руку, привела в комнату, которая мебелью, коврами и даже мелочами убранства напоминала комнату самой Дельфины, но была поменьше.
– Недостают только кровати, – заметил Растиньяк.
– Да, – ответила она ему, краснея и пожимая руку.
Эжен взглянул на нее: он был еще юн и понял, сколько истинной стыдливости заключено в душе любящей женщины.
– Вы принадлежите к женщинам, достойным поклонения, – сказал Эжен ей на ухо. – Мы так хорошо понимаем друг друга, что я решаюсь вам сказать: чем сильнее, чем искреннее любовь, тем больше необходимы ей таинственность и скрытность. Не выдадим нашей тайны никому.
– Я-то не никто, – проворчал Папаша Горио.
– Вы отлично знаете, что вы – это мы…
– Вот чего мне и хотелось: ведь вы не станете обращать на меня внимания? Я буду уходить и приходить, как добрый дух, – его не видят, но знают, что он здесь. Видишь, Фифиночка, Нини, Диди! Разве не прав был я, когда говорил: «На улице д'Артуа сдается хорошенькая квартирка, давай ее обставим для него»? А ты все не хотела. Я твой родитель, я стал и устроителем твоего счастья! Отцы всегда должны дарить, чтобы наслаждаться отцовской радостью. Всегда дари! Вот твое дело, раз ты отец.
– Как так? – сказал Эжен.
– Да, да, она не хотела: боялась глупых сплетен, как будто мнение света стоит счастья! А все женщины мечтают о том, что сделала она…
Папаша Горио говорил в одиночестве – г-жа де Нусинген увела Эжена в кабинет, где тотчас же раздался хотя и очень осторожный, но все же слышный поцелуй. И эта комната своим изяществом не уступала остальной квартире, где было все безукоризненно.
– Удалось ли предугадать ваши желания? – спросила г-жа де Нусинген, возвращаясь в гостиную, чтобы сесть за стол обедать.
– Чересчур хорошо, – ответил он. – Увы! все это совершенство роскоши, этот прекрасный сон, осуществленный наяву, всю эту поэзию молодой красивой жизни я чувствую так тонко, что был бы их достоин, но принять это от вас я не могу, а сам я пока слишком беден, чтобы…
– Ах, так! Вы мне уже перечите? – сказала она с очаровательной гримаской, шутливо-властным тоном, как говорят женщины, когда хотят высмеять чью-нибудь щепетильность, чтобы ее успокоить.
Но Растиньяк подверг себя в тот день слишком серьезному допросу, да и арест Вотрена, раскрыв перед ним бездну, куда он был готов скатиться, настолько укрепил в Эжене благородные чувства и нравственную щекотливость, что он не мог уступить Дельфине, ласково отвергавшей его возвышенные соображения. Им овладела глубокая печаль.
– Как, неужели вы откажетесь? – спрашивала г-жа де Нусинген. – Вы сознаете смысл подобного отказа? Вы не верите в будущее, вы не решаетесь связать себя со мной. Значит, вы боитесь, что обманете мое чувство к вам? Если вы любите меня, если я… люблю вас, что запрещает вам принять такую пустячную услугу? Если бы вы знали, с каким удовольствием я устраивала все это хозяйство холостяка, вы бы не колебались и попросили у меня прощенья. У меня были ваши деньги, я их истратила на дело, вот и все. Вы воображаете, что вы великодушны, а вы мелочны. Вам хочется гораздо большего… Ах! – вздохнула она, уловив страстный взгляд Эжена, – …вы церемонитесь из-за пустяков! Если вы не любите меня – о, тогда, конечно, откажитесь. Моя судьба зависит от одного вашего слова. Говорите!.. Ну же, папа, убедите его как-нибудь, – сказала она, обращаясь к своему отцу после минутного молчания. – Неужели он думает, что в вопросах чести я менее чутка, чем он?
Папаша Горио с застывшей улыбкой наркомана смотрел на них, наблюдая эту милую размолвку.
– Дитя, вы только вступаете в жизнь, – продолжала она, взяв за руку Эжена, – перед вами преграда, непреодолимая для многих, и вот рука женщины устраняет ее с вашего пути, а вы пятитесь назад! Но у вас все впереди, вы составите себе блестящее состояние, успех начертан на вашем красивом челе. Разве вы не сможете тогда вернуть мне то, что я сегодня даю вам заимообразно? Разве дамы в былые времена не дарили своим рыцарям мечи, кольчуги, доспехи, шлемы и коней, чтобы рыцари могли во имя своих дам сражаться на турнирах? Послушайте, Эжен, то, что я предлагаю вам, это и есть оружие нашей эпохи, необходимое каждому, кто хочет стать величиной. Хорош же тот чердак, где вы живете, если он похож на комнату отца! Значит, обедать мы не будем? Вы хотите огорчить меня? Отвечайте же! – воскликнула она, дергая его за руку. – Боже мой! Папа, уговори его, или я уйду и не увижусь с ним больше никогда.
– Сейчас я вас уговорю, – сказал папаша Горио, выходя из своего восторженного состояния. – Дорогой мой господин Эжен, вы ведь занимаете деньги у евреев, так?
– Приходится, – ответил Растиньяк.
– Отлично, вот вы и попались, – продолжал старик, вынимая дрянной потрепанный кожаный бумажник. – Я сам сделался евреем: все счета оплатил я, – вот они. За все, что здесь находится, вы не должны ни одного сантима. Сумма небольшая – самое большее пять тысяч франков, и я даю их вам взаймы, а я не женщина, и от меня вы не откажетесь принять. На клочке бумаги вы мне напишете расписку, а деньги отдадите после.
Эжен и Дельфина с удивлением взглянули друг на друга, и на глаза их навернулись слезы. Растиньяк горячо пожал руку старику.
– Ну, что тут такого! Разве вы не мои дети? – сказал папаша Горио.
– Милый папа, но как же вы это сделали? – спросила г-жа де де Нусинген.
– А-а, в этом-то вся штука! Когда я уж убедил тебя поселить его поближе, я стал замечать, что ты покупаешь вещи точно для невесты, и сказал себе: «Так она запутается!» Ведь наш поверенный утверждает, что судебное дело против твоего мужа о возврате твоего состояния продлится больше полугода. Ладно! Я взял да продал мою бессрочную ренту в тысячу триста пятьдесят франков годового дохода: пятнадцать тысяч внес за пожизненный доход в тысячу двести франков, вполне обеспеченный недвижимостью, а из остальных денег заплатил, дети мои, вашим поставщикам. Здесь наверху я снял комнатку за сто пятьдесят франков в год; на сорок су в день я буду жить по-княжески, да еще кое-что будет оставаться. Платья мне почти не нужно, мне и старого не износить. Целых две недели я все посмеиваюсь втихомолку, говоря себе: «Уж и будут они счастливы!» Ну, а разве вы не счастливы?
– О папа, папа! – воскликнула г-жа де Нусинген, прыгнув на колени к отцу.
Дельфина осыпала его поцелуями, ласково прижималась белокурой головой к его щекам и орошала слезами старческое сияющее, ожившее лицо.
– Милый папочка! Да, вы настоящий отец! Другого такого нет на свете. Эжен любил вас и раньше, как же он будет вас любить теперь!
Папаша Горио уже десять лет не ощущал у своего сердца биенья сердца дочери.
– Полно, дети мои, полно, Дельфина, – говорил он, – ты доведешь меня до того, что я умру от радости! Сердце мое готов разорваться. Слушайте, господин Эжен, мы с вами уже в расчете!
И старик сжал дочь в своих объятиях так неистово, так резко, что она вскрикнула:
– Ой, ты делаешь мне больно!
– Я сделал тебе больно, – сказал он побледнев.
Отец смотрел на нее с нечеловеческим страданием. Чтоб описать лицо этого Христа-отца, пришлось бы поискать сравнений среди образов, созданных великими мастерами кисти для изображенья муки, которую претерпел спаситель человечества за благо всего мира. Папаша Горио бережно поцеловал дочь в то место, где его пальцы нажали слишком сильно ее талию.
– Нет, нет, я не сделал тебе больно, – говорил он с вопрошающей улыбкой, – а вот ты своим криком мне причинила боль. – Осторожно поцеловав дочь, он шепнул ей на ухо: – Все стоит дороже, но надо же отвести ему глаза, а то, чего доброго, он еще рассердится.
Эжен был потрясен беззаветной самоотверженностью старика и взирал на него с наивным и откровенным восхищением, которое охватывает молодые души каким-то священным трепетом.
– Я буду достоин всего этого! – воскликнул он.
– Милый Эжен, как прекрасно то, что вы сейчас сказали! – и г-жа де Нусинген поцеловала его в лоб.
– Ради тебя он отказался от мадмуазель Тайфер и ее миллионов, – добавил папаша Горио. – Да, девочка любила вас; брат ее умер, и теперь она богата, как Крез.
– Зачем было говорить об этом? – упрекнул его Растиньяк.
– Эжен, – шепнула ему на ухо Дельфина, – теперь весь вечер мне будет грустно. О, я буду вас любить всегда.
– Вот мой лучший день со времени вашего замужества! – воскликнул Горио. – Пусть бог посылает мне любые страдания, лишь бы не страдания за вашу судьбу, а я все буду твердить себе: «В феврале этого года я на одну минуту был так счастлив, как другим людям не доводится за всю их жизнь». Взгляни на меня, Фифина! – обратился он к дочери. – Разве она не красавица? Скажите мне на милость, встречали вы когда-нибудь женщину с таким цветом лица и с такой ямочкой на подбородке? Нет? Правда, нет? Это я создал такую прелесть! теперь же благодаря вам она будет счастлива и станет в тысячу раз красивее. Если вам, дорогой сосед, нужно в раю мое место, уступаю его вам, а я могу пойти и в ад. Давайте есть, давайте есть, здесь все наше, – вдруг заявил он, уже не зная, что сказать.
– Милый папа!
Он встал, подошел к дочери, взял в руки ее голову и, целуя в пробор, сказал:
– Дитя мое, если бы ты знала, сколько счастья ты можешь дать мне без труда! Я буду жить там наверху; что тебе стоит сделать каких-нибудь два шага и зайти ко мне? Ты обещаешь, да?
– Да, милый папа.
– Повтори.
– Да, милый папа.
– Молчи, а то я дам себе волю и заставлю тебя повторить это сотню раз. Давайте обедать.
Весь вечер прошел в ребячествах, причем папаша Горио дурачился не меньше, чем другие. Он ложился у ног дочери и целовал их, смотрел подолгу ей в глаза, терся головой об ее платье, – словом, творил такие безрассудства, на какие способен только любовник, самый нежный, самый юный.
– Вы видите? – шепнула Дельфина Растиньяку. – Когда отец мой с нами, надо всецело принадлежать ему. А ведь это будет иногда очень стеснять.
Эжен, в котором не один раз вспыхивала ревность, не мог осудить ее за эту мысль, содержавшую в себе зачатки черной неблагодарности.
– А когда же квартира будет окончательно готова? – спросил Эжен, оглядывая комнату. – Значит, сегодня нам приходится расстаться!
– Да, но завтра вы обедаете у меня, – ответила Дельфина с лукавым видом. – Завтра Итальянская опера.
– Я пойду в партер, – заявил папаша Горио.
Настала полночь. За Дельфиной приехала карета. Студент и папаша Горио направились в «Дом Воке» и, разговаривая о Дельфине, все больше и больше восхищались ею, что превратило их беседу в своеобразный словесный поединок между двумя всесильными страстями. Эжен не мог скрыть от себя, что отцовская любовь, чуждая всякого эгоистического интереса, затмевала его любовь своей неколебимостью и глубиной. Для отца кумир оставался неизменно чистым и прекрасным, и обожание укреплялось не только мыслями о будущем, но и всем прошлым.
Придя домой, они застали вдову Воке сиротливо сидящей у печки лишь в обществе Сильвии и Кристофа. Старуха хозяйка напоминала Мария среди развалин Карфагена. Она поджидала двух оставшихся у нее жильцов, изливая перед Сильвией свое горе. Как ни красноречивы жалобы на жизнь, которые лорд Байрон вложил в уста своего Тассо, но им далеко до жизненной правды, звучавшей в сетованиях вдовы Воке.
– Сильвия, значит, завтра утром придется готовить только три чашки кофе. Каково! Дом опустел; прямо сердце разрывается на части. Что за жизнь без нахлебников? Ничто. Обезлюдел мой дом. В пустом доме нет жизни. Чем я грешна перед богом, что накликала на себя все эти беды? Запас-то фасоли и картофеля сделан на двадцать человек. У меня в доме – и вдруг полиция! Ведь нам придется есть одну картошку! Надо будет рассчитать Кристофа.
Спавший савояр[77] встрепенулся и спросил:
– Что прикажете?
– Бедный парень! Он вроде как сторожевой пес, – заметила Сильвия.
– Время глухое, все пристроились. Откуда же возьмутся у меня жильцы? Я сойду с ума. А тут еще эта ведьма Мишоно уволокла от меня Пуаре. Чем она ему так угодила, чем так привязала его к себе, что он бегает за ней, точно собачонка?
– Ну, еще бы! Эти старые девки знают, чем взять, – ответила Сильвия, неодобрительно покачивая головой.
– Бедного господина Вотрена обратили в каторжника… А знаешь, Сильвия, вот что хочешь со мной делай, до сих пор не могу этому поверить. Такой весельчак, пил «глорию» на пятнадцать франков в месяц и за все платил наличными!
– Человек тароватый! – добавил Кристоф.
– Не иначе, как тут ошибка, – заключала Сильвия.
– Да нет, он сам признался, – продолжала вдова Воке. – Скажите на милость, и все это случилось в моем доме, в квартале, где и коты-то не шныряют. Честное слово, я прямо как во сне. Видали мы с тобой и что приключилось с Людовиком Шестнадцатым, и как пал император, и как он вернулся, и как снова пал, – все это мыслимое дело. А ведь против семейных пансионов не пойдешь: без короля можно обойтись, а есть-то нужно постоянно; и если честная вдова, да еще из рода де Конфлан, кормит разнообразными хорошими обедами, так разве что настанет конец света… Да, так оно и есть, это конец света.
– Подумать только, что всю эту кутерьму наделала мадмуазель Мишоно, и, говорят, получит за это ренту в тысячу экю! – воскликнула Сильвия.
– Не говори мне про нее, это просто мерзавка! – сказала г-жа Воке. – А ко всему прочему, переезжает к Бюно. Да она на все способна, в свое время она наверняка проделывала ужасные вещи, и крала, и убивала. Вот бы кому итти на каторгу вместо того бедняги.
В эту минуту позвонили Эжен и папаша Горио.
– А! Это два моих верных, – со вздохом сказала г-жа Воке.
Оба «верных», сохранившие лишь очень смутное воспоминание о бедствиях, постигших семейный пансион, заявили своей хозяйке, что переезжают жить на Шоссе д'Антен.
– Сильвия, бит мой последний козырь! – воскликнула г-жа Воке. Господа, вы нанесли мне смертельный удар! В самое нутро! Точно кол туда вогнали. Ну и денек! От него состаришься на десять лет. Честное слово, я сойду с ума. Как быть с фасолью? Хорошо же! Раз я остаюсь одна, ты, Кристоф, завтра же получишь расчет. Прощайте, господа, покойной ночи!
– Что с ней такое? – спросил Эжен у Сильвии.
– Ну как же! По случаю этих дел жильцы-то все разъехались. В голове у ней и помутилось. Слушайте, никак плачет. Всплакнет, ей и полегчает. Это впервой, как здесь служу, она слезу пускает.
На следующее утро г-жа Воке, по ее выражению, обдумалась. Разумеется, как всякая хозяйка, потерявшая всех своих жильцов и пережившая целый переворот в жизни, она была огорчена, но сохранила здравый смысл и показала, какой бывает истинная скорбь, глубокая, вызванная нарушением материальных выгод и привычного уклада. Когда влюбленный покидает те места, где живет его возлюбленная, когда он смотрит на них в последний раз, взор его, несомненно, не так печален, как был печален взор вдовы Воке, когда она глядела на опустевший стол. Эжен стал утешать ее, говоря, что через несколько дней вместо него поселится Бьяншон, у которого кончается срок практики в больнице, да и чиновник из музея неоднократно выражал желание занять комнаты г-жи Кутюр, так что она быстро пополнит состав своих жильцов.
– Дай-то бог, дорогой господин Эжен! Но здесь поселилось несчастье. Увидите, не пройдет и десяти дней, как смерть войдет сюда, – сказала Воке, окидывая столовую зловещим взглядом. – Кого-то унесет она?
– Надо переезжать, – тихонько сказал Эжен папаше Горио.
– Сударыня, уже три дня, как я не вижу Мистигри, – заявила, вбегая, испуганная Сильвия.
– Ах, уж если кот мой умер, если уж он ушел от нас, то я…
Бедная вдова, не кончив фразы, всплеснула руками и откинулась на спинку кресла, совершенно убитая этим ужасным предвещанием.
Около полудня, когда почтальоны разносят письма в районе Пантеона, Эжен получил письмо в изящном конверте, запечатанном печатью с гербом де Босеанов. В конверте лежало приглашение на имя г-жи и г-на Нусинген на большой бал у виконтессы, о котором было известно всем еще за месяц. Приглашение сопровождалось запиской для самого Эжена:
«Я подумала, что вы с удовольствием возьметесь быть выразителем моих чувств по отношению к г-же де Нусинген. Посылаю вам приглашение, о котором вы просили, и буду счастлива познакомиться с сестрой г-жи де Ресто. Итак, привозите ко мне вашу красавицу, но постарайтесь, чтобы она не завладела всей вашей приязнью, ибо значительную долю этого чувства вы должны уделить мне – в ответ на ту приязнь, какую я питаю к вам.
Виконтесса де Босеан».
«Да, но г-жа Босеан довольно ясно намекает, что присутствие барона Нусингена ей нежелательно», – подумал Эжен.
Он сейчас же отправился к Дельфине, очень довольный тем, что может порадовать ее, и твердо надеясь получить за это достойную награду. Г-жа де Нусинген принимала ванну. Эжен остался ждать в будуаре, терзаясь нетерпением, вполне естественным у пылкого молодого человека, уже два года мечтавшего о том, чтобы у него была возлюбленная. В жизни молодых людей эти переживания неповторимы. У первой женщины, которой увлекается мужчина, женщины, действительно достойной любви, то есть такой, которую он видит всегда в блистательной оправе, предписанной парижским высшим обществом, никогда не будет соперниц. Любовь в Париже совершенно не похожа на провинциальную любовь. Здесь ни мужчин, ни женщин не обманешь показной витриной, где каждый для приличия вывешивает стяг, расписанный пустыми фразами о мнимом бескорыстии своих любовных чувств. Здесь женщина должна не только отвечать всем требованиям нашей чувственной природы и нашей души, она отлично сознает, что главная ее обязанность – соблюдать множество суетных мелочей, из которых и состоит жизнь. В парижской любви так много хвастовства, напыщенности, расточительности, наглости и пустозвонства. Если все дамы при дворе Людовика XIV завидовали мадмуазель де Лавальер, когда этот великий государь в порыве чувства к ней забыл, что каждая его манжета стоит тысячу экю, и разорвал их обе, помогая появлению на свет герцога де Вермандуа, – то чего же требовать от остальных людей? Совместите в себе богатство, юность, знатность, будьте еще удачливее, если можете; чем больше различных благовоний вы сожжете у подножья вашего кумира, тем благосклоннее он будет к вам, – конечно, если у вас есть кумир. Любовь – это религия, и культ ее, наверно, обходится дороже, чем всякий другой: любовь проходит быстро, но, как уличный мальчишка, старается обозначить путь свой разрушением. Богатство чувств – это поэзия живущих на чердаках: без такой роскоши во что там превратилась бы любовь? Правда, бывают души, изъятые из действия парижских законов, но мы находим их вдали от суетного мира, в тех людях, что не поддались власти общепринятых воззрений, живут где-то там, у чистого источника, быстротекущего, но неиссякаемого, верны своим зеленым кущам и, радостно внимая голосу вселенной, звучащему для них во всей природе и в них самих, ждут терпеливо своего взлета, скорбя о тех, кто приковал себя к земле. Эжен, подобно большинству молодых людей, почувствовавших вкус ко всяким почестям, стремился выступить во всеоружии на арену высшего света: он заразился его горячкой, быть может ощутил в себе достаточную силу, чтобы господствовать над ним, но еще не видел ни средств, ни цели такого честолюбия. Когда нет чистой и святой любви, способной заполнить жизнь, жажда власти может оказаться источником прекрасных дел, – лишь стоит отрешиться от личной выгоды, поставив себе целью величие своей страны. Но Растиньяк еще не поднялся до той вершины, откуда человеку можно обозреть и правильно определить течение жизни. Он до сих пор не мог стряхнуть с себя очарованье свежих, сладостных понятий, облекающих как бы листвою отрочество людей, выросших в провинции. Эжен все не решался перейти парижский Рубикон. Несмотря на жажду новых ощущений, он все еще не расставался с затаенной мыслью о той счастливой жизни, какую истый дворянин ведет в своей усадьбе. Но все же его последние сомнения исчезли накануне, когда он очутился в собственной квартире. Пользуясь материальными преимуществами богатства, как пользовался издавна преимуществами своего происхождения, он сбросил оболочку провинциала и потихоньку занял положение, откуда открывался ему путь к прекрасной будущности. И вот теперь, в ожидании Дельфины, непринужденно сидя в ее красивом будуаре и чувствуя себя как дома, он показался себе таким далеким от былого Растиньяка, приехавшего год назад в Париж, что, рассматривая его каким-то внутренним, духовным взором, задал себе вопрос: «Похож ли я теперь на себя самого?»
– Баронесса в спальне, – доложила Тереза, появившись так внезапно, что он вздрогнул.
Дельфина лежала на козетке у камина, бодрая и свежая. При виде этой женщины в волнах муслина нельзя было не сравнить ее с теми красивыми индийскими растениями, где плод бывает окружен цветочными лепестками.
– Ну, вот вы и пришли! – сказала она с чувством.
– Отгадайте, что я принес вам, – сказал Эжен, усаживаясь рядом с ней и целуя ей руку.
Прочитав приглашение, г-жа де Нусинген весело встрепенулась. Она подняла на Эжена влажные глаза и, обвив руками ему шею, прижала его к себе в порыве тщеславной радости.
– Ведь это вам (тебе, – сказала она ему на ухо, – но в туалетной комнате Тереза; будем осторожны!), вам обязана я своим счастьем. Да, я смело называю это счастьем. Раз это достигнуто благодаря вам, то оно больше, чем торжество самолюбия. Никто не хотел ввести меня в светский круг. В эту минуту вы, может быть, сочтете меня мелочной, пустой и легкомысленной парижанкой, но помните, мой друг, что я готова пожертвовать вам всем, и если жажду страстно, как никогда проникнуть в Сен-Жерменское предместье, то только потому, что там бываете и вы.
– Госпожа де Босеан как будто дает понять, что не рассчитывает видеть у себя на балу барона де Нусингена. Вам это не кажется? – спросил Эжен.
– Да, конечно, – ответила баронесса, возвращая письмо Эжену. – Такие женщины талантливо умеют быть невежливыми. Но я все равно поеду. Наверно, там будет и моя сестра: я знаю, она шьет себе очаровательное платье. Эжен, продолжала она тихо, – сестра едет на этот бал, чтобы рассеять ужасные подозрения. Вы не знаете, какие носятся слухи? Нусинген зашел ко мне сегодня утром рассказать, что говорили о ней в клубе не стесняясь. Боже мой! От чего зависит честь женщины и семьи! Я чувствовала себя обиженной, оскорбленной в лице моей бедной сестры. По словам некоторых лиц, господин де Трай выдал векселей на сумму до ста тысяч франков, почти все векселя просрочил и вот-вот должен был попасть под суд. Видя его безвыходное положение, сестра продала какому-то еврею свои чудесные бриллианты; вы, вероятно, видали их на ней, они перешли к ней по наследству от матери графа де Ресто. Словом, вот уже два дня только и разговора, что об этом. Мне теперь понятно, для чего Анастази заказала себе платье, шитое блестками: она хочет привлечь к себе внимание на бале у госпожи де Босеан, явившись во всем блеске и в этих бриллиантах. Но я не хочу уступать ей. Она всегда старалась меня затмить и нехорошо ко мне относилась, хотя я делала для нее многое и никогда не отказывала в деньгах, когда она нуждалась в них. Однако бросим разговор о свете, – я хочу сегодня насладиться полным счастьем.
Еще в час ночи Растиньяк находился у г-жи де Нусинген; любовно осыпая его прощальными поцелуями, сулившими немало радостей и в будущем, она промолвила с печальным видом:
– Я трусиха, я суеверна, называйте как угодно мои предчувствия, но я трепещу от страха: как бы мне не поплатиться за свое счастье ужасной катастрофой.
– Ребенок! – сказал Эжен.
– Да, сегодня ребенок не вы, а я, – ответила она смеясь.
Эжен вернулся в «Дом Воке» с твердым намерением покинуть его завтра; по дороге он отдавался тем восхитительным мечтам, какими услаждают себя молодые люди, еще храня на своих устах аромат счастья.
– Ну, как? – спросил его папаша Горио, когда Эжен проходил мимо его комнаты.
– Завтра я расскажу вам все, – ответил Растиньяк.
– Все? Правда? – воскликнул старик. – Ложитесь спать. Завтра начнется наша счастливая жизнь.
На следующее утро Растиньяк и Горио собрались покинуть семейный пансион и ждали только, когда удосужится прийти носильщик, как вдруг около двенадцати часов на улице Нев-Сент-Женевьев послышался стук экипажа и замолк у ворот «Дома Воке». Из собственной кареты вышла г-жа де Нусинген и спросила, здесь ли еще ее отец. Получив от Сильвии утвердительный ответ, она проворно взбежала по лестнице. Эжен был у себя, о чем не знал его сосед. За завтраком Эжен попросил Горио захватить и его вещи и условился встретиться с ним в четыре часа уже на улице д'Артуа. Но пока старик разыскивал носильщиков, Эжен, сбегав в Школу правоведения на поверку, вернулся, не замеченный никем, домой, чтоб расплатиться с г-жой Воке, не возлагая этой операции на Горио, который, в порыве фанатической любви, наверно заплатил бы за него из своего кармана. Хозяйки не было дома. Эжен заглянул к себе наверх – не забыл ли он чего-нибудь, и похвалил себя за эту мысль, увидав в ящике стола свой бессрочный вексель, выданный Вотрену и валявшийся здесь с тех пор, как был погашен. Печка не топилась, и он уже хотел разорвать вексель на мелкие клочки, но, узнав голос Дельфины, воздержался от малейшего шума, остановился и прислушался, полагая, что у Дельфины не может быть тайн от него. С первых же слов разговор между отцом и дочерью оказался настолько интересен, что Растиньяк продолжал слушать.
– Ах, папа, – обратилась она к отцу, – слава богу, что вам пришло в голову потребовать отчета о моем состоянии как раз во-время, пока меня еще не разорили. Здесь можно говорить?
– Да, никого нет дома, – ответил папаша Горио изменившимся голосом.
– Что с вами, папа? – забеспокоилась г-жа де Нусинген.
– Ты как обухом ударила меня по голове, – ответил старик. – Да простит тебе бог, дитя мое! Ты не знаешь, как я люблю тебя; кабы знала, не говорила бы мне таких вещей нежданно, в особенности если дело поправимо. Откуда такая спешка, что ты приехала за мной, когда через несколько минут мы отправляемся на улицу д'Артуа?
– Ах, папочка, разве в минуту катастрофы совладаешь с первым порывом? Я сама не своя. Ваш поверенный предупредил нас, что дело кончится, наверно, разореньем. Сейчас ваша долголетняя коммерческая опытность будет нам необходима, и, как утопающий хватается за соломинку, я приехала за вами. Когда господин Дервиль увидел, что Нусинген всякими каверзами ставит ему препятствия, он пригрозил судом и заявил, что постановление председателя суда получить недолго. Сегодня утром Нусинген зашел ко мне и спросил, хочу ли я, чтобы и он и я были разорены. Я ответила, что ничего не понимаю во всех этих делах, что у меня есть состояние, что я должна вступить в пользование им и что разбираться во всей путанице – дело моего поверенного, а я лично в таких вопросах полная невежда и совершенно неспособна что-либо понять. Ведь вы так и советовали мне говорить?
– Верно, – ответил папаша Горио.
– Тогда Нусинген посвятил меня в свои дела. Оказывается, все капиталы, свои и мои, он вложил в только что основанные предприятия, и ради этого понадобилось разместить крупные суммы за границей. Если я заставлю его отдать обратно мое приданое, ему придется объявить себя несостоятельным, если же я соглашусь подождать год, он ручается своей честью, что удвоит или даже утроит мое состояние, вложив мои деньги в земельные операции, а потом я буду полной хозяйкой своего имущества. Дорогой папа, он говорил чистосердечно, он напугал меня. Нусинген просил ему простить его поведение, дал мне свободу, разрешил вести себя, как мне угодно, при условии, что я предоставлю ему неограниченное право вести дела от моего имени. В доказательство своей чистосердечности он обещал мне вызывать Дервиля всякий раз, когда я захочу, – чтобы проверять, насколько правильно составлены те документы, на основании которых Нусинген будет передавать мне мою собственность. Короче говоря, он сдался мне, связав себя по рукам и по ногам. Он просил, чтобы я еще два года вела дом, и умолял меня не тратить на себя больше того, что он определил. Он доказал мне, что ему не остается ничего другого, как сохранять вид внешнего благополучия, что он расстался со своей танцовщицей и будет вынужден соблюдать самую строгую, но и самую тайную экономию в расходах, чтобы дождаться окончания всех начатых им операций, не подрывая своего кредита. Я его и бранила и не хотела ничему верить, стараясь прижать его к стене и узнать побольше. Он показал мне свои книги и в конце концов расплакался. Я никогда еще не видела мужчину в таком состоянии. Он потерял голову, говорил о самоубийстве, просто бредил, – мне стало его жалко.
– И ты поверила всем этим россказням! – воскликнул папаша Горио. – Это же фигляр! Мне приходилось по делам встречаться с немцами: почти все они были люди добросовестные, открытые, но уж если они, прикрываясь добродушием и простотой, начнут хитрить и шарлатанить, то превзойдут всех. Твой муж тебя морочит. Его прижали, вот он и прикидывается мертвым, он собирается хозяйничать от твоего имени еще свободнее, чем от своего. Нусинген воспользуется этим положением, чтобы отвертеться на случай неудачи в своих делах. Он и хитер и вероломен, это мерзавец. Нет, нет, я не собираюсь отправлять на кладбище Пер-Лашез, оставив дочерей нищими. В делах я смыслю кое-что! Он, видите ли, вложил все свои средства в предприятия, – отлично! Тогда его участие в них выражено в ценностях, расписках, договорах! Пусть их покажет и рассчитается с тобой. Мы выберем дела, которые повыгоднее, и попытаем на них счастья; у нас будет утвержденная законом фирма на наше имя: Дельфина Горио, состоящая в имущественном разделе со своим супругом бароном де Нусингеном. Что ж он, принимает нас за дураков? Неужели он думает, будто я могу прожить хотя бы два дня, зная, что ты останешься без состояния, без куска хлеба? Да я не проживу и одного дня, одной ночи, двух часов! Если бы эта мысль оправдалась, то я бы умер! Вот еще! Я сорок лет работал, таскал на себе мешки, обливался потом, всю жизнь терпел лишения ради вас, и только вы, мои ангелы, делали для меня легкой любую ношу, любой труд. А теперь моя жизнь, мое богатство пойдет прахом! Да я умру от ярости! Клянусь всем святым на небесах и на земле, мы выведем все на чистую воду, проверим книги, кассу, дела! Я не прилягу, не буду спать, не буду есть, пока мне не докажут, что состояние целехонько! Слава богу, у вас раздельное владение имуществом; поверенным у тебя будет человек, по счастью, честный, – сам Дервиль. Господь милостив! Ты сохранишь свой миллиончик, свои пятьдесят тысяч годового дохода до конца дней своих – или я наделаю в Париже такого шума, что все ахнут! Коли нас зарежут в трибуналах, я обращусь в палату. Только бы знать, что у тебя все спокойно и благополучно по части денег: одно это сознание облегчало все мои горести, утоляло мои печали. Деньги – это жизнь. Деньги – все. А что расписывает нам этот эльзасский чурбан? Дельфина, не уступай ни четверти лиара этой жирной скотине, что посадила тебя на цепь и сделала несчастной. Если ты ему нужна, то мы скрутим его крепко, мы его проучим. Господи! Голова моя горит, что-то жжет меня там, внутри черепа. Моя Дельфина на соломе! Ты! Моя Фифина! Черт побери! Где мои перчатки? Ну, едем, я хочу сейчас же посмотреть все: книги, наличность, корреспонденцию, дела. Я не успокоюсь, пока мне не докажут, что твое состояние не подвергается опасности: мне надо видеть все собственными глазами.
– Дорогой папа, действуйте осторожно! если в это дело вы внесете малейший оттенок мести, если вы обнаружите слишком враждебные намерения, то я погибла. Он знает вас и находит вполне естественным, что по вашему внушению я беспокоюсь за судьбу моего приданого, но, клянусь вам, оно в его руках, и он решил не выпускать его. Это такой человек, что способен убежать со всеми капиталами и оставить нас ни с чем! Он прекрасно знает, что я не стану преследовать его и позорить имя, которое сама ношу. Он слаб и силен в одно и то же время. Я все обдумала. Если мы доведем его до крайности, он разорит меня.
– Так, значит, он мазурик?
– Да, папа, это так, – подтвердила она, с плачем бросаясь в кресло. Мне не хотелось признаваться в этом, чтобы вы не огорчались, что выдали меня замуж за такого человека! Его закулисная жизнь, его совесть, душа и тело все как наподбор. Это просто ужасно! Я презираю его, ненавижу! Да, после того, что он говорил, я не могу уважать такого подлеца. Человек, способный заняться теми финансовыми махинациями, о которых он рассказал мне, лишен последней крупицы совести, и все мои опасенья основаны на том, что я отчетливо прочла в его душе. Он, мой муж, без обиняков предложил мне полную свободу, – а вы знаете, что это значит! – но с условием, что в случае провала предприятий я соглашусь сделаться орудием в его руках, – короче говоря, если я соглашусь быть подставным лицом.
– Но на это есть законы! Есть Гревская площадь для таких зятьев! – воскликнул папаша Горио. – Если не будет палача, я сам отрублю ему голову на гильотине.
– Нет, папа, против него законов нет. Слушайте, что хотел сказать Нусинген, если очистить его речь от всяких околичностей, которыми он думал навести туман, и передать ее в двух словах: «Или все погибнет, у вас не будет ни лиара и вы разоритесь, так как подобрать другого сообщника, кроме вас, я не могу; или вы предоставите мне довести мои предприятия до благополучного конца». Вы понимаете? Пока он еще дорожит мной. Моя женская честность служит ему порукой: он знает, что я не присвою его состояния и удовольствуюсь своим. Я вынуждена дать согласие на это жульническое, бесчестное товарищество, иначе мне угрожает разорение. Он покупает мою совесть и платит за нее, разрешая мне быть без стеснения женой Эжена: «Я позволяю тебе совершать грехи, предоставь и мне совершать злодеяния, разоряя бедняков!» Разве не ясно и это рассуждение? А знаете ли вы, что называет он деловыми операциями? Он покупает на свое имя порожние участки, затем поручает подставным лицам строить там дома. Эти люди отдают подряды на постройку любым подрядчикам и платят им долгосрочным векселем, а потом за небольшую сумму выдают моему мужу расписку в получении от него денег за постройки: тогда владельцем этих домов оказывается Нусинген, а подставные лица оставляют подрядчиков в дураках, объявив себя банкротами. Фирма торгового дома Нусинген служила для того, чтобы пустить пыль в глаза несчастным строителям. Все это я поняла. Поняла и другое: Нусинген, на тот случай, если надо будет доказать, что у него были огромные платежи, перевел в Амстердам, Неаполь, Лондон, Вену крупные суммы. Разве могли бы мы наложить на них арест?
Эжен услыхал, как отец Горио, глухо стукнув коленями о половицы, упал у себя в комнате.
– Господи, за что ты меня наказываешь! Дочь моя в руках мерзавца, и он потребует от нее всего, чего захочет! Дочка, прости меня! – воскликнул старик.
– Да, если я упала в пропасть, то в этом повинны, может быть, и вы, сказала Дельфина. – Когда мы выходим замуж, мы еще так неразумны. Разве мы понимаем, что такое свет, дела, мужчины, нравы? За нас должны думать отцы. Дорогой папа, простите мне эти слова, я вас ни в чем не упрекаю. В этом случае вся вина лежит на мне. Папа, не надо плакать, – сказала она, целуя его в лоб.
– Не плачь и ты, милая Дельфина. Дай я поцелую твои глазки и осушу твои слезы. Вот что! Я сейчас приведу свою башку в порядок и распутаю клубок, который накрутил в делах твой муж.
– Нет, предоставьте действовать мне: я сумею повернуть мужа по-своему. Он меня любит – прекрасно! Я воспользуюсь своей властью над ним и быстро добьюсь того, что часть капиталов он вложит для меня в земельную собственность. Возможно, что я заставлю его выкупить на мое имя бывшее эльзасское именье Нусингенов, он очень дорожит им. Но завтра вы зайдите разобраться в его делах и книгах; Дервиль мало смыслит в торговых оборотах… Нет, завтра не приходите. Не буду портить себе крови. Послезавтра бал у госпожи де Босеан, я хочу поберечь себя и явиться туда красивой, свежей, чтобы милый Эжен мог мною гордиться! Пойдем посмотрим его комнату.
В эту минуту на улице Нев-Сент-Женевьев остановилась карета, и на лестнице послышался голос графини де Ресто, спросившей у Сильвии:
– Отец мой дома?
Это обстоятельство спасло Эжена, а то он уже хотел было лечь на кровать и притвориться спящим.
– Ах, папа, вам ничего не говорили про Анастази? – спросила Дельфина, узнав голос сестры. Кажется, в ее семейной жизни тоже произошло что-то неладное.
– Как так? – воскликнул папаша Горио. – Тогда мне конец: бедная моя голова не выдержит двух бед.
– Здравствуйте, папа, – сказала, входя, графиня. – А, ты здесь, Дельфина?
Встреча с сестрой, видимо, смутила графиню де Ресто.
– Здравствуй, Нази, – ответила ей баронесса. – Мое присутствие здесь кажется тебе необычным? Я вижусь с папой каждый день.
– С каких это пор?
– Если бы ты бывала здесь, то знала бы.
– Не придирайся ко мне, Дельфина, – плачущим голосом сказала графиня, я так несчастна! Бедный папа, я погибла!.. И на этот раз погибла окончательно.
– Что с тобой, Нази? – воскликнул папаша Горио. – Расскажи нам все, мое дитя. Она побледнела! Дельфина, ну же, помоги ей, будь с ней подобрее, я стану любить тебя еще больше, если это возможно!..
– Бедная Нази! – пожалела ее г-жа де Нусинген, усаживая на стул. Помни, что одни только мы с папой всегда будем любить тебя так, что все простим. Семейные чувства – самые надежные.
Она дала сестре понюхать нюхательной соли, и графиня пришла в себя.
– Я умру от всего этого! – произнес папаша Горио. – Подойдите ко мне ближе, – сказал он дочерям, мешая в печке горящий торф. – Мне что-то холодно. Что с тобой, Нази? Говори скорее, ты убиваешь меня…
– Дело в том, что моему мужу стало известно все, – сказала несчастная женщина. – Помните, папа, недавний вексель Максима? Так это был уже не первый. Я оплатила их немало. В начале января мне показалось, что у графа де Трай какое-то большое горе. Мне он ничего не говорил, но читать в душе людей, которых любишь, так нетрудно: достаточно ничтожного намека, а кроме того, бывают и предчувствия. Он стал таким ласковым ко мне и нежным, каким я никогда не видела его, и я чувствовала себя все более счастливой. Бедный Максим! Как он потом сказал, это он мысленно прощался со мной, решив застрелиться. Я так выпытывала, так его молила, я два часа стояла перед ним на коленях, и в конце концов он мне признался, что должен сто тысяч франков. Папа! Сто тысяч! Я с ума сходила. У вас их не было, я высосала все…
– Нет, я не мог бы достать их, – ответил папаша Горио, – разве что украл бы. Да, я пошел бы и на это. И пойду!
Эта фраза, жалостная, как предсмертный хрип, выразила такую агонию отцовского чувства, доведенного до состояния бессилия, что обе сестры умолкли. Да и какой эгоист мог оставаться безучастным к этому крику души, показавшему все глубину отчаяния, как брошенный в бездну камень дает понятие о глубине ее.
– Папа, я достала деньги, распорядившись тем, что не было моим, сказала графиня, заливаясь слезами.
Дельфина растрогалась и заплакала, прильнув головой к плечу сестры.
– Так это правда! – сказала она.
Анастази потупила голову; г-жа де Нусинген обняла сестру и, прижав к своей груди, поцеловала.
– Здесь ты всегда найдешь не осужденье, а любовь, – добавила она.
– Ангелы мои, – слабым голосом сказал им Горио, – нужна была беда, чтобы соединить вас, почему это так?
– Ради спасения жизни Максима, а с ней и моего счастья, – продолжала графиня, ободренная этим проявленьем участливой, горячей нежности, – я отправилась к одному ростовщику, – да вы знаете это исчадье ада, этого безжалостного Гобсека! И я продала ему фамильные бриллианты, которыми так дорожит граф де Ресто, и его и свои, все! Продала! Вы понимаете? Максим спасен! Но я погибла. Ресто узнал все.
– Как? Кто тебя выдал? Я убью его! – крикнул папаша Горио.
– Вчера муж вызвал меня к себе. Я пошла… «Анастази, – сказал он таким тоном… (О, достаточно было этого тона, я поняла все!) – Где ваши бриллианты?» – «У меня». – «Нет, – ответил он, глядя на меня, – они здесь, на комоде». И он указал мне на футляр, прикрытый носовым платком. «Вы знаете, откуда они?» – спросил он. Я упала к его ногам… Я плакала, я спрашивала, какой смертью мне надо умереть.
– Ты так сказала! – воскликнул папаша Горио. – Клянусь святым господним именем, тот, кто причинит вам зло, тебе иль ей, пока я жив, тот может быть уверен, что я сожгу его на медленном огне! Я разорву его на части, как…
Слова замерли в его гортани.
– Кончилось тем, моя дорогая, что он потребовал от меня худшего, чем смерть… Не приведи бог ни одной женщине услышать то, что услыхала Я!
– Этого человека я убью, – спокойно произнес папаша Горио. – Но у него одна жизнь, а мне отдать он должен две. Ну, что же дальше? – спросил он, глядя на Анастази.
– И вот, – продолжала графиня помолчав, – он посмотрел на меня и сказал: «Анастази, я скрою все, как в могиле, и мы останемся жить вместе: у нас есть дети. Я не стану убивать господина де Трай на поединке: я могу и промахнуться; а если отделаться от него другим путем, можно столкнуться с правосудием. Убить его в ваших объятиях – это опозорить ваших детей. А я не хочу ни гибели ваших детей, ни гибели их отца, ни своей собственной; поэтому я ставлю вам два условия. Отвечайте: есть ли у вас ребенок от меня?» – «Да», – ответила я. «Который?» – спросил он. «Старший, Эрнест». – «Хорошо, сказал он. – Теперь клянитесь подчиниться моему требованию». Я поклялась. «Вы подпишете мне запродажную на ваше имущество, когда я этого потребую».
– Не подписывай! – крикнул папаша Горио. – Ни в коем случае! Так, так, господин де Ресто, вы не в состоянии дать счастье вашей жене, и она ищет его там, где оно возможно, а вы наказываете ее за вашу дурацкую немощь?.. Стой! Я здесь! Не волнуйся, Нази, я стану ему поперек дороги. Ага! Ему люб наследник! Хорошо же, хорошо. Я заберу его сына к себе, ведь он мне внук, черт побери! Имею же я право видеть этого мальчишку? будь спокойна, я увезу его к себе в деревню, стану заботиться о нем. Я заставлю сдаться это чудовище, – я скажу ему: «Посмотрим, чья возьмет! Хочешь вернуть себе сына, верни моей дочери ее имущество и предоставь ей жить, как ей угодно».
– Отец!
– Да, я твой отец! О, я настоящий отец. Пусть этот негодяй вельможа не притесняет мою дочь. Проклятье! Я не знаю, что течет у меня в жилах. В них кровь тигра, мне хочется растерзать ваших мужей. Дети мои! Так вот какая у вас жизнь! Мне она смерть… Что с вами станется, когда меня не будет? Отцы должны жить, пока живы у них дети. Боже, как плохо ты устроил мир! А еще говорят, что у тебя есть сын. Тебе бы следовало избавить нас от мук наших детей. Милые мои ангелочки, чего уж тут! Ведь тем, что вы пришли ко мне, я обязан только вашим горестям. От вас я ничего не вижу, кроме ваших слез. Ну, что ж! Да, да, я знаю, вы любите меня. Приходите, приходите поплакаться ко мне. Сердце мое обширно – все вместит. Вы можете рвать его на части, каждый кусок превратится в отцовское сердце. Я бы хотел взять на себя ваши тяготы, страдать вместо вас. А ведь вы были счастливы, когда были маленькими.
– Только в ту пору нам и было хорошо, – заметила Дельфина. – Где те времена, когда мы играли в большом амбаре и скатывались вниз с груды мешков?!
– Папа, это еще не все, – сказала графиня на ухо отцу. Горио даже подскочил. – За бриллианты не дали ста тысяч. Максима все еще привлекают к суду. Нам еще нужно уплатить двенадцать тысяч франков. Он обещал мне образумиться, бросить игру. Мне не осталось больше ничего, кроме его любви, я слишком дорого заплатила за нее, – если уйдет она, я умру. Я пожертвовала ему всем: честью, состоянием, покоем и детьми. О, верните хотя бы одному ему свободу, честное имя, чтобы он мог остаться в обществе, где он сумеет создать себе положение. Теперь у него есть долг передо мной не только за собственное счастье, у нас с ним есть дети, и они окажутся без состояния. Все погибнет, если его посадят в Сент-Пелажи.[78]
– Нет денег у меня, Нази. Больше ничего, ничего! Это конец мира. Да, мир скоро рухнет – иначе быть не может! Идите же, спасайтесь, пока есть время! Да-а! Ведь у меня еще остались серебряные пряжки, шесть столовых приборов, те самые, что я купил впервые в жизни! А что еще? Только пожизненная рента в тысячу двести франков.
– Что же вы сделали с вашей бессрочной рентой?
– Я продал ее, а себе оставил на свои нужды только этот маленький доход. Мне были необходимы двенадцать тысяч, чтобы устроить квартиру для Фифины.
– Как, Дельфина? У тебя в доме? – спросила г-жа де Ресто свою сестру.
– Не все ли равно где? Двенадцать тысяч франков уже истрачены, возразил папаша Горио.
– Догадываясь, – заметила графиня. – Для господина Растиньяка! Несчастная Дельфина, остановись! Ты видишь, до чего дошла я.
– Дорогая, господин Растиньяк не из тех молодых людей, что разоряют своих любовниц.
– Спасибо, Дельфина, в моем тяжком положении я ожидала от тебя лучшего. Но ты никогда не любила меня.
– Нет, Нази, она тебя любит, – воскликнул папаша Горио, – и только что сказала мне об этом. Мы говорили о тебе, и она уверяла, что ты красавица, а она сама только хорошенькая.
– У ней бездушная красота, – заметила графиня.
– Хотя бы и так, – возразила Дельфина покраснев. – А как относилась ко мне ты? Ты отрекалась от меня, ты постаралась закрыть мне доступ во все дома, куда хотелось мне попасть, вообще ты не упускала ни одного случая сделать мне неприятность. Разве я приходила сюда, как ты, затем, чтобы вытягивать от отца тысячу за тысячей все его деньги? Разве я довела его до такого положения? Это дело твоих рук, сестрица! Я виделась с отцом, когда только могла, не выгоняла его из своего дома, не приходила лизать ему руки, когда он оказывался нужен. Я даже не знала, что эти двенадцать тысяч франков он истратил для меня: как тебе известно, в денежных делах я люблю порядок. А если папа и делал мне подарки, то я никогда их не выпрашивала.
– Тебе больше посчастливилось, чем мне: господин де Марсе богат, и кое-что об этом тебе известно. Ты всегда была презренной, как золото. Прощайте, у меня нет ни сестры, ни…
– Замолчи, Нази! – крикнул папаша Горио.
– Только такая сестра, как ты, может повторять то, чему никто не верит. Ты нравственный урод, – ответила Дельфина.
– Дети, дети мои, замолчите, или я здесь, при вас, покончу с собой.
– Слушай, Нази, прощаю тебе, ты несчастна, – говорила Дельфина. – Но я лучше тебя. Сказать мне то, что ты сказала, да еще в ту минуту, когда я была готова на все, чтобы помочь тебе, – даже пойти в спальню к моему мужу, чего я не сделала бы ни ради себя самой, ни ради… это достойное продолжение тех неприятностей, каких ты мне наделала за последние девять лет.
– Дети мои, дети, обнимитесь! – упрашивал отец. – Вы обе ангелы.
– Нет, оставьте меня! – крикнула графиня, когда Горио взял ее за руку, и увернулась от отцовского объятия. – У ней меньше жалости ко мне, чем у моего мужа. Можно подумать, что она олицетворение добродетели!
– Пусть сплетничают, будто я должна господину де Марсе: по-моему, это лучше, чем признаться, что господин де Трай стоит тебе более ста тысяч, ответила г-жа де Нусинген.
– Дельфина! – крикнула графиня, подступая к сестре.
– Я говорю тебе правду, а ты клевещешь на меня, – холодно сказала баронесса.
– Дельфина, ты…
Папаша Горио бросился к графине и не дал ей договорить, закрыв ей рот рукой.
– Боже мой, за что вы сегодня хватались руками? – воскликнула Анастази.
– Ах, да! Виноват, – извинился несчастный отец, вытирая руки о панталоны. – Ведь я сейчас переезжаю, кто же знал, что вы придете.
Он был доволен, что, вызвав этот упрек, отвлек на себя гнев дочери.
– Ох! Вы истерзали мое сердце, – продолжал он садясь. – Дети мои, я умираю! В голове у меня жжет, как огнем. Будьте милыми, хорошими, любите друг друга! Вы сведете меня в могилу. Нази, Дельфина, ну же, вы обе правы и обе неправы. Слушай, Дедель, – говорил он, подняв на баронессу глаза, полные слез, – ей нужны двенадцать тысяч, давай поищем их. Не надо так коситься друг на друга.
Он стал на колени перед Дельфиной.
– Ради меня попроси у нее прощенья, – шепнул он ей на ухо, – она более несчастна, правда ведь?
– Бедная моя Нази, – сказала ей дельфина, испуганная выраженьем отцовского лица, диким, безумным от душевной боли, – я была неправа, поцелуй меня…
– О, вы льете мне целительный бальзам на сердце! – воскликнул папаша Горио. – Но откуда взять двенадцать тысяч франков? разве пойти за кого-нибудь в рекруты?






