Смилодон в России Разумовский Феликс
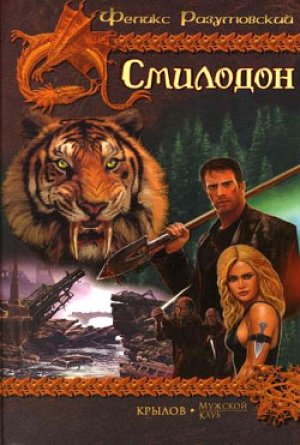
Насчет золота не спросил – все знали, что у Потемкина в одной из комнат пол был выложен золотыми монетами. Червонцами. Стоящими на ребре.
– Разговаривать с вами, граф, просто удовольствие. Мы понимаем друг друга с полуслова. – Князь Таврический удовлетворенно хмыкнул, подождал, пока ему нальют вина, и, повернувшись к Анагоре, улыбающейся игриво и двусмысленно, перешел с французского на эллинский: – Дорогая, ваш профиль божественен. Вы мне напоминаете Афину. Этот нос, этот лоб…
Увы, та мало чем напоминала Афину,[150] а по-эллински совсем не изъяснялась. Что с нее возьмешь – порнодионка. Тем не менее она величественно наклонила голову и прошептала томно и волнующе:
– А вы, ваша светлость, мне напоминаете Аполлона.[151] Чей лук больше, чем у Эроса,[152] и постоянно натянут.
Ишь как заговорила. Может, не такая уж и дура.
Магу вся эта любовная прелюдия очень не понравилась. В молчании он прикончил фальшивого жаворонка, мрачно кинул взгляд на всех этих Шуваловых, Салтыковых и Брюсов, сдерживаясь, засопел и посмотрел на столик нацменьшинств. Там, слава Богу, все обстояло благополучно: Мельхиор, как всегда, был полностью доволен жизнью, индус уже дошел до кондиции и тихо погружался в нирвану, Буров, даже не подозревая о подлоге, лакомился молочной поросятинкой. На душе, да и в желудке у него было благостно – каков стол, такой и настрой. Тревожила, давила на психику лишь затянувшаяся черномазость, тем паче что волшебник на все вопросы реагировал болезненно, явно переигрывал, чересчур переживал: ах, недоглядел, ах, не проверил концентрацию, ах, напортачил с рецептурой. Ах, ах, ах! Через месяц стопудово, с гарантией все пройдет. Ну, может, через два. Как же, держи карман шире! Скорее всего, к концу гастролей. Кому он нужен, белый и пушистый Буров, то ли дело ниггер Маргадон. Ай да Калиостро, молодец, не отрывает задницу от плотных планов. Настоящий маг. Понять его несложно, только ведь и жить в столице Российской империи с таким цветом рожи не рекомендуется. Минздравом. Всем Трещалам по башке не настучишь. А впрочем, ладно – тепло, светло, никто не докучает. Общество опять-таки вокруг приятное: графья, князья, сановники, вельможи. И поросятинка нежна, поджариста и тает во рту. И хоть бы даже не поросятина – все одно хорошо.
Наконец ужин подошел к своему эндшпилю и начал потихонечку менять диспозицию – пить чай и кофий все отправились в зимний сад. Он являл собой чудо роскоши и агротехники и поражал размерами. Тут был зеленый дерновый скат, густо обсаженный розами, жасмином, акациями и сиренью, в гуще цветущих померанцев сладостно надрывались соловьи, повсюду виднелись боскеты и беседки, в воздухе витали аравийские курения, а струи фонтанов благоухали лавандой. Казалось, это был парадиз, сад Эдема, мастерское воплощение райских кущ на грешной земле.[153] Все здесь побуждало к неге, общению, отдохновению души – общество разбилось по интересам и павильонам, соловьи разом приумолкли, слуги понесли чай, кофий, выпечку, мороженое, нежнейший «девичий» крем. Застучали ложечки по севрскому фарфору, запах табака, мускуса и пота заглушил благоухание роз, воздух вместо птичьих трелей наполнили людские голоса:
– Волшебник-то Калиостро суровенек, на филина похож. Зверем смотрит, нахохлился, как сыч. А вот супруга у него… М-да… Бутон.
– Э, граф, вы, видно, не бывали в Полюстрове у Безбородко. Вот там бутоны так бутоны. Рви сколько хочешь. Куртина еще та.[154]
– Так вам, князь, все никак не довелось сыграть с шахматным-то автоматом?[155] А я вот, представьте, сподобился, третьего дня. Проиграл, но достойно, почти свел в ничью.
– Это, граф, что. Вот у нас вчера была игра так игра. На Каменном, у Разумовского, Куракин держал банк. Так вот я проюрдонился не то чтобы знатно, но где-то каратов на пятьсот, может, поболе.[156]
– А вы слышали, княгиня, что учудил этот старый обормот граф Чупятов, ну тот, что помимо орденов еще носил при мундире и жидовский нарамник.[157] Так вот, он вдруг возомнил, что его могут обокрасть, и, дабы испугать воров, украсил дом свой предметами ужаса: расписал все стены картинами адских казней, неслыханных мучительств, невиданного разврата, понаставил во всех углах скелеты, обрядил дворецкого, кучеров и лакеев совершеннейшими чертями. Сахарница его теперь представляет половину человеческого черепа, должность ложек исполняют ребра, а сам он курит трубку, выдолбленную из локтевой кости мертвеца. Ну не дикий ли анахорет, выживший из ума?
– Это еще, милочка, что. Вы ведь слышали, верно, о генерал-аншефе Красинском? Об этом отчаянном солдафоне, корчащем из себя чудо-богатыря Суворова?[158] Мало того, что он спит на сене, скачет нагишом и поет акафисты, так еще завел моду – ест теперь три раза на дню ужа-желтобрюха под раковым соусом, прежде откормленного на парном молоке. И непременно начинает с хвоста. Зрелище сие, милочка, омерзительно до тошноты. Тем паче что сам Суворов этого ужа ни за что бы есть не стал.
– Само собой, княгиня. Говорят, у него не жизнь, а сплошное несварение желудка, что несомненно ведет к ипохондрии.[159] Может быть, поэтому жена и наградила его ветвистыми рогами.[160] Ха-ха-ха. А впрочем, дамы, прошу вас, больше о Суворове ни слова. Не дай Бог их светлость услышит.[161] Лучше давайте-ка займемся вот этим тортом с марципанами. Не знаю, право, как на вкус, а видом он великолепен.
– Можете, князь, не сомневаться. У их светлости отменнейший кондитер. Сейчас приеду, прикажу выпороть своего. Совсем разбаловался, подлец. Будет есть у меня березовую кашу, покуда не научится готовить вот такие же бисквиты.[162]
Да, чудо как хороша была у Потемкина выпечка, все эти бисквиты буше, цукатные торты, пирожные с желе, глазированные вензели и шафранные крендели.
Только недолго князь Таврический наслаждался изысками кондитеров: встал, выпятил грудь, подал Анагоре руку и повел ее на галантный моцион, вернее, запудривать мозги. Не дал, гад, побаловаться чайком, запить всю эту лживую, густо наперченную баранину, говядину, индюшатину и крольчатину. От вкуснейшего торта оторвал. Да еще одной Анагорой не удовольствовался: проходя мимо беседки, где Буров с Мельхиором (индус не в счет, он так и остался в нирване) мирно угощались птифурами, он притормозил, добро улыбнулся и величественно шагнул внутрь.
– А, это ты, братец. Вижу, вижу, не дурак пожрать. И вообще не дурак.
– Маргадону карашо. – Буров встал, низко поклонился, радостно оскалился и принялся, как учили, играть роль доброго черного идиота. – Маргадону ощень карашо. Виват, кесарь-сезарь дюк Потемкин! Пасиба, пасиба. Спасай Христа.
– А же говорю, не дурак, – крайне умилился князь Таврический и по-императорски, жестом триумфатора, вытащил из кармана табакерку. – Вот тебе, владей.[163]
Табакерочка была конкретно золотой, украшенной крупными бриллиантами и на редкость массивной. Не такой ли князь Таврический со товарищи успокоил навсегда государя императора Петра III?[164]
– Маргадону карашо. – Буров с цепкостью взял презент, крепко приложил ко лбу и низко, но достойно поклонился. – Маргадону ощень карашо. Виват, кесарь-сезарь дюк Потемкин! Пасиба, пасиба. Гром победы раздавайся![165]
– Ишь ты как лопочет! Даром что нехристь – орел, – вторично умилился князь, хлопнул по-отечески Бурова по плечу и, удивившись крепости арапской конституции, величественно вернулся к своей даме. – Пойдемте, дорогая, я вам покажу статую Венеры Перибазийской, ее бедра подобны вашим…
– Ну что вы, ваша светлость, мои куда податливее и приятнее на ощупь, – в тон ему отозвалась Анагора, князь Тавриды плотоядно кивнул, и они направились в гущу сада, в китайскую беседку. Глядя на них, Бурову почему-то вспомнилась дурацкая песня из его непростой юности:
- По аллеям тенистого парка
- С пионером гуляла вдова.
- Пионера вдове стало жалко,
- И вдова пионеру дала…
«Поаккуратнее, ваша светлость, поаккуратнее. Вино и бабы до добра не доводят, чаще до цугундера»,[166] – едко усмехнулся он, определил подарочек поглубже в карман и сделал знак лакею, чтоб принес еще пирожных, – потемкинский харч пришелся ему очень по душе. Да и сам князь Тавриды нравился – правильный мужик, компанейский, конечно, не без гонора, но не жмот: сразу при знакомстве выкатил за уважуху перстень с рубином, теперь вот от щедрот своих поделился табакерочкой с бриллиантами. Опять-таки рацион, прием, обхождение. Хоть и фаворит, а явно не дурак. Широко шагает и штаны не рвет. Задницу на сто лимонных долек – тоже. Живет сам и дает жить другим. По принципу: жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Титан мозга, личность…[167]
Было уже далеко за полночь, когда, упившись чаем и уевшись кремом, Буров услышал общий сбор, а затем команду на выход. Прощание не затянулось. Каждая из дам получила по букету камелий, Анагору князь еще одарил многообещающей улыбкой, а Великому Копту по-простому сказал:
– Ну что, пойду готовить сундук. Пообъемистей.
В глазах его не было и намека на корысть – просто здоровый исследовательский интерес человека, причастного к наукам.[168] Бог с ней, с алхимией, хватает и так…
VIII
На следующий день за завтраком Елагин сказал:
– Граф, брат Строганов приглашает нас на медвежью охоту. У него небольшой охотничий домик по Выборгскому тракту. Будут братья Панины, Мелиссино и Разумовский. Ну и профаны, конечно…
Настроение у него было не очень, вернее, скверное, – на его седую голову обрушилась беда в виде очередной пьесы, написанной государыней.[169] Назывался сей шедевр «За мухой с обухом» и посвящался отношениям княгини Дашковой и графа Нарышкина. Вернее, умопомрачительным дрязгам, затеянным из-за хавроньи, забравшейся в соседский огород. Думай теперь, как поставить сей дивный опус на сцене Эрмитажного театра. Дабы не задеть ни графа, ни княгиню, ни саму императрицу. Слава Богу еще, что свиньи необидчивы. Мда…
– Ну что, охота это хорошо. – Калиостро сдержанно икнул, указал лакею на белужий схаб и перевел глаза на Бурова: – А, любезный Маргадон? Вам приходилось охотиться на медведей?
У него, в отличие от Елагина, настроение было прекрасное. Дела идут, ложа крепнет, от желающих вступить в нее отбоя нет. Как же – истинное масонство, египетский ритуал. А самое главное – рандеву с Екатериной. Потемкин слово дал, не подведет, протекцию составит. Правда, чтобы быстро, на днях, не обещал, императрица-де ужасно занята. Ну что ж, понятно очень даже, чем занята императрица, сердце у нее большое. Да, собственно, и спешить-то особо некуда, да и незачем. Как говорят русские, тише едешь, дальше будешь. А утроить золото в потемкинском сундуке, так это раз плюнуть, делать нечего, экзертиция для начинающих. Воздействовать алкагестом,[170] выделить «квинтэссенцию»,[171] добавить Archaeus[172] в алколь…[173] И все, дело в шляпе. Вот уж верно говорится, что для создания золота нужно золото.
– Нет, ваша светлость, не доводилось, – весело соврал Буров, оглушительно чихнул и далее продолжил изводить елагинские запасы перца: – Вот на львов и верблюдов в Нубийской пустыне – это да. Помнишь, Мельхиор?
Табакерочку князь Таврический подарил ему что надо – мало что с бриллиантами, так еще и с музыкой, на пять мелодий. Только вот табачок в ней был хреновый – «рульный», нюхательный, мягкий. Баловство одно. Таким врага не ослепишь и нюх собачкам не забьешь. Дело сие требовало исправления, что Буров и делал, мешая дамский табачок со злобным черным перцем. Не «кайенский состав», но и то хлеб. Пусть будет, пригодится.
– О да, да, на больших черных песчаных львов. – Мельхиор с трудом оторвался от печени палтуса, улыбнулся и радостно кивнул. – И на больших пятнистых двугорбых верблюдов. Да, да!
Он, как всегда, словно по привычке, был выше головы доволен жизнью.
На промысел выехали через день, мужеским кумпанством, на елагинском шестиконном «мерседесе». Что там отгулявшая Масленица, что там Великий пост – ели по сторонам дороги стояли в белых шалях, снега было полно, лютый мороз постреливал в оцепеневших дебрях. Зима и не думала сдаваться – стынь, льдяный звон, иглистый, пушистый иней. Красота.
Доехали часа за три, аккурат к обеду, вылезли из экипажа, с оглядочкой прошли к дому. К небольшому охотничьему, по выражению Елагина. Да, директор придворной музыки был, похоже, шутник. Дом больше напоминал дворец, невиданные хоромы, сказочный чертог, черт его знает как выросший в ингерманландских чащах. На крыше его красовались готические башни, от основного корпуса шли галереи к флигелям, все, начиная от ограды и кончая вертким флюгером, напоминало об охоте и удивляло тонким вкусом. Внутри царил все тот же антураж: скучали чучела медведей и волков, пол пышно укрывал ковер звериных шкур, вся мебель была сделана из пиленых рогов и впечатляла вычурностью и редким мастерством. На стенах хищно скалились головы трофеев, шли чередой полотна, изображающие охоту, из окон залы, где собирались на обед охотники, виднелся мавзолей, поставленный в честь кобеля Любезного, как это явствовало из эпитафии, любимого и густопсового.[174] Сей замечательный кобель был увековечен в полный рост, делающим стойку, в каррарском мраморе… Однако, несмотря на все эти отрезанные головы, содранные шкуры, оскаленные пасти, атмосфера в доме была самая благостная. Здесь, вдали от цивилизации, не было ни званий, ни различий, ни этикета. Только чувство солидарности и дружеское расположение, какое наблюдается в компании единомышленников. Никто не чванился, не надувался спесью, не загонял Бурова с гомункулом на край стола. Нет, все чинно, мирно вели беседу, отдавали должное горячительным напиткам и с чувством угощались паштетами, ростбифами, филеями и колбасами – Великий пост, как и прочие условности, здесь никто и не думал соблюдать. Хозяин дома, граф Александр Строганов, богач, гурман, эстет и хлебосол, был крайне рад приятному общению и ублажал собравшихся как мог. А мог он… сдвинуть гору.[175] В общем, за столом царили мир, дружба и полная гармония.
Вот только не было мира и гармонии у Бурова в душе – не то чтобы ненавидяще, но с какой-то глухой брезгливостью посматривал он на своих сотрапезников, на всех этих сытых, пребывающих в довольстве людей. Охотнички, мать их за ногу. Уже и не знают, как побаловать себя, во что удариться, чем пощекотать привычные ко всякому нервы. Всего горой – так теперь подавай им впечатлений. А впрочем, какие тут впечатления, это ведь не охота – убийство. Завтра поутру свора егерей с собаками поднимут из берлог медведей, криками, лаем, великим шумом выставят их на линию стрельбы, а уж дальше-то дело техники. И совершенно не важно, что порох дерьмо, ружья далеки от совершенства: каждого охотника в случае чего подстрахует пара егерей. А двухметровая рогатина с листовидным пером[176] – это убийственный аргумент даже для «лесного прокурора». Не охота это – игра в одни ворота. Убивать нужно, только чтобы выживать. Так, в неважнецком настроении Буров высидел обед, потом, изнемогая от ничегонеделанья, дотянул до ужина, посмотрел на отчаянную баталию на зеленом сукне, а когда в банке было сто тысяч и пятнадцать деревень, откланялся и пошел спать.
Приснился Бурову его геройский дед, покойный Калистрат Иванович. Натурально геройский – родом из запорожских казаков, габаритами с дверь, выслуживший на германской пластуном все четыре солдатских Георгия.[177] Ладить новую жизнь дедушка не стал, ему неплохо жилось и при проклятом царизме. Отсидев после раскулачки, он подался не на Днепрогэс – в глушь, в лесхоз, на берега Амгуни.[178] Присмотрел невесту, коя нарожала ему детей. Рано овдовев, больше не женился и, привыкнув делать все в доме сам, научился стряпать с невиданным искусством. Буров даже заворочался во сне, ощущая вкус всех этих борщей с бурячками, салом, белыми грибами, с молодой и старой фасолькой, с черносливом, яблочками и обжаренными с цибулькой свиными хвостиками. А еще Калистрат Иванович держал пасеку, и когда вдруг объявлялся невоспитанный медведь, то не убивал его, жалел. Просто ненавязчиво учил жизни. Разводил в ушате самогончик с медком, добавлял кореньев какой-то рыжей травы и, беззлобно улыбаясь, выставлял угощение. Топтыгин не гнушался – вкушал, нажравшись, ликовал, буйно радовался жизни, весело урчал, ревел, громко хлопал себя лапами по пузу, катался на спине и, наконец иссякнув, довольно засыпал в обнимочку с кадушкой. Только дрых недолго, а проснувшись, ощущал все «радости» похмелья плюс жестокие симптомы иссушающей болезни. Своей родной, медвежьей. Выворачивающей наружу все внутренности. И все, наступала полная гармония, больше ульев никто не потрошил. Лишь жужжали пчелы над душистым разноцветьем да кружились мухи над медвежьими следами. Настал и на их улице праздник. Ох, и какой же большой…
И вот утро медвежьей казни наступило. Охотников ждал ранний завтрак, гостеприимный хозяин и обширный ружпарк с шедеврами Пюрде, Мортимера, Ланкастера и прочих знаменитых мастеров. С удивлением Буров заметил, что спиртного никто не пил, а когда стали выбирать оружие, то и вовсе по-хорошему изумился: ни Мелиссино, ни Строганов, ни Разумовский, ни прочая масонская братия даже не взглянули в сторону ружей Лазиро-Лазарини, стволы которых, говорят, столь пластичны, что, будучи помяты, легко восстанавливают свою форму после первого же выстрела. Нет, не затмив разум ни каплей спиритус вини, Macons acceptes взялись за рогатины. Буров, не мудрствуя лукаво, тоже выбрал охотничью остроушку – массивный двухлезвийный нож на длинном древке, плотно оплетенный узким ремешком и обитый гвоздиками. Калиостро не взял ничего, усмехнулся криво, то ли покровительственно, то ли снисходительно – не понять.
– Oser, Fratres, oser. А мой удел – savoir.[179]
Ладно, оделись поисправнее, расселись по саням, тронулись. Ехали недолго, с полверсты, вылезли на большой поляне и, углубившись в лес, встали, растянувшись в линию. Отовсюду, спереди, с боков, слышался великий шум, звук рогов, выстрелы из ружей, яростный лай собак – это уже гнали поднятых из берлог медведей, как донесли еще за завтраком доезжачие, в количестве полудюжины голов. Гнали на убой.
Буров стоял у исполинской, напоминающей Александрийский столп сосны, вдыхал всей грудью морозный воздух и некстати вспоминал, как его дед перевоспитывал медведей. Справа нюхал табачок, отчаянно чихал сопливый Калиостро, слева поигрывал рогатиной бравый Мелиссино, неподалеку веселый Разумовский смотрел, как скачут белки по заснеженным ветвям. Тут же находились двое гайдуков в вычурных, со шлыками, бараньих шапках, бдели, жрали графа бешеными глазами, трепетно баюкали массивные фузеи. Не дай Бог что случится с их сиятельством-то. Башку сразу снимут, вместе с шапкой… А шум, гам, лай все нарастал, близился, накатывался девятым валом. Наконец минут через десять вдруг послышались крики: «Медведь! Медведь!», воздух резко разорвали выстрелы, и из чащобы прямо на Калиостро пулей выскочил рассерженный Топтыгин. По-собачьи, на четырех, наклонив лобастую голову. А уж ревел-то, ревел. Понять его было несложно: ну и жизнь, ни посрать, ни пожрать, ни поспать.[180] Разбудили, твари двуногие, давят на психику, травят собаками. Куды Топтыгину податься… Ну щас я вам…
На Востоке говорят: загнанный в угол шакал становится тигром. А здесь не дворняга джунглей – пудов под двадцать клыков, когтей и жилистой сильной плоти. И шкура, которую не сразу-то и пробьешь. В общем – жуть.
Только Калиостро был, как видно, не из пугливых. С ухмылкой он захлопнул табакерку, сделал шаг вперед и, с резкостью взмахнув рукой, стал вычерчивать ею замысловатую кривую. И душераздирающий рык сразу стих. Медведь будто с ходу налетел на невидимую стену – замер, замотал башкой и, тонко заскулив на какой-то жалостливой ноте, мягко повалился в снеговую перину. Из его ужасной, широко разверстой пасти струйкой потянулась кровь.
– О, Бог мой! «Астральные шары»![181] Отрицательные флюиды! Какая концентрация! – выдохнул в экстазе изумленный Мелиссино, гайдуки синхронно, наплевав на бдительность, начали креститься, а Разумовский обрадовался и важно подтвердил:
– О да, transfert de force psyshique,[182] сомнений нет – вот он, Corona Magica,[183] Ars Magna.
– Людям лучше не есть. Отдайте собакам, – небрежно, ни к кому конкретно не обращаясь, промолвил Калиостро, порывисто вздохнул, хотел было понюхать табачку, но передумал, резко дернул головой. – Что-то у меня замерзли ноздри. Вернусь-ка я в сани.
Покрутил по-кроличьи носом, развернулся и вразвалочку, ни на кого не глядя, побрел прочь, сам со спины похожий на матерого медведя. Шатуна.
– Ну вот еще, собакам! Потемкину пошлем, – хмыкнул ему в спину Разумовский,[184] сдвинул набекрень бобровую шапку, громко рассмеялся, как видно, своим мыслям, но тут же веселие отбросил, сделался серьезен – на него выкатился из-за кустов и попер чертом огромный ревущий медведь. Не такой, правда, огромный, как у Калиостро, но тоже не подарок, пудов на пятнадцать. К тому же, ощущая на себе хлыст человеческого взгляда,[185] устремился он с вполне конкретными намерениями. Только ведь и Разумовский тоже был совсем не подарок[186] и долго раздумывать не стал. Точно вымерив дистанцию и мастерски поймав ритм, он коротко, без размаха всадил рогатину прямо в «убойную переднюю часть зверя» – в грудь. Удар был хорош, даже слишком, – отточенная сталь пронзила шкуру, прошла сквозь плоть, раздробила ребра и глубоко увязла в тверди позвоночника. Да, постарались их сиятельство, не пожалели сил – приложились так, что сломалась поперечница. Медведь издох сразу, без муки, лохматой бурой тушей вытянулся на снегу.
– Браво! Брависсимо! – с бодростью, радуясь за брата, отсалютовал рогатиной Мелиссино, гайдуки с облегчением вздохнули, а Бурову вдруг резко привалило счастье в виде исполинского – сразу-то и не поймешь: то ли наш, то ли гризли,[187] – растревоженного медведя. Великолепный экземпляр – килограммов, наверное, под триста пятьдесят, а может, и поболе: четырехдюймовые, пусть и тупые, а с легкостью снимающие скальп когти, могучие лапы, способные сломать хребет лосю, пасть, полная хоть большей частью и коренных, но ох каких внушительных зубов.[188] Одно слово, зверь, хищник, машина для убийства. Однако у медведя было хорошо не только с когтями, но и с головой. Кинувшись было к Бурову, он вдруг замолк, остановился, шумно потянул ноздрями воздух и резко откорректировал курс – рванул к Разумовскому. Не захотел, как видно, связываться с этим матерым саблезубым огненно-красным зверем. К тому же еще и рогатым. На фиг, себе дороже, лучше к их сиятельству.
– Медведь! Медведь!
Гайдуки, словно по команде, вскинули фузеи, задержали дух, примерились, спустили курки. Да только без толку – у одного ружье дало осечку, другой выпалил в белый свет, словно в копеечку. А Разумовский, как ни старался, все никак не мог вытащить рогатину из медвежьего хребта. Ситуация на глазах становилась безрадостной, более того – угрожающей, и Буров это осознал, пожалуй, быстрее всех.
– Эва! – бросился он следом за медведем, уже на ходу почувствовал, что может не успеть, и, не раздумывая, на автомате метнул рогатину в лохматый болид. Пусть остановится, переключит внимание, а там, глядишь, и Разумовский сподобится как-нибудь привести себя в боевую готовность. Главное – попасть, взять тайм-аут, потянуть время. Буров попал, причем хорошо – на полдлины пера, в правый окорок. А вот медведь брать тайм-аут не стал: дико заревел, развернулся и полетел на обидчика. Терять ему, окромя рогатины, торчащей из зада, было решительно нечего. С рыком он вынырнул из снежной круговерти, подскочил к человеку с намерением убить и страшно удивился, даже застыл от любопытства, когда тот бросил ему в морду чалму. Это еще что такое? Медведь с невероятной ловкостью поймал презент, мощно взял на зуб, превратил в лохмотья, а едва раздался свист, встал на задние лапы и, загребая передними, пошел в атаку. Только Буров этого и ждал. Со звериной чуткостью держа в руке нож, он стремительно вышел на дистанцию. На миг в глаза ему бросились желтые клыки, огромный фиолетовый язык, в нос ударило отвратительное зловоние, затем сверкнула золингеновская сталь, и владыка леса рухнул мертвым – острый, многократно испытанный засапожник[189] вошел ему точно в сердце. Что-что, а рука у Бурова была крепкая.
– Ну как, жив? Ай да молодец, сущий Ганнибал! – подбежал бледный от увиденного Мелиссино, не тая эмоций, хлопнул Бурова по плечу. – Даром что арап, хоть сейчас в гвардию!
– Да, крупный экземпляр, – подошел мрачный, словно туча, Разумовский – от его былой веселости не осталось и следа. – Пудов, верно, двадцать с гаком.
Не говоря более ни слова, он уставился на жеваную чалму, сплюнул, шумно выдохнул, покачал головой и свирепо, раздувая ноздри, повернулся к гайдукам:
– По сто плетей, хамы! И в солдаты.[190] Там вас стрелять научат.
Потом сорвал с головы одного шапку, осчастливил Бурова:
– На, не мерзни. А тюрбан мы тебе справим новый. Ну, спаси Бог, выручил, не дал пропасть…
Неожиданно резко и порывисто обнял Бурова, но сразу отстранился и пошел прочь. Рекруты гайдуки смотрели ему в спину с ненавистью.
Скоро охота закончилась, вернее, закончились медведи. Мертвых исполинов доезжачие сволокли вместе, сняли с них шкуры и отрезали задние лапы, мясо которых позже подали жареным к обеду. Только Буров его есть не стал, Разумовский тоже. Архангельская телятина, шпигованная чесночком, куда приятнее. Намного легче для желудка и для души…
В город возвращались еще засветло, полным ходом, а впереди, обгоняя лошадей, летела птицей молва: волшебник-то, Калиостро… А арап-то, тот, что Трещалу завалил… Вот это да! Ну и ну! Да, дела…
А на следующий день рано утром пришла посылочка от Разумовского. Бывший гетман, как и обещал, справил Бурову новую чалму. Она была приятного колера, изящной формы и декорирована брошью размером с ладонь. Бриллианты, рубины, изумруды и сапфиры поражали размерами и качеством огранки.
IX
У каждого своя охота. Пока Буров и Калиостро изводили крупных хищников, Потемкин и Анагора тоже времени зря не теряли. Владыка Тавриды, оказывается, увез порнодионку к себе, и возвратилась та лишь на третий день – усталая, красивая и заневестившаяся, с бесстыдным блеском в ошалелых глазах. От переизбытка впечатлений, от переполнявших ее чувств она сделалась убийственно болтлива, требовала внимания и перманентного общения и, позабыв про такт, сдержанность и стыд, работала языком, словно метлой. Скоро Буров – да что там Буров! – все узнали, что князь Таврический неутомим, как бык, любвеобилен, страстен и в махании амурном[191] зело приятен, обожает грызть сырую репу, редиску и морковь, а министров принимает по-простому, не церемонясь, – босиком, в халате нараспашку, с голой грудью. Ну право же, такой Геракл, Аполлон Таврический, шарман и симпатик. В нее же, Анагору, влюбился без памяти, подарил горсть бриллиантов, жемчугу несчитано и, как пить дать, скоро предложит руку и сердце. И небезответно, видят боги, небезответно…
Если и раньше девушка блистала больше ляжками, чем умом, то теперь вообще… Словесный понос прогрессировал в вербальную дизентерию. По идее, конечно, фонтан этот следовало немедленно заткнуть, а Анагоре указать, чтоб впредь держалась скромнее, да только Калиостро было не до того: его (правда, за глаза), обозвали вором, мошенником, банальным шарлатаном и вызвали на дуэль с правом выбора оружия. Лейб-медик Роджерсон расстарался, распушил хвост, как видно, усмотрел опасного соперника, каналья. Вероятно, не понравилось ему, что заезжий маг вылечил графиню Бобринскую от родильной лихорадки, бригадира Ротмистрова – от падучей и паралича, а княжну Волконскую – от падагры, сепсиса и прогрессирующего слабоумия. Самому-то слабо, теперь вот, гад, и выступает. С одной стороны, это было даже хорошо – реклама двигатель торговли, а вот с другой… Лишняя потеря времени и нервов. Как бы там ни было, а наглецу следовало дать достойнейший отпор, так, чтобы и императрица поняла – Калиостро прибыл с серьезными намерениями.
– Проткните его шпагой, брат магистр, и всего делов, – с убийственным спокойствием посоветовал Елагин, и ноздри его носа хищно раздулись. – Насадите этого мерзкого червя на булавку. С вашими-то способностями, мессир, это раз плюнуть.[192]
Сам он убивал людей неоднократно и особых угрызений совести по этому поводу не испытывал.
– А может, все же лучше взорвать его к чертям собачьим? – выразил сомнение хмурый Мелиссино, и худощавое, породистое лицо его несколько оживилось. – Пуд, а лучше два, пороху в карету. Правда, лошадей и кучера жаль…
Человек военный, привыкший мыслить с размахом, он во всем любил основательность и масштабный подход.
– Да бросьте вы, брат, ваши игры в Суворова. Шум, гам, кому это нужно? – отозвался Разумовский, сделал резкий жест, поднялся с кресла и с учтивым поклоном повернулся к Калиостро: – Одно ваше слово, великолепный брат магистр, и от этого лекаришки не останется и следа. Ну разве что круги на воде. Или небольшая кучка земли. Только дайте знать.
Практик и прагматик до мозга костей, он привык всегда действовать по принципу: не эффектность, а эффективность.
– Братья, вы, похоже, забыли, что In Nobis Regnat Iesus.[193] Ну право же, так нельзя. – Строганов порывисто вздохнул, сделался угрюм и сосредоточен. – Может, дать этому Роджерсону денег? Много! Чтоб угомонился!
У него самого денег было столько, что никогда никаких проблем ни в чем не возникало.
– Браво, брат! Все правильно, пусть угомонится. – Мелиссино с чувством кивнул, и в больших оливковых глазах его вспыхнули огни. – А выждав время, мы его успокоим навсегда…
Послушал-послушал Калиостро единомышленников, посоветовался с Spiritus Directores,[194] да и послал лейб-медику ответ, писанный с иезуитской изощренностью: мол, ладно, заметано, согласен, дуэли быть. Только не банальной, а с токсическим уклоном: каждому надо будет выпить яд противника, а затем, само собой, не откладывая дело в долгий ящик, нейтрализовать отраву. Чтобы самому в ящик-то… Так что чье противоядие будет лучше, тот и победит. Хотя, без сомнения, антидот царя Митридата,[195] полученный им, Калиостро, от самого изобретателя, является самым действенным уже на протяжении двух тысяч лет. В общем, пишите завещание, готовьте дубовый макинтош, обувайте белые тапки. До встречи.
Только рандеву не состоялось, более того, Роджерсон даже не ответил на послание – поскучнел, притих и заткнулся с концами. А Калиостро, дабы неповадно было, подверг несчастного лейб-медика еще и энвольтованию:[196] вылепил его восковую копию, истыкал ее иголками и в конце концов превратил в бесформенную массу. И долго потом несчастный эскулап страдал желудком, головой и вялостью члена, проклиная тот день, когда связался с этим поганым итальянцем, продавшим – и это уж как пить дать! – свою ничтожную душонку дьяволу…
А между тем все-таки пришла весна. В парке у Елагина просели сугробы, прямо по Саврасову прилетели грачи, с крыш бессильно свесились фаллосы сосулек, снежное убранство города превратилось в талую грязь. И сразу стало обескураживающе ясно, что улицы в основном стланы досками,[197] берега Невы лишь в малой своей мере забраны в гранит,[198] а канализация еще только строится.[199] Зато набухли почки в скверах и садах, извозчики сменили сани на роспуски и дрожки, и Медный всадник расстался наконец со своей белой, словно саван, пелериной. Весна пришла в стольный град Петров, зажурчала мутными ручьями, обозначилась колесным скрипом, зачирикала по-воробьиному, разразилась судорожным кошачьим мявом. Весна… Пора любви, страстей и пения гормонов. Время совершения ошибок, подвигов и несусветных глупостей…
Да уж… Князь Таврический, к примеру, разошелся не на шутку, повадился теперь по три раза на неделе умыкать порнодионку в свой чертог, естественно, на ночь глядя, с концами, до утра. Анагора возвращалась взволнованная, счастливая, преисполненная эмоций, демонстрировала подарки и делилась впечатлениями. Со всеми смачными подробностями, скорее интимными, чем пикантными, коих в нескончаемых ее россказнях содержалось множество. В общем, вела себя глупо, вызывающе, громко кликала невзгоды на свою дурную голову. Однако Калиостро пока не вмешивался, сопел, хранил зловещее молчание – ждал, когда же все-таки князь Таврический устроит ему встречу с императрицей. Пора бы уже, пора, сундук с проклятым металлом поспел, давно дошел до нужных кондиций. Все, что должно было быть утроено, – с гарантией утроено. Так что хорошо бы деньги против стульев, как и уговаривались. А потом, откровенно говоря, великому волшебнику было просто некогда – он взял работу на дом. Собственно, подбросили враги, а отказаться не было никакой возможности.
А случилось так, что у графа Рокотова смертельно занемог наследник, единственный сынок, грудничок-кровинушка, одиннадцати месяцев от роду. Консилиум эскулапов с лейб-медиком во главе вынес беспощадный вердикт: исход, без сомнения, летален, наука медицинская здесь бессильна. И тут сволочь Роджерсон, желая насолить, с наигранным участием заметил:
– Ну разве что поможет волшебство. Обратитесь-ка вы к графу Фениксу. Вот кто дока по части чудес, так уж дока, говорят, для него нет ничего невозможного.
Утопающий хватается за соломинку. Безутешный отец привез Калиостро кучу золота, привет от Роджерсона и больного младенца. Вернее, доставил уже отмучившимся. Куда волшебнику податься – пришлось взять, с условием полного выздоровления где-то в течение месяца: именно за это время без труда можно вырастить приличного гомункула. И вот на крылах надежды граф Рокотов отчалил, а Калиостро, проклиная свою долю, принялся за спагирическое,[200] действо. Алхимическая процедура была хоть и отлажена, но весьма непроста: сперва требовалось поместить человеческое семя в плотно закупоренную бутыль, затем бутыль – в лошадиный навоз и уж только потом заниматься истечением флюидов – «магнетизированием». Итак, все началось со спермы. С тонкой проницательностью Калиостро понял, что наследник мавр или индус будет графу Рокотову явно не по душе, а потому озадачил в плане семени посвященного из Монсегюра. Тот, несмотря на consolamentum[201] принес в избытке, лошадиный навоз тоже нашелся без труда, и процесс пошел. А труп законного наследника графа Рокотова Калиостро расчленил, извлек arcanum sanguinis hominis,[202] коагулировал и заключил в нефритовый сосуд, запечатанный именем Невыразимого. Пусть будет, пригодится.
Однако Бурова все эти алхимические дебри трогали мало. Ему больше нравилось бродить среди зарослей елагинского парка, думать о своем, смотреть на черные скелеты кленов, с чувством, не спеша, месить размякшие хребты аллей. Ласково светило солнышко, с бодростью свистели птички, мысли были добрые, несуетные, ленивые. Ползли себе по кругу обожравшимся питоном. Сытым, тяжелым и пока что неопасным. Эх, хорошо, когда некуда спешить… И вот однажды, когда все вокруг дышало миром и великолепием, а на душе у Бурова царила полная гармония, из-за деревьев вышли трое. Вразвалочку, с оглядочкой. Ба, знакомые все рожи – это были три богатыря от Орлова-Чесменского: Ботин, Соколин да Сема Трещала. Мудозвоны, клоуны тряпичные, уже как-то битые Буровым на невском льду. Неужели им, падлам в ботах, все мало! А утро-то такое благостное, а солнышко-то такое ласковое, а на душе-то так уютно, приятственно. Не дай Бог какая сволочь нарушит гармонию. «Ну все, если только сунутся, убью, – твердо, про себя, решил Буров, насупился и непроизвольно потянулся к сапогу, где покоился испытанный в мокром деле ножичек. – Загрызу, придушу, четвертую и утоплю в пруду. Вот ведь суки, неймется им!»
Однако богатырская рать пришла не «на вы», с миром.
– Ну, что ли, здравствуй! – сразу покладисто сказал Соколик и горестно вздохнул. – Эфиоп ты наш рукастый!
Говорил он, из-за выбитых зубов, шепеляво, а выглядел, из-за свернутого клюва, неважно.
– И ногастый! – с вескостью подтвердил Ботин и непроизвольно тронул плавающие заживающие ребра. – Еще какой…
– По здорову ли, Маргадонушка? – протянул огромную, лопатообразную ладонь Трещала, и щекастое, все еще обвязанное тряпицей лицо его умилилось улыбкой. – А мы ведь, сударик, к тебе по делу. Их сиятельство граф Орлов-Чесменский прислали. С поручением.
Он кашлянул, выдержал недолгую паузу и начал разговор издалека.
– Волшебник-то твой как, харчем не обижает? А денежным припасом? А блядьми? Как живешь-то, Маргадонушка, можешь? Не тужишь?
– Да шел бы ты, сударик, к нам, от своего-то нехристя, – с ловкостью встрял в беседу ухмыляющийся Соколик и мощно крутанул тростью, какую по причине нездоровья держал теперь в руке вместо «маньки». – Граф Алексей Григорьевич магнат, фигура видная, не обидит. Да и в обиду не даст. Опять-таки прокорм, полнейшее довольствие, почет и уважение. И по блядской части изрядно. Скажи, Семен?
– Еще как изрядно, – с важностью кивнул Трещала, крякнул, сунул руку в карман штанов и энергично почесался. – Давай, давай, Маргадонушка, сыпь к нам. Кулобой[203] ты заправский, знатный, будешь у их сиятельства словно сыр в масле кататься.
– Все рыло будет в меду и в молоке, – веско пообещал Ботин, высморкался и снова тронул стонущие плавающие ребра. – Так что передать их сиятельству графу Орлову-Чесменскому?
И ведь спросил, гад, точно с интонацией покойного Филиппова из бессмертного шедевра про Ивана свет Васильевича, который все меняет свою профессию: «Так что передать моему кеннингу? Кемский волость? Я, я».
– Передай, что сразу соглашаются только бляди, – с твердостью ответил Буров, сухо поклонился и сделался суров. – А еще скажи, что Маргадон благодарит за честь и будет думу думать. Дело-то ведь непростое, нешутейное. А как надумает – свистнет.
Все правильно – отказаться никогда не поздно, а запасной вариант, он карман не тянет.
– Так ты смотри, передай Маргадону, чтобы он… Тьфу… В общем, давай, давай побыстрее, не томи, – обрадовались богатыри, с чувством поручкались с Буровым и с важностью отчалили.
Глядя на них, Буров вспомнил дурацкий, да к тому еще и бородатый анекдот про Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича, который был вечно недоволен происходящим. «Не хочу! Не буду! Не стану! А-а-а!» Вот ведь память стерва, так и тянет зубами и когтями назад в прошлое, в прожитое, в двадцать первый век. А может, оно и к лучшему. Как там говорили-то древние – пока я мыслю, я живу? Фигушки. Пока я помню, я живу.
Где-то до полудня прогуливался Буров, любовался на белочек, панибратствовал с природой, а проголодавшись до кондиций санитара леса, отправился обедать, благо процедура столования у Елагина была проста, необременительна и поставлена широко, по хлебосольному принципу: нам каждый гость дарован Богом. Любой мог заглянуть на огонек, главное лишь, чтоб был он «видом приятен и ликом не гнусен», то есть в доброй одежде, с хорошими манерами и не на рогах, а на ногах. Сейчас же на пороге аванзалы к нему подскакивал лакей в ливрее, трепетно, с бережением снимал шубу, принимал с поклонами шапку и трость и препровождал к столу, уставленному водками, икрой, хреном, сыром, маринованными сельдями, ветчиной, бужениной, колбасами и эт сетера, эт сетера, эт сетера…,[204] Это был совершеннейший фуршет, здесь правил дух самообслуживания. Зато уж когда, изрядно выпив и, само собой, как следует закусив, гость подавался в соседнюю, освещенную в два света залу[205] сразу же к нему спешил улыбающийся дворецкий и с поклонами усаживал за необъятный табльдот. Мгновенно появлялись меню, салфетки, расторопнейшие лакеи и, как следствие, все благоухающие изыски русских и французских кухонь. Нежнейшие, свежайшие, восхитительнейшие на вкус. Да еще на халяву. А на нее, родимую, говорят, и уксус сладок.
– Филимон, отнеси ко мне. – Буров сбросил беличью, крытую бархатом кирею, сдвинул набекрень чалму и бодро, сглатывая слюну, направился к закусочному столу – угощаться балычком, икрой, редиской и прочими разносолами. Горячительного днем, а тем более наедине с самим собой он старался не употреблять – стрессов ноль, впечатлений минимум, так стоит ли понапрасну травить организм? Вот пожрать… Народу, то ли по причине раннего времени,[206] то ли ввиду раскисших дорожек, решительно не было – Буров индивидуально взял на зуб рыжиков под хреном, съел в охотку копченого угря, принял от души икры, паюсной, зернистой и с оттонками, отдал честь стерляжьему присолу, потребил изрядно заливного и ветчины и, преисполненный энергии и желудочного сока, отправился в обеденную залу. И сразу словно очутился на литературных чтениях – над табльдотом взмывали, барражировали, заходились в пике рифмованные строки. Только вот изящной словесностью здесь и не пахло – густо отдавало борделем, похотью, альковом, задранными юбками и спущенными штанами. А декламировал, размахивая вилкой, тощий, занюханного вида человек с лицом испитым, ерническим и донельзя блудливым. Возраст его был так же неуловим, как и взгляд бегающих глаз – мутных, потухших и остекленевших, какие бывают у людей с тяжело травмированным носом. Чувствовалось, что человек этот горячечно, невероятно пьян, но тем не менее еще способен покуролесить изрядно. Публика на матерную декламацию реагировала по-разному: Лоренца, плохо понимавшая по-русски, скучающе зевала, индус, начхав на слог и рифму, замозабвенно пил, скалящийся Мельхиор радовался жизни, а какой-то господин – при добром сюртуке, бриллиантовой булавке и сыне, один в один фонвизинском недоросле, косился в сторону Елагина недобро, с гневом – ай да бардак, ай да непотребство, в доме у директора-то театрального! Мат, срам, лай, блуд, стоило вести дите кормиться в этакий-то вертеп. Завтра же их светлости графу Панину все будет доложено в полнейшей обстоятельности…
Сам же хозяин дома смотрел на декламанта с уважением, благоговейно, трепетно внимал каждому его слову, млел и одобрительно кивал: «Ах, какой слог! Какой стиль! Вот он, пример для подражания![207]».
«Э, да никак это Лука Мудищев! – Буров, в бытность свою юниором начитавшийся всякого, сел за стол, заказал похлебку из рябцов с пармезаном и каштанами и взялся за расстегайчик с вязигой. – И, разрази меня гром, в исполнении автора![208]»
- – Мелки в наш век пошли людишки:
- Уж нет хуёв, одни хуишки, —
выдал между тем поэт, вспомнил про огурец на вилке, смачно откусил и громко, на смущение всем, жуя, глянул многозначительно на Лоренцу:
- Без ебли, милая, зачахнешь,
- И жизнь те будет не мила.
- Смогу помочь такому горю,
- У мя саженная елда.
– Мерси за угощение. Премного благодарны, – молвил, не дождавшись сладкого, осюртученный господин, с резкостью поднялся и грубо поволок из-за стола красного от восхищения недоросля. – Пошли, обалдуй, пошли, обормот. Нечего тебе это слушать, уши отпадут.
Да-да, завтра же их светлости графу Панину в полнейшей обстоятельности…
– Ну вот еще, не зачахну, – наконец-то переварила сказанное Лоренца, и прекрасное, словно у Рафаэлевой Мадонны, лицо ее сделалось печально. – У меня ведь есть муж, законный супруг… Граф Феникс, не слыхали?
Печалилась она не просто так: Великий Копт в последнее время дневал и ночевал в ротонде, у кучи лошадиного дерьма, где находилась герметичная емкость с зародышем будущего гомункула. Вот уж воистину – сажать вручную человека[209] дело непростое и хлопотливое.
– И слышать не желаю. – Фыркнув, литератор выпятил губу, грузно, словно куль с мукой, плюхнулся на стул, осоловелые глаза его стали закрываться. – Что нам графья, тьфу! Нас матушка императрица слезно благодарила, столом обильным трактовала и серебром жаловала…[210] Самодержица наша… Надежа и опора… Помазанница Божия… Так их всех, растак… И этак… Ебли ее и молодые, и старые, и пожилые, все, кому ебля по нутру, во вдовью лазили дыру…
Он оглушительно рыгнул, витиевато выругался и, ткнувшись мордой в раковые шейки, громоподобно захрапел. Со стороны казалось, будто он отдает черту душу.
– Какой дар Божий! Талантище! – Елагин уважительно вздохнул, почтительнейше склонил седую голову и пальцем, так, что брызнули рубиновые сполохи, поманил улыбчивого дворецкого. – Почивать господина поэта отведи в розовую гостиную. А как проснется, похмели по моей методе,[211] посади в экипаж и облагодетельствуй, – на мгновение он замолк, кашлянул и самодовольно хмыкнул, – двумястами рублями, серебром.
Глянул, как трепетно, с великим бережением Баркова потащили из-за стола, выпил не спеша чашку кофе, встал и, с дружеским расположением кивнув гостям, тоже подался из трапезной – к себе, в кабинет, работать. Думать, как изобразить явление свиньи народу на сцене Эрмитажного театра. Той самой, из-за которой их сиятельство граф Нарышкин грызся с их светлостью княгией Дашковой.
«Да, что-то плох столп срамословия, видно, скоро ему в камин».[212] Буров между тем приговорил похлебку, споро разобрался с филеем по-султански, справился с говядиной, гарнированной трюфелями, и стал приделывать ноги бараньей ноге. Расхристанный матерщинник-рифмоплет его не впечатлил. Все его словоблудие от несварения желудка, от желания выпендриться, от банальной зависти к более удачливым. Чьи музы, естественно, дешевые бляди.[213] И почему-то вспомнился Бурову зоновский простецкий вийон[214] Паша по прозвищу Крендель, оставшийся там, в лагере, в двадцать первом веке. Тот вот не бравировал знанием физиологии, не бубнил по муди на блюде, не хвалился личным опытом в области «женоебли». Нет, писал о том, что наболело, искренно, от души:
- Автомат глядит мне в спину,
- Как на стрельбище – в спину мне.
- Этапирую на чужбину,
- На чужбину в родной стране…
Или:
- Звенят на ремне вертухая ключи,
- Ночами он, падла, ногами сучит,
- Вот взять бы его за очко посильней,
- Чтоб, сука, не шастал у наших дверей…
Верно говорится, что бытие определяет сознание. Посадить этого Баркова в БУР этак на месяц – быстренько забудет про любовь и начнет сочинять вирши про жратву. Какой стол, такова и музыка…
Так, в раздумьях о возвышенном, Буров отдал честь «гусю в обуви», не погнушался горлицами по Нояливу и бекасом с устрицами, потребил гато из зеленого винограда, выпил кофе с «девичьим» жирным кремом и почувствовал вдруг с несказанным удивлением, что не то что есть – смотреть на еду не может. Пора было переходить от принятия пищи к активному приятному ее усвоению. Буров так и сделал – проиграл пару партий монсегюрцу в шахматы, побродив по галерее, пообщался с фламандцами и, испытывая потребность в энергичных движениях, потянул Мельхиора в фехтовальную залу – тот совсем неплохо махал эбеновой дубинкой и бронзовым палашом-кхопишем. В общем, день как день, даром что весенний – блеклый, неинтересный, отмеченный ничегонеделаньем. Примечательного ноль. Тоска. Впрочем, здесь Буров ошибался, опережал события – вечер-то выдался занятным, и весьма, полным таинственности, экспрессии и интриги. А уж эмоций-то, эмоций…
Сразу после ужина раздался стук копыт, весело всхрапнули осаженные лошади, и в аванзале послышались шаги – это явилась не запылилась Анагора, загостившаяся у Потемкина. Но Господи Боже ж мой, в каком виде! Бледная, зареванная, в сбитом набок «шишаке Минервином».[215] Судорожно всхлипывая, закусив губу, она молнией метнулась к себе, только выбили невиданную чечетку башмачки-стерлядки[216] да обмел наборные полы подол «робы на манер принцессиной», чертовски пикантной. Хлопнула дверь, застонала кровать, раздались рыдания. Похоже, рандеву выдалось не совсем удачным.
«Вот-вот, зачем вы, девочки, богатых любите», – посочувствовал порнодионке Буров и отправился по новой в фехтовальный зал, а тем временем для установления истины и принятия адекватных мер из ротонды был вызван Калиостро. Скоро к делу подключился Елагин, и начали открываться подробности. Таинственные, жутко интригующие. История, случившаяся с Анагорой, была необычайна и не то чтобы завораживала – настораживала. Когда, размякшая и счастливая, возвращалась она от князя, то, естественно, даже не заметила, как на облучке поменялся кучер. Вскоре заехали в какой-то двор, карета встала, и незнакомый зверообразный человек завел ее, бедняжку, в мрачную комнату. А там седенький старичок сидит под образами, просфору жует, весь такой ласковый, благостный, приветливый. Здравствуй, говорит, душа-девица. Не стесняйся, милая, будь как дома. И с улыбочкой эдакой располагающей указует Анагоре на кресло. Садись, милая, садись. В ногах правды-то нету. Пытать ее надо, родимую, пытать…
Анагора, еще не понимая ничего, взяла да и села. И тут же хитроумная механика приковала ее руки к подлокотникам, а само кресло провалилось вниз, так что над полом остались лишь голова и плечи. Жуть. Однако это были еще цветочки. Снова, видимо, сработала хитрая механика, так как кресло вдруг осталось без сиденья, и опытные руки, заворотив подол, стали стаскивать с Анагоры панталоны, шелковые, французские, в блондах и кружевах, надетые с любовью для Потемкина. Трудно даже представить, что она, бедняжка, испытала в этот миг – ужас, стыд, смятение, позор. Неужели она попала в лапы к изощренным развратникам и сейчас у нее заберут все самое дорогое, что имеется в запасе у честной девушки? О, если бы так! Свистнул рассекаемый воздух, и от резкой, невыносимой боли Анагора обмочилась – это пошла гулять по ее бедрам, по сахарным, белоснежным ягодицам плеть-семихвостка. Еще хвала богам, что не кнут, кончик которого замачивается в молоке и высушивается на солнце, отчего становится твердым и острым, словно нож.[217] Старичок же с просфорой подошел, присел на корточки и ну давай учить Анагору жизни – ты-де, девка, под их сиятельство Григория Александровича не подлаживайся, а то будешь вечно с подрумяненной задницей. И языком-то, слышь, девка, не болтай, а то быстренько останешься без языка-то. У нас здесь с этим просто, без мудрствований. Ну, а потом вроде как подобрел и принялся вопросы задавать всякие разные: чем занят нынче маг Калиостро, да как его жена, да что за люди-человеки крутятся вокруг? Есть ли фармазоны, много ли жидов? А снизу все свистит-посвистывает семихвостая плеть, вольно похаживает себе по бедрам да по ягодицам. Ох! В самом кошмарном сне такое не привидится. От стыда, боли, потерянности и муки Анагора впала в какой-то жуткий ступор, она даже не заметила, как опять очутилась в карете, как откуда-то взялся прежний, тоже не понимающий ничего кучер и, мотая гудящей головой, трудно взялся за неподъемные возжи. Кто, что, откуда, зачем? Только-то и ясно, что у кого-то болит башка, а у кого-то адским пламенем полыхает задница. В общем, темная история, кромешный мрак, совершеннейшая тайна, сплошные непонятки.
Однако если и было что загадочного в случившемся, то только не для обер-гофмейстера Елагина.
– М-да, а ведь длинный язык доводит не только до Киева, – мудро, аки змей, заметил он, вытащил платиновую табакерку и дружески, с шутливой назидательностью воззрился на Калиостро. – А еще и до беды. Грация-то ваша болтливая, брат, побывала в гостях у инквизитора нашего российского, Степки Шешковского.[218] У мизерабля сего для подобных случаев оборудован особый дом в Аничковской слободе, неподалеку от пересечения Невского и Фонтанной. А кресло с секретом изготовил Ивашка Кулибин, механик при Академии.[219] Он мне еще машину делал в Эрмитажном театре для эллинских трагедий. Deus ex machina,[220] у меня теперь чертом из табакерки скачет.
Он шумно потянул ноздрями табачок, покрутил раздвоенным на конце массивным носом и чихнул, будто выстрелил.
– Такие вот, любезный брат, дела у нас в отечестве. Ежели глянуть в корень, Торквемаде-то нашему все едино, с кем машется Потемкин-Таврический, да только он не сам по себе – человек государственный. – Елагин хмыкнул с циничной откровенностью, опять оглушительно чихнул и, хоть были они в комнате с Калиостро вдвоем, с оглядочкой перешел на шепот: – А во главе государства-то кто? Матушка императрица. Вот ей-то совсем не по нраву, когда воруют у нее, а потом еще болтают языком.[221] Хотя, чаю, и сам Шешковский не без умысла. Нет бы просто поздравить задницу с праздником. Так ведь нет – вопросы, расспросы, высказывание интереса. Ищет все крамолу, пес, за то и обласкан, и в бриллиантовом ошейнике. Такому и кости не надо – дай только вцепиться в глотку.[222] Достукается – будет на живодерне… Вот с кого бы хорошо содрать шкуру. Ну а потом сделать чучело и поместить в Кунсткамеру, к уродам. Потому как монстр. Кстати, уважаемый мессир, как там поживает ваш гомункул? Магнетизировали уже? И каков же aquastor?[223] Удался?
Тихий голос его внезапно окреп, в сузившихся глазах вспыхнули огни, он даже забыл про открытую табакерку – так была приятна и близка ему алхимическая тема. Какая там императрица, происки Шешковского и рульный табачок! Гомункул, творимый из Mysterium magnum,[224] тщательно, в соответствии с архаусом, с полным отделением плотного от тонкого – вот это да!
– Весьма неплох, весьма. Дозревает, – не без профессиональной гордости ответил Калиостро, с пафосом вздохнул и ненадолго отвлекся от реалий плотной сферы. – Однако не так быстро, как хотелось бы. Слишком много abessi в Астрале, не тонкие планы, а сплошной rebis.[225] Ну ничего, я добавлю spiritus vitae,[226] подкорректирую evestrum.[227] Как это говорится у вас, русских? Будет как огурчик. Ха-ха…
Ужасная история, случившаяся с Анагорой, его нисколько не тронула – поделом же ей, этой шлюхе, дешевке и дряни, единственное достоинство которой только в том, что она приходится родственницей Лоренце. Дали ума в задние ворота – и славно, может, теперь задумается, не будет вешаться на каждого мужика. Между прочим, что это Потемкин молчит? Все тащит, как говорят здесь, кота за яйца? Пора бы ему расстараться с рандеву, пора. А то наобещал с три короба, золотишко взял и все, привет, с концами. Будто не ведомо ему, что с Калиостро шутки плохи. Вот останется сам без конца…[228]
– Могу ли я, достопочтенный брат магистр, – Елагин, вздрогнув от наплыва чувств, просыпал табачок, лицо его выразило благоговение, невиданный восторг и смутную надежду, – хотя бы на мгновение, одним глазком…
Господи, неужели…
– И не на миг, уважаемый брат, и не одним глазком, а не спеша и в полной мере, – несколько по-менторски ответил Калиостро и улыбнулся, как триумфатор. – Peu de science eloigne de Dieu, beacoup de science y ramena.[229] Вы согласны со мной, уважаемый брат?
Елагин был не против. Так что оба Hommes de desir допили выдержанное кипрское, кликнули слугу с масляным фонарем и направили стопы в ротонду, к куче дерьма. Там им было куда интереснее.
X
Весна наступала стремительно. С песнями летели птицы, с шумом бежали воды, дружно набухали почки, таяли, превращаясь в грязь, снега. Уже извозчики надели шляпы с канареечными лентами,[230] уже воодушевились квелые весенние мухи, уже неугомонный Безбородко начал выходить охотиться в своем неизменном синем сюртуке.[231] Дороги раскисли, превратились в «направления», всюду была грязь, грязь, грязь. Чавкающая под копытами, сдобренная навозом – по обода, до колен, по колесные оси. Море разливанное, океан, ни проехать, ни пройти.
Ну это кому как. Князь Потемкин, например, невзирая на распутицу, взял да и отправился в свои любимые Яссы, где у него, как и положено владыке Таврии, была устроена резиденция на манер султана. Хорошо еще, отчалил не тихо, по-английски, а поимел-таки совесть, отправил Калиостро письмо: мол, ни о чем не беспокойтесь, все схвачено и под контролем. Императрица дозревает и примет вас на днях. Ваш, с высочайшим приветом, Григорий.
Да, отбывал князь Таврический не по-английски, отнюдь. Сугубо в русском стиле, с невероятной помпой, торжественностью и шумом. Через триумфальные, фантастически освещенные ворота, специально возведенные у Пулковой горы. Процессия впечатляла: впереди следовали три «восьмиместные линии», то бишь в восемь лошадей каждая, за ними множество колясок, дорожные кареты, несчитанные кибитки, нескончаемые, изукрашенные гербами фуры. Две повозки занимала кухонная утварь, естественно, как всегда, серебряная, возле главных экипажей, следовавших ровным шагом, шли скороходы и гайдуки, слуг было не менее пары сотен, а бравых казаков с ружьями и саблями – наверное, и поболе. Сам Потемкин в шелковом, вычурного кроя халате возлежал на кожаных подушках в одном из экипажей, в задумчивости курил гигантскую, с янтарным чубуком резную трубку и нехотя посматривал в зеркальное окно. «Omnia vanitas.[232] Ну и тоска…» Карета, в коей следовал князь, была сделана в Лондоне по особому заказу и имела механизм, позволявший вкатывать в нее постель. Говорят, мастер англичанин демонстрировал ее за деньги, коих нажил таким способом весьма изрядно.
Да, более всего на свете почитал владыка Таврии негу, приятность и комфорт. А потому, дабы не скучать в дороге, взял себе в попутчицы племянницу Сашеньку, прекрасную, как бутон.[233] По-простому, по-родственному.[234] О бедной Анагоре даже не вспомнил, гад, быстро свинтил себе сквозь Триумфальные ворота. От нее, любящей, заждавшейся, соблазненной и покинутой. Кушающей стоя, спящей на животе, смазывающей раны отвратительным постным маслом. Ох, все же нет справедливости на свете! Однако Анагора не поддалась судьбе. Едва поджили раны, как она собралась с силами, сконцентрировала в кулак всю свою аттическую волю и решила восстановить мировую справедливость – отомстить этому изменщику, негодяю, подлецу Гришке Потемкину. Как? Ужасно, по-женски. А убийственным орудием своей страшной мести она выбрала бедного, ни в чем не повинного Бурова: снова принялась заигрывать без пряников, изводить манерничаньем и занудливым жеманством, сыпать непристойными шуточками-прибауточками, приставать с двусмысленными и кокетливыми предложениями, надувать карминово накрашенные губы, делать вольные и похотливые телодвижения и напрашиваться ночью «на чашечку чаю». Гнусно домогаться, одним словом. По идее, надо было бы, конечно, уважить девушку и сходить ей навстречу, разиков этак шесть, благо ходить недалеко. Только Буров не стал. Из железного мужского принципа. Не пристало князю Бурову-Задунайскому подбирать объедки со стола Потемкина. Вернее, с постели его. По статусу не положено – если красть, то миллион, а если иметь, то королеву. А потом, ну ее, Анагору. К Аллаху. Не так занудлива, как кривонога, и не так глупа, как большеноса. Своеобразная девушка, на любителя. От таких лучше подальше…
Что касаемо Калиостро, то его все это кипение страстей ничуть не трогало, вернее, не до того было: гомункул уже дошел до соответствующих кондиций и требовал внимательного и бережного ухода. Резвый такой мальчонка, живой, орет, как и настоящие дети, невыносимо. Теперь требовалось воздействовать на него menstruum philosophicum,[235] вдохнуть какую-нибудь душу, активизировать ratio,[236] и все, можно кантовать. Любящему родителю в заботливые руки. Sic L’Nouvel Homme sreatus est.[237]
А взбудораженная Анагора все никак не унималась, вела себя просто вызывающе, требовала любви и ласки. То была сладкоголоса, как сирена, то, по ее личному разумению, обольстительна, как Цирцея, то невыносима, словно фурия, то разнузданна, как бешеная менада, из тех, что, увитые плющом, бесчинствовали на просторах Греции.[238] Устраивала сцены, стучалась в дверь, дышала в скважину, не давала спать. И Буров не выдержал.
– Слушай, брат, тебе Анагора как? Впечатляет? – спросил он за завтраком насыщающегося Мельхиора и, заметив обрадованный, полный жизни кивок, сам сразу почувствовал себя несравненно лучше. – Ну вот и отлично, владей. Не пожалеешь. Сегодня же махнемся комнатами…
И все, в доме Елагина наступила гармония. Ночью все мавры серы.
А вокруг уже вовсю торжествовала весна, оглушая напрочь птичьими руладами, опьяняя запахом травы, резко поднимая настроение и обещая счастье и удачливость во всем. И действительно, Страстная неделя,[239] началась хорошо: в понедельник у Калиостро забрали гомункула, во вторник Елагину привезли саженных, аж из Астрахани, осетров, в среду Разумовский был удачлив в карты и пожертвовал сто тысяч на дело процветания Великой Ложи Египетского Ритуала. А вот четверг, тот, который Чистый[240] как-то не задался. Выяснилось это утром, за завтраком, на который не явились ни Анагора, ни Мельхиор.
– Так, – промолвил Калиостро, когда подали чай, и мрачно повернулся к скучающей Лоренце: – Боюсь, моя милочка, что на следующих гастролях мы как-нибудь обойдемся без вашей родни.
Сущую правду сказал, настоящий маг…
Мельхиор и Анагора так и не вышли к завтраку. Более того, они даже не вставали – лежали на кровати вытянувшись, неподвижно, не издавая ни звука. Не удивительно – порнодионка была выпотрошена, а на затылке мавра зияла круглая, с хорошее блюдце, дыра. Сквозь нее виднелась внутренность пустого черепа. Мозга не было…
– Стоять! Ничего не трогать! – рявкнул с ходу подтянувшийся на крик Буров, пхнул локтем судорожно блюющего лакея, дал пощечину впавшему в истерику индусу. – Молчать! Я Котовский!
Перевел дыхание, дождался тишины и, чувствуя невиданный прилив профессионализма, стал осматриваться. Смотреть особо было не на что – следов ноль, по крайней мере органолептически.[241] Только два трупа, уже остывших, один без внутренностей, другой без головного мозга. Причем края раны у Мельхиора были ровные, будто трепанировали его лазерным лучом, Анагору же вскрыли от горла до промежности, искусно, с невиданным мастерством, будто постаралось светило хирургии. Или Джек Потрошитель, вооруженный «Светлячком» – боевым импульсным генератором. В общем, было ясно, что работали мастера своего дела, с огоньком…
– Да, хорошо начинаются празднички, – тихонько подошел Калиостро, убито повздыхал, прищурясь, посмотрел, звонко, на манер токующего тетерева, пощелкал языком. – Жаль, жаль, славный гомункул был. Не дожил до своего четырехтысячелетия, бедняга. И файномерис тоже была ничего, забавница, красавица… Ишь ты как ее, словно куропатку…
Затем он вытащил из кармана табакерку, под звуки менуэта открыл и, обращаясь почему-то непосредственно к Бурову, весомо внес некоторую ясность.
– Оперировали, без сомнения, «Когтем дьявола». Он изготавливается из electrum magicum,[242] смачивается эссенцией коагулированного алкагеста, после чего режет что угодно с легкостью ножа, проникающего в масло. В нашем случае это череп Мельхиора, дабы достать его головной мозг, и передняя поверхность тела Анагоры, чтобы вытащить ее сердце, матку, легкие и печень. Понятно, что содержимое ее черепа никого не интересует. Гм…
– Господи Боже, святые угодники! – Бледный, словно полотно, Елагин сел, сдавленно вздохнул, горестно потупился, хотел было перекреститься, но не смог, руки плохо слушались его, дрожали. – Кишки, почки, мозги, печенка… Матка… Кому все это нужно? Зачем? Как хоронить-то без них?
– Как можно глубже. – Не глядя, Калиостро взял понюшку табака, задумчиво отправил в нос, но чихать пока не стал, яростно мотнул головой. – А что касаемо внутренних органов, то они не пропадут, применение им всегда найдется. Из мозга, в частности, можно извлечь информацию, коей обладал бывший его владелец, – при этом он резко замолчал и глянул со значением на Бурова. – А вот кому все это нужно, мы сейчас посмотрим. Лоренца, милая, хватит плакать, подойди ко мне, сядь, вот сюда, на кровать, в ногах у тела. А теперь слушай меня очень внимательно. Ты хочешь спать, ты очень хочешь спать. Твои руки и ноги тяжелые, дыхание спокойное, веки закрываются. Спать, я повелеваю, спать! Спать!
Одновременно, не выпуская табакерки из левой руки, он сделал правой несколько волшебных пассов, отчего Лоренца вздрогнула, коротко вздохнула и впала в некое подобие сна, превратившись в восковую, готовую выполнить любое повеление куклу. Душа, казалось, покинула ее, уступив место неведомым, не имеющим ничего общего с человеческими силам. А Калиостро вытащил beryllus,[243] зеленый камень, оправленный в металл, поднес его к застывшему лицу Лоренцы и властно произнес, словно из пушки выстрелил:
– Смотри! Внимательно смотри. Что ты видишь, скажи мне? Повелеваю, скажи.
– Дорога… Я вижу дорогу… По ней едет карета, большая, черная, в четыре лошади… – Лоренца не шевелила губами, голос шел откуда-то изнутри ее чрева и был конкретно мужской, раскатистый бас. – Она сворачивает к дому, на крыше которого флюгер. Это большой, ржавый, оскалившийся страшный пес. Но уже давно не вертится и показывает точно на восток. На огромный, расколотый молнией надвое черный как смоль дуб. А вокруг лес, лес, лес… В нем еще много снега, ветер подхватывает его, залепляет глаза, все белым-бело, не видно ни зги… Метель, метель, белая стена, только кольца метели… Ничего не вижу, ничего…
– Так, да там поставлена магическая защита. – Калиостро нахмурился, громко засопел и убрал магический кристалл в карман. – Придется прибегнуть к Mysteria specialia.[244] Пойду схожу за амулетом Невыразимого.
Однако применить на деле сию чудесную реликвию ему не удалось. Застучали копыта, возникла суета, и сунувшийся в дверь дворецкий доложил, что прибыл егерь из Зимнего, так что их сиятельство графа Феникса неотложно требуют к их величеству императрице российской.
Ну наконец-то, свершилось. Их светлейшество князь Таврический, слава Богу, не набрехал.
– Ничего не трогать, никого не хоронить, ждать меня, – распорядился Калиостро и метнулся к дверям, причем настолько стремительно, что забыл вывести из транса Лоренцу – что там uxor,[245] когда l’Imperatrice[246] ждет. Снова возникла суета, опять затюкали копыта, грохот колесных ободов на время заглушил рулады птиц. Вот он стал слабеть, через мгновение смолк, и за окном по-прежнему воцарилась гармония.
– Господи Иисусе, ну и денек. – Елагин, тяжело вздохнув, перекрестился, глянул на мертвые тела, на сумрачного Бурова, на недвижимую Лоренцу, а та вдруг страшно застонала, раскрыла вежды и принялась пророчествовать насчет российской будущности. Громко, с выражением, на голоса. О том, о сем, об этом. Все об одном и том же – о безрадостном. А когда она дежурным баритоном солиста какого-то краснознаменного ансамбля завела: «Сегодня мы не на параде, мы к коммунизму на пути, в коммунистической бригаде с нами Ленин впереди», – Буров не выдержал и пошел – подальше от коммунизма, в парк. Ему необходимо было подумать. О том, о сем, об этом. Тоже о безрадостном. Ведь выходило по всему, что трепанировать хотели именно его, спасибо, случай в лице дуры Анагоры помог. Хотя ладно, о мертвых или хорошо, или никак… То есть кому-то позарез нужны мозги Васи Бурова, чтобы основательно покопаться в них. И уж не по поводу ли мистического камня, устраивающего цветомузыку в лучшем виде и в зеленых тонах?[247] А раз так, значит, кто-то в курсе, что он, Вася Буров, и мавр Маргадон одно лицо, и не негритянской национальности, отнюдь. Интересно, и кто же это умный такой? Может, недопетая песня о главном – Лаурка Ватто? Тогда откуда и каким путем к ней попала информация? Кто, блин, заложил князя Задунайского? Из своих близких кому известно, что он мавр понарошке? У кого длинный не в меру язык? Подумал Буров, подумал и понял, что самый длинный-то язык у него самого – ох не надо ему было открываться перед Анагорой. Нет бы просто без всяких объяснений ласково послать на хрен. А то – никакой я не Отелло, и потому, милая, не раскатывай губу, бурной африканской страсти тебе не будет. Дальнейшее банально: ухватил Шешковский девушку за задницу, и та поведала все как на духу, – не голая задница, бедная девушка. Ну а уж потом вступило в действие правило фашиста Мюллера: что знают двое, то знает свинья. Со всеми вытекающими последствиями – трепанацией и потрошением, хотя, скорее всего, Анагору убили не по расчету, а как ненужного свидетеля, обладающего к тому же и внутренними органами. Да, очень интересно, кому все-таки Шешковский слил полученную информацию? Может, у него самого спросить? Вдумчиво, не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой. Обязательно, только не сейчас, чуть попозже. Сейчас нужно думать, как жить дальше. Чтоб дожить до старости. В добром здравии и ясной памяти. Без трепанаций.
В общем, вволю нагулялся Буров по аллеям парка, насмотрелся на белочек, на деревья, на птичек. Наконец, следуя ходу своих мыслей, он отправился к себе, надел под кафтан булатную, заныканную еще во Франции кольчужку, подправил ножичек-засапожник и долго чистил верную, испытанную в деле волыну. Вот так, хочешь мира – готовься к войне. Хотя рупь за сто, в покое его теперь оставят навряд ли. Чувствуется, что кто-то жизни не мыслит без его, Бурова, головного мозга… А он, Буров, естественно, категорически против…
Калиостро прибыл с высочайшего рандеву к обеду. Был он какой-то не такой, на губах улыбочка, а в глазах… Боль, грусть, мука, ярость, желание послать все к чертовой бабушке.
– Хорош трепаться, просыпайся! – глянул он на вещую Лоренцу, грозно засопел и повернулся к Елагину. – Любезный брат, прошу вас вечером собрать всех наших fratres в ротонде. Дело спешное, особой важности, не терпит отлагательств. А мертвые тела, – он снова засопел, набычился, – заройте где-нибудь поглубже, без отпевания. И пусть будет им земля пухом. Аминь.
Обедали без радости и в основном без аппетита. Волшебник мыслями был где-то далеко, смотрел зверем, индус накоротке общался с Бахусом, катар заупокойно шелестел страницами, Лоренце, трудно вынырнувшей из транса, было явно не до еды. Что же касается Елагина, то подробности прогноза российских перспектив, особо в части их, относящейся к провизии, привели его в полное расстройство. Батюшки, что ж это будет в отечестве? Водка из опилок, молоко из порошка, колбаса из крахмала? Взамен стерляди, чавычи и белуги – мойва, простипома и бельдюга? В Неве исчезнут сиги? Икра сделается в пятьдесят раз дороже мяса, а само мясо будет мороженым? Да и то закупать его будут в Аргентине. Заодно с зерном. Свое то сгниет на корню, то не уродится, то сгинет в закромах. Вот он, ужас-то, беда, казни египетские. Такое и в кошмарном сне не привидится… В общем, за столом не игнорировал искусство поваров один лишь Буров, да и то больше по инерции, без всякого воодушевления. Смерть всегда страшна, отталкивающа и безобразна, если это, конечно, не смерть врага. Жалко Мельхиора, жалко Анагору, да только ведь каждому свое: мертвым – мерзлая земля Елагина острова, живым – эта великолепная, разварная на шампанском форель. Все под Богом ходим, а Его пути-дороги неисповедимы… Так что задумчиво работал Буров ножом и вилкой, вяло попивал бургундское винцо и нет-нет да и посматривал на мрачного волшебника – ишь ты, не в настроении, более того, видимо, высочайший разговор не сложился. Не получилось с их величеством-то по душам, и теперь, как пить дать, грядут большие перемены. Наверняка к худшему. Все правильно, пришла беда – отворяй ворота.
Предчувствие скорых и глобальных пертурбаций Бурова не обмануло. Вечером, когда разъехались macons acceptes, набившиеся в ротонду, словно сельди в бочку, его позвал пред очи свои Калиостро. Волшебник был сосредоточен, одет в парадную хламиду и восседал за мраморным столом, богато инкрустированным черным жемчугом.
– Прошу вас, сударь. – Он указал на кресло, угрюмо заглянул Бурову в глаза и вытащил заплесневевший, неимоверно грязный кувшин. – Фалернское, времен Иисуса. Из секретных запасов ессеев. Есть одна пещерка на берегу Мертвого моря…[248]
В руке волшебника сверкнула сталь, хрустко раскупоривая тысячелетнюю емкость, свинцовая затычка мягко подалась, веско приложилась о мраморную столешницу. Казалось, что сейчас из кувшина вылетит джинн. Но нет, густо потянуло кислым, и в хрустальные бокалы побежала струя. Мутная, не радостного цвета, наводящая на мысли о том, что все в этом мире тленно.
– М-да, больше похоже на уксус, – пригубив, промолвил Калиостро, горестно вздохнул и поставил бокал. – Нет, право, слишком выдержанное вино напоминает помои. Все должно иметь свой срок, свое время. Недаром же говорили древние, что высшее благо это чувство меры…
Буров сидел молча, почтительно внимал, смотрел на пузырящуюся гадость в бокале. Интересно, и что это волшебнику надо? В гости зазвал в самую свою альма матер, фалернской бормотухой угощает из глиняного фауст-патрона, за жизнь говорит по-доброму, с человеческой интонацией. Видать, уважает. А к чему клонит?
– Да, да, сударь, всему свой черед, – хмуро повторил Калиостро, встал и, сверкая фантастическими перстнями, подошел к столу, на котором астматически пыхтела алхимическая установка. Кашлянув, поежился, погасил очаг атанор и в наступившей тишине сказал: – Настало нам время уезжать. Больше здесь делать нечего. Напрасно старался Сен-Жермен, этот величайший гроссмейстер, нам объявили мат. Серая пешка, превратившись в королеву, ходит теперь без всяких правил. Вернее, пляшет под дудку дьявола. Да, похоже, надеждам бедного де Моле на милосердие и знание не суждено осуществиться.[249] По крайней мере, не сейчас, не в этом тысячелетии, не в царстве Отца Лжи. Все, все без толку. Итак, решено, мы уезжаем.
Он замолк, выдержал паузу и кинул мутный взгляд на Бурова:
– Вы, сударь, с нами? Или вам не дорог ваш головной мозг?
Небрежно вроде бы спросил, с усмешечкой, но сразу ясно, что на полном серьезе, – где еще найдешь такого кадра?
– Интересно, и кому это он так нужен? – мастерски включил кретина Буров, добро улыбнулся и очень по-хулигански сдвинул на затылок чалму. – Вы, ваша светлость, случаем, не в курсе? А то так любопытно мне…
– Чтобы знать точно, мне нужно вызвать Spiritus Directores, а на это нет времени, – отрубил Калиостро, гадливо засопел, нахмурился, выпятив губу, дернул квадратными плечами. – Могу сказать лишь одно: тот, кто стремится к разрушению, занимает в Hierarhia Occulte низшие ступени. Номер его шестнадцатый. Итак, сударь, вы едете?
– Увы, ваша светлость, я, пожалуй, останусь. – Буров, став серьезным, стер ухмылку с лица и поправил чалму. – Хочу тому анатому в глаза посмотреть. Пристально. И вообще… Русский я. Куда мне с фатерленда-то? А от судьбы не уйдешь.
– Хорошо, сударь, вы сделали свой выбор, – тихо промолвил Калиостро, пошмыгал с огорчением носом и вытащил из кармана склянку, обычный аптекарский пузырек. – Вот, достаточно принять, и Маргадон через пару дней умрет. Естественно, не так, как бедный Мельхиор, в фигуральном смысле. Только не служите Бахусу, спиртное замедляет действие эликсира. Ну, а уж когда воспользоваться им, решать вам.
Затем кудесник вытащил объемистый, тяжелый кошель и веско, с завораживающим звоном припечатал им мрамор стола.
– Вот, на мелкие расходы. От их сиятельства графа Григория Орлова. Сегодня мы с ним встретились у императрицы во дворце, и он чуть ли не на коленях умолил меня продать вас в рабство. Завтра поутру нужно будет или вернуть задаток, или ехать к новому хозяину в Гатчину. Так что, сударь, вы можете еще подумать, вся ночь впереди.
– Ого. – Буров покачал на ладони мошну, бережно убрал в карман склянку с эликсиром и, ощутив вдруг прилив сентиментальности, с чувством благодарности взглянул на Калиостро – мол, тронут, весьма… От всей души… Невероятно признателен…
Спасибо, спасибо великому волшебнику – не бросил, не забыл, не дал пропасть, теперь вот деньги еще сует. И что держал хоть и в черном теле, но не за фраера ушастого. В общем, пламенный рахмат, полнейшее гран-мерси, спаси Христос, который аккурат воскресе.
– Ну, полно, полно, сударь, не стоит аплодировать, – расчувствовался в свою очередь волшебник и скромно наклонил лобастую голову. – Лучше возьмите-ка и не снимайте. Никогда. Это могущественный талисман.
И сдернул с пальца перстенек, правда, не бриллиантовый, сверкающий, а простенький, с невзрачным камнем. А уже прощаясь, сказал:
– Запомните, сударь, одно «Ребро Дракона» является зеркальным отражением другого. Держите крепко эту крупицу истины, быть может, она вам пригодится…
Может, и пригодится. Даром, что ли, тогда, в гостинице, мучаясь от раны в ноге, Буров рисовал с натуры всю эту оккультную цветомузыку? Щурясь от пламени свечи, изнывая от слабости, жутко костеря и евреев, и арабов, и заумную каббалистическую хренотень? Сколько чернил извел, сколько матюгов сложил, сколько перьев изломал. Хорошо, пергамент с творением цел, лежит себе полеживает, заныканный так, что ни одна собака не найдет. И нехай себе лежит. Не зря же говорил волшебник – может, и пригодится.
Часть 2
Галантный уик-энд в Гатчине
– Так, стало быть, это ты Семке Трещале в рыло-то засветил? – осведомился генерал-аншеф, он же генерал-фельдцехмейстер, он же действительный камергер, он же князь Священной Римской империи граф Григорий Орлов и оценивающе, сверху вниз, кинул быстрый взгляд на Бурова. – А не брешешь?
От их сиятельства за версту несло оделаваном,[250] женскими амурными духами «Франжипан»[251] и ликеро-вино-водочным перегаром. Судя по убойной интенсивности его, выпито было не просто сильно – грандиозно.
– Брешет шелудивый кабсдох под обоссанным крыльцом, – с улыбочкой отвечал князю Римскому Буров, и не было в его голосе ни намека на почтение. – А я, ваша светлость, человечно разговариваю. И за свои слова привык отвечать.
Вот так, в гробу он видел всех этих аншефов-фаворитов, сами как-никак из князьев. А потом – «отбеливатель» выпит, финансы есть, патронов хватит, так что через пару дней все, хана, финита, аллес. Ищите-свищите Маргадона, можете с собаками. С теми самыми шелудивыми кабсдохами. Флаг вам в обе руки, паровоз с Лазо навстречу…
– Ишь ты, гад, как лопочет по-нашему-то, – весело оскалился Орлов, обильно и тягуче сплюнул и, стаскивая на ходу раззолоченный камзол, направился в глубь парка, к павильону. – А ну давай за мной. Посмотрим, каков ты в кулаке.
Даже после бурной, полной излишеств ночи выглядел он впечатляюще – двухметровый рост, саженные плечи, голова Аполлона на торсе Геркулеса. Да уж, постаралась мать-природа, размахнулась вовсю, не пожалела ничего для орловской породы.[252]
– Слушаюсь, – шаркнул ножкой Буров и пристроился в кильватер повелителю. Ему было отчасти смешно, несколько лениво и немного грустно – вот ведь, блин, попал, прямо с корабля на бал. Вернее, на ринг. Не успел даже толком осмотреться, а уже все, позвали бить морду. Эх, люди, люди, порождение ехидны. Все бы им кулаками помахать, нос кому свернуть набок, плавающие ребра пересчитать, пах всмятку расплющить, мочевой пузырь порвать… Нет бы пообщаться приятно, побеседовать по душам, полюбоваться красотами природы. Вокруг-то ведь такая благодать…
Гатчинский парк и в самом деле был под стать хозяину – блестящ. Стараниями весны, Ринальди[253] и садовников он представлял собой произведение искусства, внушал восторг и трепетное благоговение и наводил на мысли о существовании рая. Ветер разводил волну в море расцветающих тюльпанов, статуи, беседки, голубятни поражали стилем, тонким вкусом и числом, памятники Орлу и Чесменской виктории стояли нерушимо, мощно и напоминали о величии сиятельного хозяина. В общем, все дышало миром, гармонией и процветанием, по крайней мере на первый взгляд.
Между тем пришли. Это был скорее не павильон – чайный домик, выдержанный в стиле рококо и предназначенный, судя по отделке, для неги, страсти и барственного ничегонеделания. Однако же внутри не было и намека на праздность – обстановочка там была спартанская. То бишь никакой обстановки, если не считать длинной, стоящей вдоль стены скамьи. На ней лежали связками голицы,[254] шалыги.[255] на любой размер, кии[256] С ними соседствовали шелепуги,[257] березовые крегли,[258] и ивовые плетенки. В углах висели кожаные мешки, на стенах – шпаги, палаши, нагайки и портрет государыни императрицы. Несмотря на близость бретты и вердюны[259] самодержица российская беззаботно улыбалась, загадочно и пленительно, с тонким шармом.
– Ну давай, что ли, покажи себя, – граф Орлов тоже улыбнулся, правда плотоядно, и, не взглянув даже в сторону голиц,[260] быстренько встал в боевую позицию – ступни косолапо, грудь колесом, саженные плечи развернуты.[261] Это при двухметровом-то росте, шести пудах веса и длинных мускулистых конечностях.[262] Исполин Полидевк,[263] Лигдамит,[264] Пифагор,[265] Милон Кротонский.[266] На его фоне Буров смотрелся сиротой казанской, однако ничего – расстарался с подставочкой, вошел на дистанцию, да и приголубил их сиятельство кулачком поддых – мощно, резко, с хорошей концентрацией. Само собой, поймал на вдохе.[267] Плющить пах, пересчитывать ребра и травмировать мочевой пузырь не стал, не звери все-таки, люди. Утро-то такое радостное, солнечное, весеннее…
– Это что ж такое-то, а? – трудно встал с колен генерал-аншеф, сплюнул прямо на пол и с непониманием, будто впервые увидел, воззрился на Бурова. – Это что ж такое-то, такую мать?
В голосе его, сдавленном и хрипящем, слышался неподдельный восторг.[268]






