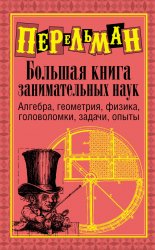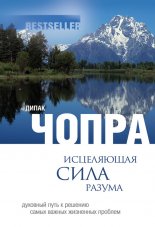Нога судьбы, пешки и собачонка Марсельеза Николаенко Александра
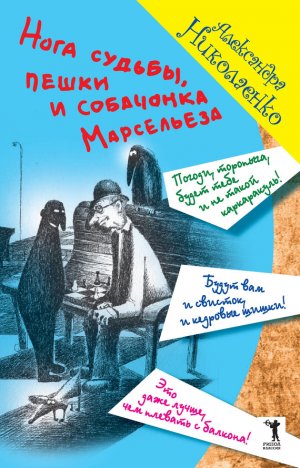
В черную январскую полночь Антон Павлович расставлял шахматы под одеялом и при помощи фонарика с аппетитом съедал толстого, ненавистного Вениамина по сто раз за ночь. Иногда Антон Павлович съедал Вениамина по правилам, иногда устанавливал свои и тогда мог есть Вениамина бесконечно, небрежным щелчком указательного пальца сбивая врага с доски.
Антон Павлович выкручивал фигурам Вениамина шишечки. Грыз его пешки. Откусывал коням соперника уши и отдирал их бархатные подставки.
Антон Павлович прятал слонов Карпа между диванными валиками, закатывал ладьи ненавистного Вениамина под шкаф. Топил ферзя Карпа в пруду, привязав ему на шею камень, и сжигал Вениаминового короля на костре за оградой школьного сада.
Все было бесполезно: живучий Карп в пятом классе получил первый юношеский разряд и уехал с папой и мамой в другой город.
С тех пор Антон Павлович не любил шахмат. И не любил людей.
Отвлеченный от действительности внезапно нахлынувшими воспоминаниями трудного детства, Антон Павлович поморгал в кресле, и поскольку до ужина оставалось еще добрых полчаса, а плеваться с балкона после неприятности с Добужанским Антону Павловичу совсем расхотелось, расставил шахматы.
Часы пробили половину седьмого. Кукушка прокуковала «ку-ку» шесть с половиной раз и, оставив клюв приоткрытым, скрылась в дупле.
Антон Павлович широко зевнул и без всякого удовольствия, чтобы хоть чем-то занять пустое время до ужина, по старой орленковской привычке пошел е2-е4, ответив е7-е5. Играть с самим собой оказалось скучно. Крутить туда-сюда доску, а тем более вставать, переходя с края на край стола, было лень. Антон Павлович задумчиво посмотрел на белый уголок пригласительного билета, торчавший из-под левого края доски, и внезапно глаза его вспыхнули.
Вытянув конверт за ухо, Антон Павлович с неприязнью швырнул его на диван и, приподняв с белую пешку, поднес ее к носу, собираясь понюхать.
Пешка не пахла.
Тем не менее Антон Павлович поморщился, как от кислого, и, ядовито ухмыльнувшись фигурке, сказал:
– Лев Борисович! Неужели ко мне? Здравствуйте, любезный! Проходите, проходите, присаживайтесь! Нет, просто не верится, до чего приятная встреча!
Яйцеобразная деревянная голова Добужанского удивленно завертелась у Антона Павловича в пальцах.
Антон Павлович пошел Львом Борисовичем f2-f4 и с удовольствием съел Добужанского черной е5 на втором ходу.
– Антоша! Ужин на столе! – позвала из гостиной мужа Людмила Анатольевна Райская.
Антон Павлович вышел к ужину в неожиданно хорошем расположении духа. С аппетитом съел горячую котлетку по-киевски на курьей ножке, подлизал корочкой с тарелки домашнее лечо. Выпил две кружки сладкого чаю с эклером.
После чего смотрели «Культуру» и легли спать пораньше.
Чтобы завтра не проспать литконференциале.
Глава 5
Жертва Мельпомены
Антон Павлович Райский не любил число «тринадцать» с раннего детства. Зловещее число, в свою очередь, отвечало Антону Павловичу взаимностью. Тринадцатого числа с Антоном Павловичем всегда случались страшные вещи. Тринадцатого числа тринадцать лет назад Антон Павлович сломал фалангу. Тринадцатого же числа прошлого месяца разбил четвертого коллекционного терракотового кота с секретера. Тринадцатого числа родился ненавистный критик Лев Добужанский. В тринадцатом кабинете сидела мымра Куликовская из редакционного отдела, резавшая рукописи Антона Павловича на корню. И наконец, на тринадцатое число тринадцатого года было назначено открытие литконференциале. Пригласительный билет и номер места, указанный в нем, были, разумеется, тринадцатыми.
В предрассветный перед литконференциале час, сумеречный и удушливый, когда под худыми щеками граждан тяжелеют подушки, а синие ступни спящих шуршат под одеялами, в час, когда ряды обезглавленных тополей, сомкнувшись вдоль широких проспектов, кажутся мертвецами, а ядовитые черемухи утопленницами тянут свои призрачные руки к песочницам и качелям, в час, когда теплый восковой дождь блуждает по сонным улицам, ужом оскользая с серебряных листьев и, оплакивая звезды, растворяется в бензиновых лужах, Антону Павловичу Райскому снилась чертова дюжина.
Зловещая эта дюжина снилась Антону Павловичу в виде полыхавшей адским огнем спинки складного сиденья с номером тринадцать в первом ряду актового зала Дома культуры «Динамик».
Сам Антон Павлович растерянно топтался перед своим полыхающим местом, никак не решаясь сесть и пряча несчастливый пригласительный за спину. На Антона Павловича свистели и шикали. Оркестр играл Мендельсона.
На сцене, на длинном столе, накрытом в честь литературного мероприятия зеленой бархатной скатертью, стояла в самой середине на каменном пьедестале лысая голова председателя литкомиссии МГЛА, ведущего эксперта МО, критика с мировым именем Льва Борисовича Добужанского. Голова безмолвствовала.
Зрительный зал Дома культуры «Динамик» был огромен. От арены поднимались, уводя взгляд во тьму бельэтажей, бесчисленные ряды партера. Над головой Антона Павловича, в сумеречном конусе купола, висела, вызывая клаустрофобию, тяжелая шестиярусная люстра. В балюстрадах галерей мерцали медные канделябры. По бокам накрытого скатертью стола высились две мраморные Евтерпы, и их белые каменные глаза зло сверлили спину спящего.
Места в зрительном зале были, все до одного, заняты литераторами. Бородатые враги, опередившие Антона Павловича на столетия, и современные гладковыбритые враги держали свои счастливые номерки над головами. Антону Павловичу было жутко и душно.
В зале постепенно нарастал недовольный гул. Враги, размахивавшие счастливыми номерками, вскакивали с мест, сердито хлопали крышками сидений, топали и требовали от Антона Павловича или сесть наконец в полыхавшее кресло, или убираться ко всем чертям.
Медленно угасала под куполом ДК «Динамик» вызывавшая клаустрофобию тяжелая шестиярусная люстра, затихал Мендельсон. Озаренная светом прожекторов мраморная голова председателя МО зло таращилась на Антона Павловича из подставки.
Фантасмогорист Лукуменко показывал Антону Павловичу из третьего ряда партера крепкий кулак.
Ненавистный Спиноза, сидя на соседнем от Антона Павловича четырнадцатом кресле, равнодушно качал сандалией и что-то писал. Кикимора Куликовская ухмылялась с двенадцатого.
…Антон Павлович зажмурился и сел.
Антон Павлович зажмурился, сел в кровати, вспыхнул как спичка, замахал руками, вскочил, дымясь, пару раз пересек кабинет по диагонали, хлопая руками, как гонимая коршуном перепелка, смахнул с секретера и разбил третьего коллекционного терракотового кота и, наконец, больно стукнувшись лбом о книжную полку, проснулся.
На письменном столе стояла открытая доска с начатой вчера шахматной партией. У левого угла ее валялся съеденный Добужанский. В кресле, свернувшись собачьей шапкой, дремала Мерсью. Времени было возле одиннадцати.
Следовало поторопиться…
Лев Борисович Добужанский торжествовал. Раздавленный его речью Антон Павлович Райский, этот плевок в душу читателя и в лицо Русской Литературы, сидел, опустив покрытую испариной восковую лысину, пряча растоптанный взгляд в ковер.
– …Отдавать себе отчет в том наслаждении, которое доставляют нам произведения великие и вечные, – злорадно говорил Лев Борисович, – есть необходимая потребность мыслящего человечества. Одновременно с тем необходимой потребностью мыслящего человечества является и отделение зерен от плевел. Там, где непросвещенная и нетребовательная публика находит себе сегодня законных кумиров от бесотристики, бумагостяжательства и графомарательства, мы имеем полное право сказать решительное «Нет!» – нет, нет и еще раз нет! Не принимая на веру фальшивой дешевизны, шелухи, позолоченной скорлупы популярности некоторых авторов, – тут Лев Борисович очень пристально посмотрел с кафедры на Антона Павловича, сидевшего в первом ряду. Антон Павлович сжался. – Изнутри своего ограниченного, но просвещенного круга, – зловеще продолжал критик, – с мыслью взрастить из зерен цветущие, плодоносящие всходы образованного грядущего мы, мы, друзья! – встанем на пути свищей и мракобесов пера, оставляющих грязные потеки в неокрепших читательских душах. – Лев Борисович выступил из-за трибуны и широко распахнул полы полосатого летнего пиджака, изображая, как встанет на пути мракобесов. – И, принеся себя в жертву на великий алтарь Мельпомены, шагнем вместе с взращенным нами читателем в солнечную, лучистую, лазурную, небесную глубину нетленной классики!
В этом месте Лев Борисович и в самом деле шагнул, но споткнулся о провод колонки звукоусилителя, попытался удержаться за ящик трибуны, но тот был наспех сколочен из фанерной доски и массы Льва Борисовича не удержал. Критик пошатнулся, стремительно теряя баланс, и, минуя подмостки, пал под ноги Антону Павловичу Райскому. Вслед за доктором филологических наук рухнула трибуна. Фанерные листы скрыли шагнувшего литературоведа от читающей публики.
Трибуны зрительного зала Дома культуры «Динамик» ахнули, вздрогнули и приподнялись. Читатели и работники пера вытянули шеи. В ложе амфитеатра проснулся и захлопал было спецкор газеты «Центральная славь» Никанор Иванович Сашик, но младший корректор периодического издания Виктор Петрович Рюмочка дернул приятеля за пуговицу, и Сашик затих.
Фанерные листы не шевелились. И не издавали ни звука.
Так, ровно в 13:00 по московскому времени, 13 мая, кончил свою долгую речь и краткий земной путь заведующий кафедрой теории литературы МГЛА Лев Борисович Добужанский, принеся себя в жертву на великий алтарь упомянутой Мельпомены.
В наставшей внезапно тишине Антон Павлович Райский оглушительно хлопнул крышкой складного сиденья. И стремительно побежал к горящему зеленым спасительному слову
Глава 6
В которой главный герой сталкивается с необъяснимым
Поздним вечером того же несчастливого числа поперек центральной аллеи бульвара Адмирала Нахабина легла огромная двуглавая тень.
Антон Павлович Райский и Вениамин Александрович Карпов говорили о любви.
Когда о любви все уже было сказано, Антон Павлович горько махнул рукой в сторону круглосуточного магазина «Полтушка» и пошатнулся.
Обнявшись и поддерживая друг друга, бывшие члены шахматного кружка Дома детской дружбы «Орленок», с трудом преодолевая встававшие на их пути полосы наземной зебры, направились к вывеске, способной вселить надежду в каждого разочаровавшегося в любви и потерявшего веру в людей ночного путника.
«24 ЧАСА» – гласила она.
Судьба столкнула подросших орлят шахматного кружка Дома детской дружбы в гудящем литераторами буфете ДК «Динамик». Буфет был наполнен клубами удушливого табачного дыма – высокие буфетные окна «Динамика» были замурованы на зиму.
Потрясенные гибелью критика литераторы качали головами, трясли бородами, жевали холодные капустные пирожки и из рукавов разбавляли буфетный компот «Земляниковой».
– Райский! Скажи мне, что это не ты, старый черт! – крикнул Антону Павловичу Вениамин Александрович и, различив сквозь дым, что Антон Павлович щурится, не желая признавать его, с силой наступил другу детства на ногу.
«Это не я!» – хотел было увильнуть Антон Павлович, но Вениамин Александрович нажал каблуком посильнее. И Антон Павлович вынужден был обрадоваться.
– Карп! – обрадовался Антон Павлович.
Душа Антона Павловича вспыхнула и засочилась кровавыми ранами незаживших детских обид. Зачесались шрамы.
Антону Павловичу вспомнились бессонные шахматные ночи под одеялом, утопленные в пруду короли, закопанные в муравейник ферзи, сожженные на заднем школьном дворе слоны и слезы матери.
Вспомнились голубые, как небо, и сияющие, как звезды, глаза второклассницы Риты Петрушкиной, с обожаньем смотревшие на проклятого Карпа из-за кулис Дома дружбы.
Словом, Антон Павлович вспомнил все. И все, что он вспомнил, ему решительно не понравилось. Антон Павлович любил одиночество. И с раннего детства не любил владельца центрального ежедневного газетного издания «Центральная славь» Вениамина Александровича Карпова.
«Чтоб ты провалился, негодяй»! – растягивая щеки в улыбке, думал Антон Павлович, удавом выглядывая из клубов табачного дыма ДК «Динамик».
Однако Карп не проваливался, был полон сил и с энтузиазмом смотрел в наступавший вечер.
Друзьями твердо решено было ехать обедать в «Хванчкару» на Тверской.
В довершение бед нескончаемой «чертовой пятницы» у друга детства оказался тонированный металлик-«лендкрузер» с обшитым кремовой кожей салоном, вишневым деревом приборной доски, баром и усатым неприветливым шофером. Который с Антоном Павловичем даже не поздоровался.
Антон Павлович заказал в «Хванчкаре» зеркального карпа по-королевски и с аппетитом съел его, аккуратно отделяя тонкие острые косточки и запивая прохладным, соломенным цинандали, при этом он искренне желал сидевшему напротив владельцу «Центральной слави» той же участи, что постигла его рыбного брата с тарелки.
Карп заказал баранью рульку и запивал ее красным.
…И затянулись детские раны, и зарубцевались швы, и шрамы, исполосовавшие нежную душу Антона Павловича, перестали напоминать о себе. И кремовая обшивка салона металлик-«лендкрузера» со встроенным баром, приборной доской вишневого дерева и усатым шофером поплыла, качаясь на волнах джаза, в глубины туннелей памяти. И престарелые орлята с нежностью смотрели друг на друга, поминая безвременно ушедшего критика Льва Борисовича Добужанского янтарным «Мерли». И называли его неплохим, в сущности, малым.
Потому что о покойниках принято говорить либо хорошее, либо не говорить вовсе.
«Во всяком случае, этот милый малый, – думал Антон Павлович, – уже никому не расскажет, что я плююсь!» – И на душе делалось вольно и радостно.
Столешница подрагивала. Хрустально позвякивали бокалы. Под белоснежной скатертью друзья по очереди наступали друг другу на ноги и смеялись как дети.
– На-а-а-а-а, на тебе, Карп! – наступал Антон Павлович и с силой давил на мысок Вениамина Александровича.
– На! – коротко наступал на мысок Антону Павловичу издатель.
– На! На! На! – три раза подряд наступал в ответ Антон Павлович и, быстро поджимая ступни под стулом, чувствовал себя счастливым.
Ранний вечер встретил Антона Павловича и Вениамина Александровича у распахнутых дверей ресторана и проводил до бульвара Адмирала Нахабина, где вскоре вынужден был покинуть их, сменившись поздним.
Пора было расходится, за обоих друзей очень беспокоились жены. Тревожные голоса Людмилы Анатольевны и Маргариты Евгеньевны доносились из телефонных трубок. Но Антон Павлович все никак не хотел отпускать обретенного друга, удерживая Карпа за карман и стараясь по возможности отдавить ему ноги про запас.
Наконец неприветливый шофер по приказу хозяйки отнял Вениамина Александровича у Райского и понес к автомобилю. Антон Павлович, подпрыгивая и резвясь кикиморой, поспешил домой.
Однако, уже подходя к арке, Антон Павлович замедлил скачки, перешел на усталый шаг, а когда вышел на свет фонаря, захромал, зачах, остановился в задумчивости и присел на бортик песочницы. Лицо его сделалось сосредоточенно и хмуро. Он протянул к носу руки и, по очереди загибая пальцы, принялся считать их. Пальцев оказалось, как обычно, десять. А вот «отдавливаний» на счету Карпа было на пять больше. Победы не выходило.
На душе Антона Павловича стало уксусно и тоскливо, как в пустой огуречной банке. От обиды на хитрого Карпа ему даже плакать захотелось.
…Вызвав лифт, Антон Павлович Райский взглянул на часы. Нескончаемый тринадцатый день не кончался. Чертова дюжина мгновенно напомнила о себе зловещим молчанием лифтовой шахты. Канаты остались неподвижны. Лифт не шелохнулся.
Печальный, обманутый, едва живой от усталости Антон Павлович уже достиг шестого этажа, когда из шахты донеслось невнятное бормотание, а из окошка кабинки уставился, не моргая, выцветший бледно-незабудковый глаз фантастической вдовы Бессоновой.
– Добрый вечер, Феклиста Шаломановна, застряли? – участливо спросил Антон Павлович, стараясь предупредить проклятие.
Однако ядовитой ведьме было чихать на вежливость. Бледно-незабудковый глаз Феклисты раскрылся шире. Из глубины его в лоб Антону Павловичу целился револьверным дулом хитрый угольный зрачок.
– Что смотришь, Верблюд Павлович? – совершенно без всякой рифмы холодно осведомилась вдова. – Иди отсюда!
– Иди-иди-иди-отсюда-сюда-иуда!.. – повторило за ведьмой шахтовое эхо, и проклятый Антон Павлович, обреченный идти, пошел.
«Старая ведьма назвала меня верблюдом! – покрываясь холодным потом, с трудом преодолевая последние ступени до своей клетки, подумал Антон Павлович и в страхе оглянулся на лифтовую шахту. – Горгона не так проста, как притворяется… Она что-то знает!»
– Знаю-знаю! Не сомневайся, Верблюд! – точно читая мысли Антона Павловича, откликнулась из шахты ясновидящая вдова.
«Знаю-зн-аю! Верблюд-люд-юд!» – подхватило эхо.
«Да провались ты пропадом, вурдалачиха!» – мысленно ответил вдове Антон Павлович.
– Сам провались, душегуб! – живо откликнулась из ступы бесноватая Феклиста.
«Ду-ше-губ!» – подтвердило эхо.
Антон Павлович скользнул по перилам рукой, заходя на последний вираж пролета.
На клетке, встревоженная и бледная, в распахнутом пеньюаре и тапочках, плотно прикрыв спиной дверь, стояла Людмила Анатольевна Райская. Из-за двери доносились тупые удары, скрежет когтей и пронзительный вой.
Это преданное собачье сердце Марсельезы Люпен Жирардо вырывалось из розоватой собачьей шкурки навстречу хозяину. Марсельеза Люпен любила Антона Павловича самозабвенно. Злобную малюсенькую и плешивую душу адской собачки разрывал надрывный, отчаянный лай.
Людмила Анатольевна, категорически стиснув губы, молча распахнула перед поникшим Антоном Павловичем дверь. Освобожденная Марсельеза, оскалившись, стрелой пронеслась под четырьмя ногами хозяев, летучей мышью пересекла лестничный пролет и, пропоров усами лифтовую сетку, с визгом пала на крышу неподвижной лифтовой кабинки.
В ту же секунду ступа с вдовой Бессоновой вздохнула и тронулась. Навстречу друг другу поползли канаты. В отчаянии задрав пупырчатый нос, подрагивая львиной дизайнерской кисточкой, Марсельеза Люпен Жирардо, присев на спичинках лап, поехала вниз, делаясь все меньше и меньше. Пока не превратилась в блоху.
Людмила Анатольевна в ужасе бросилась вслед за гибнущим в шахте питомцем. Под женой замелькали ступеньки. Замелькали, закружились, слились и превратились в ледяную горку.
По горке с мяком заскользили в ржавых полосатых санках желтоглазые ведьмины коты.
Стоя на крыше металлик-«лендкрузера», промчался мимо Антона Павловича, посверкивая золотой чешуей, съеденный в «Хванчкаре» Карп Александрович.
Торжественно неся впереди себя на вытянутых руках большое светящееся диетическое яйцо на подставке, проследовал вверх к чердачной решетке Лев Борисович Добужанский. У Льва Борисовича почему-то не было головы, но Антон Павлович все равно узнал его по легкому грогроновому плащу и крешевым светлым брюкам.
Злорадно глядя вслед погибшему критику, Антон Павлович подумал, что зря тот тащится наверх, потому что чердачная решетка заперта на замок, но Лев Борисович прошел сквозь решетку.
Пройдя, критик обернулся на недоуменно застывшего Антона Павловича, надел диетическое, светящееся яйцо вместо головы и плюнул в Антона Павловича сквозь прутья…
Антон Павлович проснулся среди ночи оплеванным. Вытер плевок критика с лица ухом пододеяльника и дернул шнурок торшера.
Кабинет писателя залил зеленоватый призрачный свет. Над раскрытой шахматной доской задумчиво сидела зеленая, похожая на некрупную болотную жабу Мерсью. Фисташковый Спиноза выглядывал корешком из-за бледно-салатового Батюшкова. Съеденный накануне Добужанский откатился на край письменного стола, оставшись лежать там, беспомощный и неподвижный.
«То-то же, будешь знать, как плеваться»! – сказал погибшему Антон Павлович и встал, чтобы поближе взглянуть на поверженного критика.
Повертев Льва Борисовича меж пальцев, он переместил мутный взгляд на доску.
В ту же секунду на самом дне тусклой паутины зрачков Антона Павловича вспыхнули две зеленые люстры.
Замерев от страха и благоговения, стояли пред ним на своих клетках покорные крошечные фигурки; и злобно, пронзительно смотрел на них с высоты Антон Павлович Райский.
Оливковые, посверкивали перед ним лысинками головки пешек. Торжественные митры слонов и зубчатые фески ладей, черные цилиндры и белые кипы, малахитовые мурмолки и фисташковые котелки, канотье и имамы, сверкающие изумрудными бликами диадемы императриц и царственные короны императоров – все были во власти Антона Павловича! Все ждали его приказа! Легкого, небрежного движения руки. Одобрительного кивка. Или щелчка указательным пальцем. Одним движением рукава Антон Павлович мог сгрести всех в коробку, стирая с лица земли. Одним движением мог он хоть сейчас вернуть ненавистного Добужанского на доску.
Во власти Антона Павловича было сделать оживленного Льва Борисовича ферзем и съесть его на десерт, как следует помучив.
– Вот как! Вот оно что! – одиноко бормотал догадавшийся обо всем Антон Павлович в зеленой мгле своего кабинета.
– Я покажу вам, как! Покажу вам, что! Будете у меня знать, кто я такой! – одиноко бормотал Антон Павлович в зеленой мгле своего кабинета.
– Будет вам елка! Будут вам и свисток и кедровые шишки! – одиноко обещал Антон Павлович в зеленой мгле своего кабинета.
– Это даже лучше, чем плевать с балкона! – одиноко радовался Антон Павлович в зеленой мгле своего кабинета.
– Гораздо, гораздо лучше! – торжествовал он.
Зеленоватое в свете торшерного абажура с кисточками, жуткое восковое лицо писателя надувалось лягушкой.
Веря каждому слову любимого хозяина, готовая поддержать его в любых начинаниях, преданно смотрела на Антона Павловича снизу вверх, скаля клычки, Марсельеза Люпен Жирардо – дамская собачонка, похожая на жабу или лысую летучую мышь, с крысиной мордой, львиным хвостом, но верным человеческим сердцем.
Так, совершив это невероятное, потрясающее открытие – он властен над всеми, Антон Павлович Райский первым делом обратил свой взор на Вениамина Александровича Карпова, стоявшего на доске под видом белого слона//.
– Карпуша! Ку-ку! – дребезжащим шепотом обратился Антон Павлович к другу детства. И кукушка на стенных часах три раза куканула Антону Павловичу в ответ.
Брезгливо придерживая Карпа за голову большим и указательным пальцами правой руки, Антон Павлович отправил издателя «Центральной слави» на с4.
К Вениамину Александровичу у Антона Павловича имелись старые счеты…
Часть 2
Игра
Глава 1
Темнеет ночь, над морем звезды блещут…
С невыразимой тоской смотрел владелец ежедневной информационно-публицистической газеты «Центральная славь» Вениамин Александрович Карпов в тонированное стекло своего металлик-«лендкрузера». Ему было плохо. И даже хуже того! Вениамин Александрович страдал, сердце его скулило.
Сердце Вениамина Александровича скулило примерно так: «Маша! Маша, Маша, Маша-Маша-Маша-Маша! Где ты сейчас, Маша? Маша?! Маша! Где ты сейчас, Маша? Я гибну без тебя, Маша! Будь ты проклята, Маша! Маша-Маша-Маша, где ты сейчас»? – и все прочее, в том же духе.
Не то чтобы Вениамин Александрович и в самом деле не знал, где его Маша, и только потому сердце задавало ему этот тревожный вопрос. Совсем напротив! Вениамин Александрович отлично знал Машин адрес. Маша жила на улице генерала Звеникачалова, гранитный монумент которого только что промелькнул мимо расплющенного по стеклу носа издателя.
Упомянутая Маша жила в недавно купленной и отремонтированной Вениамином Александровичем двушке, на шестом этаже, над аптекой. Машины окна с нежно голубой шторкой кухни и перламутровой – спальни выходили на проспект. Однако проспект давно минул, а равнодушный, бесчувственный автомобиль, разрывая фарами весеннюю жасминовую тьму, уносил Вениамина Александровича от перламутровых шторок к коттеджному поселку «Щучий» по Второму Валежному шоссе к законной жене Маргарите Евгеньевне Карповой.
Вспомнив лицо Маргариты Евгеньевны, сердце несчастного издателя заскулило еще горше, и под этот печальный звук Вениамин Александрович заснул.
Не субботнее утро разбудило Антона Павловича, но Антон Павлович разбудил субботнее утро.
Проснувшись с радостью, как дитя просыпается перед рождественским праздником, Антон Павлович почувствовал забытую легкость на душе и в ступнях, потянулся и, плешивым юношей проскакав к подоконнику, распахнул гардины.
Разбуженное Антоном Павловичем утро вползло в кабинет утопленником.
Вдова утопшего горько всхлипывала за стеклом. Северный ветер трепал на вдове траурные одежды. Лицо несчастной было неразличимо в сыром тумане.
Бедная женщина билась лбом о карниз. И стучала по стеклу кулаками. Слезы покинутой разбивались о стекла, стекали ручьями, гудели в воронке дождевого стока и, пенясь, выплескивались в колодец двора.
Над струнами электрических проводов ветер проносил голубей. На крестах телевизионных антенн сидели мрачные галки. Скрипели качели. Из мутных луж всплывали и лопались пузыри. Пластмассовый грузовичок с оторванным верхом боролся с девятым валом.
Оранжевый детский совочек, прибитый течением к подъезду, сорвался и помчался, опережая шипящие гребни, в сторону канализационного люка…
Впустив весеннее утро, Антон Павлович, бодро насвистывая «Любви пришедшей грезы…», прошел к шахматной доске, с удовольствием провел взглядом вдоль ровно выстроившихся перед ним шеренг, подправил мизинцем на клетке чуть ровнее Вениамина Александровича, пощекотал друга детства за подбородок и, продолжая насвистывать, отправился умываться и завтракать.
Свист Антона Павловича – «Мне с лепестков роса в власа роняла слезы…», – похожий на скрип осенней калитки, выпью пронесся по просторным сумеречным коридорам квартиры и просочился под дверь спальни Людмилы Анатольевны.
Людмила Анатольевна в ужасе распахнула глаза, увидела седой потолок и услышала шаги мужа.
«Пурпурный шелк зари на кудри мне роняя…» – пронзительно свиристел лысый Антон Павлович за несущей перегородкой гостиной.
Людмила Анатольевна бросила недоверчивый взгляд на табель электронных часов. Часы указывали половину шестого субботнего утра.
Муж свиристел.
«Спятил он там, что ли?» – с неприязнью подумала Людмила Анатольевна, у которой от свиста мужа тут же подскочило давление и зачесалось в ушах.
«Пришел восторга час, и с завести-ю звезды…» – откликнулся из-за перегородки муж.
Людмила Анатольевна была не молода. Она давно уже вставала с хрустом, колотьем в боку и стонами. Проснувшись, любила полежать в тишине, отходя от сна, распрямляя колени и собираясь с силами.
Тем временем свист за стеной внезапно оборвался звонким фарфоровым лязгом и был мгновенно подхвачен воем Мерсью.
– Ах, черт тебя возьми! Собака! – сказал Антон Павлович сердито, и Людмила Анатольевна вскочила с постели, совершенно забыв про давление и колотье в боку.
Людмила Анатольевна любила мужа. Однако значительно больше мужа Людмила Анатольевна любила кофейный сервиз «Чайный».
Любимый сервиз был с изящным молочничком, крошечным кофейничком и толстенькой, на крученых ножечках сахарничкой.
Венцом сервизу служил комплект из шести тончайших лазурных чашечек на шести лазурных блюдечках, с коралловыми розочками и золотой каемочкой с краюшку.
Вдребезги разбив лазурную чашечку с коралловой розочкой и золотой каемочкой, Антон Павлович замер, тревожно озираясь и прислушиваясь. Он совершенно точно знал, что будет ему за лазурную чашечку с коралловой розочкой и золотой каемочкой с краюшку.
«Мамочки, я пропал!» – не зная, как спастись от возмездия и стоит ли заметать черепки в совок, думал он.
«Быть может, она захочет похоронить проклятые черепки на даче?» – думал он.
«Скажу, что это не я!» – думал он, глядя сверху вниз на глядящую на него снизу вверх Марсельезу Люпен. Преданная собачонка ради хозяина была согласна на все. Однако добрая Марсельеза никакими усилиями любви не могла бы допрыгнуть вместо Антона Павловича до верхней полки запертого Людмилой Анатольевной на золотой ключик буфета. И открыть его…
Людмила Анатольевна влетела на кухню разъяренным вепрем. Неумытая и непричесанная, со сверкающим, непримиримым взглядом она была страшна.
Антон Павлович попятился.
– Ты! – сказала мужу жена, не находя для него иных слов.
– Ты!.. – повторила она, опускаясь на колени перед черепками разбившегося о кармическое кухонное покрытие счастья.
– Ты… – собирая черепки в ладони, сказала Антону Павловичу жена.
И больше жена ничего не сказала мужу. Впрочем, сказанного Людмилой Анатольевной было вполне достаточно для того, чтобы Антон Павлович почувствовал себя полностью уничтоженным.
Униженный и растоптанный, поникший и презираемый, так и не попив кофейку из лазоревой чашечки с золотой каемочкой, Антон Павлович, больше не чувствуя юношеской легкости в душе и ступнях, поплелся к себе.
В квартире наступило утреннее субботнее безмолвие. В каждой комнате сонно тикали часы. Журчало в бачке. Дождливые слезы стекали по оконным стеклам, капая на карниз.
Всхлипывала над черепками Людмила Анатольевна.
Внезапно она перестала всхлипывать и, тревожно сомкнув брови в одну, обернулась к кухонной перегородке. Из-за нее, едва различимый, похожий на вой ветра в мусорной трубе, вновь доносился ненавистный свист мужа.
«Среди пустынной тьмы, как наново рожденный…» – свистел негодяй.
Людмила Анатольевна выронила черепки.
Запершись в кабинете, Антон Павлович пошел женой, Ф48-Ь4, объявляя белому Кре1 шах.
– Ты! – противным голосом Людмилы Анатольевны сказал Антон Павлович белому королю.
– Ты… – противным голосом Людмилы Анатольевны с угрозой повторил Антон Павлович.
– Ты!.. – добил белого короля противным голосом Людмилы Анатольевны Антон Павлович, после чего, переместившись на белый фланг, благополучно убрал себя с бьющей линии Kpe1-f1 и с удовольствием засвистел:
- «Нежнеет ночь,
- Над морем блещут звезды…»
Глава 2
Уж полночь близится, а Герман где-то бродит…
– Это май баловник, это май ча-а-ро-дей… Веет нежным своим опахалом!.. – сменив репертуар, блеял Антон Павлович из-под кабинетной щели, когда Людмила Анатольевна, застегнув на серой шейке Марсельезы Люпен Жирардо сверкающий стразами ошейник, волокла упирающуюся собачонку мужа к входной двери.
Собака Райского безмолвно боролась; стиснув челюсти и сверкая глазами, мерзавка впивалась в ножки банкеток, сворачивалась на полу креветкой и, проскользив в таком положении еще немного, застревала под мебелью.
Людмила Анатольевна удвоила усилия и, намотав собачонку на рулетку, с силой подсекла.
Марсельеза взлетела, в полете трансформируясь в вихрь, пыльным клубком прокатилась по подзеркальнику, сбив «Хрустальную арфу 1999», полученную Антоном Павловичем за роман «Заволжские хмари», и подбитой молью пала к ногам хозяйки.
– А-антон! Мы-ы уш-ли-И! – крикнула Людмила Анатольевна и, втянув скрежещущую когтями Марсельезу на лестничную клетку, с треском обрушила на голову мужа безмолвное проклятие захлопнувшейся двери.
– В прощанья час закат вставал багряный… – донеслось из-за двери. Сквозняк мелодично позвякивал пылью «Хрустальной арфы 1999».
Людмила Анатольевна задумчиво посмотрела в шахту, проводив взглядом погрохатывающую кабинку с Феклистой, сверилась с часами, обреченно вздохнула и поволокла побежденную и обездвиженную Марсельезу вниз по ступеням.
В ту же секунду, как дверь за женой захлопнулась, Антон Павлович оборвал романс на словах «Тебя мне не забыть!» и бросился к доске.
– Ну-с, господа людоеды, убивцы и негодяи…. Приступим?! – бодро потирая руки над головами неподвижных фигурок, спросил Антон Павлович и пошел Маргаритой Евгеньевной Карповой с Ь7 на Ь5.
Маргарита Евгеньевна Карпова часто вспоминала потом, что перед тем, как умереть, ей приснился странный и очень неприятный сон.
Маргарита Евгеньевна приснилась себе курицей. Курица Маргарита Евгеньевна бегала по стриженому газону под балконом их с мужем дома с башенками в коттеджном поселке «Щука», а муж бегал за Маргаритой Евгеньевной с чугунной сковородой, какие теперь вообще не используют.
Наконец Вениамин загнал бедную Маргариту Евгеньевну на кирпичный забор, после чего превратился в коршуна, взлетел и больно тяпнул ее клювом по темени. С забора полетели перья.
Маргарита Евгеньевна проснулась в слезах и с острой мигренью.
На улице звякнули, закрываясь, ворота. Мигнули в окно фары металлик-«лендкрузера». С литконференциале наконец-то вернулся муж.
Уснувшему по дороге домой в своем металлик-«лендкрузере» Вениамину Александровичу Карпову также явилась во сне жена.
Жена явилась Вениамину Александровичу в просторном саване натурального хлопка, босая, в зеленых бигуди и с чайными пакетиками на глазах.
Явившись, она слепо протянула к Вениамину сильные руки и хотела отнять у него подушку.
«Карп!.. Это моя подушка, я на ней буду спать!..» – шипела жена отвратительным голосом и тянула подушку к себе.
Вениамин Александрович подушки не отдавал. Крепко обняв постельную принадлежность обеими руками, главред прижал подушку к лицу коленями и для надежности сомкнул челюсти в верхнем левом углу нежно-голубой наволочки.
Тогда жена сильно дернула за правый угол, и Вениамин Александрович почувствовал с ужасом, как во рту у него рушатся зубы.
Несчастный издатель взвыл, выпуская наволочку, и бросился на шею супруге.
Но пальцы Вениамина не сомкнулись. Супружеская шея оказалась толстой, крученой и крепкой, как канат, и вскоре главред беспомощно повис на ней в пустоте, качаясь над пропастью.
Хохоча, с чайными пакетиками вместо глаз, в белом хлопковом саване и зеленых бигуди, жена ведьмой кружила над Карповым, обняв отнятую подушку ногами и с жуткой силой раскачивая мужа. Вениамин Александрович раскачивался и плакал. Мелькало и скрипело над головой ржавое потолочное крепленье… Далеко внизу метался канатный хвост… Летали перья…
«Маша! Маша!» – шептал в отчаянии милое имя гибнущий издатель.
Ведьма-супруга скакнула вдруг над Вениамином Александровичем и, придерживая канат руками, стала грызть веревки острыми зубами.
Затрещали нитки. Одна. Вторая. Третья…
Карпов зажмурился и, кувыркаясь, полетел в пропасть…
– Карпуша, Карпуша! – встревоженно шептала из тьмы, сгущенной над миром, Маргарита Евгеньевна и нежно трясла главреда за воротник, протягивая руку в тонированное окно автомобиля.
Карпов приподнял тяжелые от кошмара веки, моргнул, увидел жену и пронзительно закричал.
– Ах! – воскликнул Антон Павлович за Маргариту Евгеньевну, в мольбе воздевая руки к люстре.