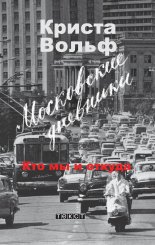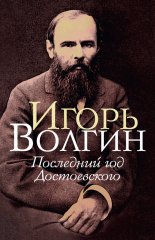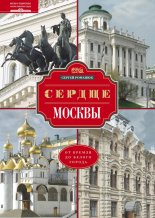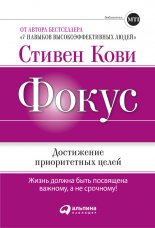Был целый мир – и нет его… Русская летопись Лазурного Берега Носик Борис
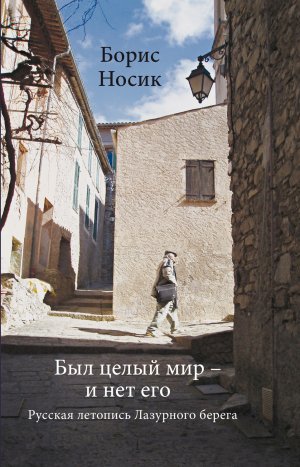
Великий князь Николай Николаевич был внушительный гигант, не вполне победоносный главнокомандующий русской армией в Первой мировой войне, а для большинства русских военных в эмиграции (их тут было великое множество и притом в видных чинах) – очевидный претендент на место наследника русского престола (подстегиваемый своим военным и придворно-политическим опытом, он, как свидетельствуют воспоминия, еще и при жизни племянника-императора не раз пускался в разные интриги).
Его младший брат, Петр Николаевич, который сосватал старшему (после всех братниных похождений с актрисами да купчихами) родную сестру своей черногорки-жены Милицы (страстную, неуемную, уже благополучно разведенную с герцогом Лейхтенбергским и оттого вполне свободную принцессу Анастасию), был существом менее впечатляющим, чем старший брат. Конечно, он тоже был великим князем, но князем скромным, слабого здоровья, а увлечен он был в наибольшей степени военно-оборонительной архитектурой, что вызывало лишь насмешки придворных. Но случилось так, что именно эта его странная причуда помогла в трудную минуту спастись во время крымских невзгод не только их со старшим братом семьям, но и младшей сестре императора с мужем ее, прощелыгой Юсуповым, а также престарелой вдовствующей императрице Марии Федоровне и другим родственникам. Построенное на манер крепости неприступное крымское дачное имение Дюльбер, окруженное стенами, помогло членам обреченной семьи продержаться от периода небезопасного буйства севастопольского и ялтинского советов до самого прихода немцев, и уж потом англичане перевезли их всех в Европу на борту крейсера.
Великая княгиня Милица, супруга Петра Николаевича, кроме всех прочих полезных придворных качеств, вроде умелого интриганства, известна была своими мистическими интересами и знакомствами. Это она привела во дворец к императрице Александре Федоровне французского мистика-целителя Филиппа Нозьера, а потом и сибирского мужика Григория Распутина. Обернулись все эти ее инициативы, как известно, весьма печально.
В эмиграции Петр Николаевич жил на бульваре Антибского мыса. Там у него в гостях на вилле «Тенар» и умер его старший брат, знаменитый воитель князь Николай Николаевич Младший, чьи торжественные похороны писатель Иван Бунин воспринял как символический конец старой России и доверил это чувство своему дневнику: «Думал ли я, когда я видел его 40 лет тому назад на Орловском вокзале <…> когда он ходил по платформе <…> был блестящ, молод с рыжеватыми кудрявящимися волосами <…> все лучшее погибло в войне <…> В правых рядах остались лишь худшие».
В крипте церкви Михаила Архангела похоронен также принц ПЕТР ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ (1868–1924), вполне милый человек, причастный к литературе, выступавший в печати под псевдонимом Петр Александров и общавшийся на Лазурном Берегу с Иваном Буниным, который и написал предисловие к книге рассказов этого принца. В той же церковной крипте погребен и духовник великой княгини Анастасии Михайловны архиепископ ГРИГОРИЙ ОСТРОУМОВ (1855–1947). Великая княгиня Анастасия Михайловна, столь неукротимо светская и трагедийно страстная в молодые годы, на склоне лет стала проявлять похвальное религиозное рвение и тем запомнилась православному приходу Ривьеры.
Знаменитым кладбищенским парком или, если угодно, парковым кладбищем называют в Каннах Гран Жас. Среди имен насельников этого живописного некрополя самым на сегодняшний день знаменитым, вероятно, является имя Фаберже.
КАРЛ ФАБЕРЖЕ (1846–1920) возглавлял семейную ювелирную фирму в Петербурге с отделениями во многих европейских городах. Драгоценные пасхальные яйца работы фирмы «Фаберже, в частности изготовления Михаила Перхина, государь император, как правило, дарил на праздник государыне. Впрочем, знаменитые эти ювелирные изделия знатоки чаще все же называют не шедеврами искусства, а просто артефактами. Что до придирчивого Владимира Набокова, то, упоминая их в своем автобиографическом романе, писатель называл их образцом чудовищной безвкусицы. Тем не менее эти дорогие изделия пользуются огромным спросом у нынешних богатеев, и причудливая судьба этих яиц вдохновила создателей многочисленных рассказов и фильмов, по большей части, детективного и криминального жанра с участием звезд мирового кино (к примеру, Одри Хепберн). Кстати, даже в самых серьезных музейных экспозициях (скажем, в Баден-Бадене или в нью-йоркском Метрополитэн) иногда выставляют подделки этих яйцевидных изделий. А вообще, по приблизительным подсчетам, предприятия Фаберже, где потрудились за полвека полтысячи мастеров, успели изготовить 126 000 яиц, поставив на каждом фирменное клеймо. За такое клейменое изделие на недавнем аукционе «Кристи» один из ценителей выложил три миллиона долларов.
Фотографии знаменитых изделий Фаберже любят разглядывать читатели гламурных изданий, чтобы потом рассказывать за обедом, что вот некое «Яйцо Ротшильда» стоит два десятка миллионов долларов и что петушок, изготовленный из драгоценных металлов, расправляет крылышки, кукарекает трижды, кланяется публике, а потом снова засыпает на целый час.
Однако отвлечемся все же от прославленных яиц. На кладбище Гран Жас похоронены представители славных русских семей ГОЛИЦЫНЫХ, ХОВАНСКИХ, БОБРИНСКИХ, БИЛЬДЕРЛИНГОВ, ЖАНДРОВ, КЛОДТОВ, ФОН УНГЕРНОВ.
Недалеко от входа можно увидеть могилу АЛЕКСЕЯ ПАВЛОВИЧА БОБРИНСКОГО. Он был выпускником Александровского лицея, уездным предводителем дворянства, министром путей сообщения и деятелем Религиозного Пробуждения, одним из виднейших проповедников евангельского христианства в России (секта пашковцев, последователей Редстока). После беседы с А.П. Бобринским Лев Николаевич Толстой записал в дневнике, что человек этот «поразил его жаром своей веры»: «никто никогда лучше не говорил мне о вере, чем Бобринский».
На первой аллее кладбища Гран Жас захоронены солдаты русского экспедиционного корпуса, а также некоторые русские военачальники. Такие, скажем, как генерал-лейтенант и востоковед ГЛЕБ МИХАЙЛОВИЧ ВАННОВСКИЙ (1862–1943). Он служил в лейб-гвардии Конной артиллерии, был военным агентом в Японии, участвовал в Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войнах, в частности, в походе Корнилова, был награжден Георгиевским крестом.
Из русских красавиц, похороненных на Гран Жас, нельзя не упомянуть дягилевскую балерину Ольгу Хохлову, первую жену любвеобильного художника Пабло Пикассо. В одной могиле с ОЛЬГОЙ СТЕПАНОВНОЙ РУИС-ПИКАССО (рожд. ХОХЛОВОЙ, 1891–1955) похоронен ее и Пабло Пикассо внук, юный Паблито, покончивший с собой в год смерти деда. В Каннах похоронена и внучка Ольги и Пабло МАРИНА ПИКАССО. Сам же знаменитый художник Пабло (Руис) Пикассо (1881–1973), проживший последние 12 лет своей жизни близ Мужена, завещал похоронить себя вместе со своей последней женой у входа в замок Вовенарг, что лежит на отрогах многократно запечатленной Сезанном горы Сен-Виктуар. Пикассо жил в этом замке еще до переезда в Мужен. Теперь у двери замка, перед могилой Пабло Пикассо и его супруги Жаклин, установлена статуя «Дама с вазой», украшавшая в 1937 году испанский павильон Парижской выставки. Можно напомнить, что славный этот и вполне укромный ныне Вовенарг знали еще древние римляне, что «добрый» король Рене в тысяча четыреста каком-то году подарил поместье своему врачу, а уж великий Пикассо был последним хозяином этого старинного замка.
На том же кладбище Гран Жас похоронен знаменитый летчик НИКОЛАЙ ЕВГРАФОВИЧ ПОПОВ (1878–1929). Он окончил в России Сельскохозяйственный институт, ушел добровольцем на Англо-бурскую войну, воевал на стороне буров и вернулся в Россию как раз к Русско-японской войне, во время которой в качестве военного корреспондента часто писал об авиации. После окончания войны уехал во Францию, работал механиков в авиашколе братьев Райт в городе По, учился летать и стал первым летчиком, совершившим полет над здешними Леринскими островами. Он не раз терпел катастрофы, но выжил, хотя и получил увечье. Несколько лет Николай жил в Каннах, был тренером по гольфу, но в 1929 году покончил жизнь самоубийством…
Как вы могли убедиться даже по кратким нашим сообщениям, доблестные воины, участники бесконечных войн XX века, составляют значительную часть русских насельников кладбища Гран Жас. Вот могила КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА ЖАНДРА (1871–1941), капитана 1-го ранга, члена эмигрантской организации Парижская Кают-компания. Здесь же упокоился барон МИХАИЛ ЛЕОНАРДОВИЧ УНГЕРН ФОН ШТЕРН-БЕРГ (1870–1931), который окончил Пажеский корпус, участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах, в чине полковника состоял в Собственном конвое Его Величества. Рядом – другой русский барон, ПАВЕЛ АДОЛЬФОВИЧ КЛОДТ ФОН ЮРГЕНСБУРГ (1867–1938). Генерал-майор Павел Клодт участвовал в Первой мировой и в Гражданской, командовал лейб-гвардии Финляндским полком, а в эмиграции писал статьи для одного из бесчисленных русских журналов – «Фин-ляндец».
Впрочем, похоронены на Гран Жас не только военные, но и люди вполне мирных профессий или те, кто, на их счастье, не успел повоевать, как, скажем, гардемарин ВСЕВОЛОД ЛЕОНИДОВИЧ ТВЕРДЫЙ (1903–1987). Родители увезли его семнадцатилетним юношей в Тунис, в Бизерту, где он учился в Морском корпусе, стал членом Морского собрания, а в поздние годы жизни был директором Русского дома в Кормей-ан-Паризи.
Барон ВЛАДИМИР КАРЛОВИЧ БИЛЬДЕРЛИНГ (1890–1960) изучал в России право, стал в эмиграции адвокатом, при этом открыл в Марселе на улице Гриньи книжный магазин и библиотеку «Культура». Бурное и чуть ли не обязательное участие в культурной, общественной, религиозной жизни является поразительной чертой той русской эмиграции. Барон Владимир Бильдерлинг посещал Русский литературный кружок, сотрудничал в Казачьем союзе, в Национальной организации витязей, выступал с докладами о литературе и русской истории, писал пьесы, был членом Совета русских адвокатов за границей и председателем Попечительского комитета Свято-Николаевской церкви. Энергия этих не падавших духом изгнанников была воистину неиссякаемой.
Староста церкви Архангела Михаила в Каннах, крещеный караим МИХАИЛ ИЛЬИЧ ЛОПАТО (1907–1986) из России эмигрировал в Харбин, потом уехал в США, окончил там Колумбийский университет, учился в Пенсильвании табачному производству, а вернувшись в Харбин, управлял табачной фирмой «Великобританское акционерное общество А. Лопато и сыновья». Позднее он переехал в Париж, где финансировал самые различные изобретения, и только в конце жизни удалился в Канны и стал старостой русской церкви.
Князь ПЕТР ПАВЛОВИЧ ГОЛИЦЫН (1868–1930) служил в Обществе Красного Креста в Петрограде, занимался благотворительностью в Париже, учредил Академию художеств в Ницце, был вице-председателем и казначеем Комитета помощи русским и французским беженцам. Это он помогал детскому приюту в Каннах, русским старческим домам и «удешевленным столовым для эмигрантов» на юге Франции.
Тех, кому не нашлось места на небольшом, площадью всего в девять гектаров, парковом кладбище Гран Жас, пришлось хоронить на гораздо менее живописном и более запущенном кладбище Абади. Так был разлучен в смерти со старшим братом труженик табачной промышленности ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛОПАТО (1912–1986). В 1950 году, когда их семейную табачную фабрику в Харбине конфисковали китайские коммунисты, Владимир Ильич вернулся во Францию, потом переехал во Флоренцию, где занимался продажей пушнины и посещал занятия во Флорентийской Академии искусств, писал портреты, работал переводчиком. Самыми памятными днями переводческой деятельности для него оказались переговоры московского завода им. Лихачева с дирекцией фирмы «Фиат и Оливетти». Вам самим судить, пошли ли на пользу автомашине «Москвич» эти переговоры, звучавшие в переводе добросовестного В.И. Лопато…
Напомню, что в поисках всех былых русских могил вам не придется чересчур долго бродить по этому куда менее живописному, чем Гран Жас, прибежищу мертвых. Об этом предупреждал заметкой в интернетной сети протодиакон Герман Иванов Тринадцатый. Он грустно поведал, что по истечении, скажем, полувекового срока аренды дорогостоящей здешней земли, прежних обитателей могил, как правило, выкапывали, а косточки их сжигали. Узнав об этом, русские священнослужители в Каннах озаботились о перенесении останков из русских могил на край кладбища и захоронении их в одном месте. Над этой общей могилой (по-французски fosse commune, но это грубее, чем русское выражение «братская могила», это просто «ров», «яма») тщанием церкви и французского архитектора Шарля Абади (чье имя носит это кладбище) сооружена была часовня Успения Божьей Матери, на стенах которой аккуратно воспроизведены (где кириллицей, а где и латиницей) имена захороненных здесь наших соотечественников.
Имена некоторых из захороненных на кладбище Абади беженцев размещены на стенах Успенской часовни по годам. Даже самое краткое напоминание об этих людях, само по себе отрадное, как всякое поминовение, вводит нас в общество соотечественников, продолжавших здесь свою жизнь вдали от «великого эксперимента». Эти изгнанники были люди очень разные, пришедшие из вполне несовершенного мира довоенной России, прошедшие через войны, через многие страдания, через эмигрантские унижения, через не слишком знакомую, но все же отчасти понятную нам с вами жизнь. И воспоминание о них тронет наши сердца сочувствием. Вот и начнем не торопясь, начнем, конечно, с женщин…
ИЛЬИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА (1885–1966), родом из знатной петербургской семьи, фрейлинаимператрицы. В Первую мировую войну, как многие аристократки, пошла сестрой милосердия на фронт, проявила незаурядную храбрость, заслужила четыре Георгиевские медали, в том числе одну золотую, 1-й степени. В Гражданскую войну ушла в Добровольческую армию, работала там в отделе информации. Останься она на родине, поставили бы ее к стенке, но ей удалось добраться до Канн и прожить сполна свои восемь десятков лет.
А вот матушка СОБОЛЕВА АННА ГРИГОРЬЕВНА (1887–1955), жена протоиерея Соболева, дочь владыки Григория Остроухова, хлопотавшего о создании храма в Каннах, бывшего духовником великой княгини Анастасии, а потом и настоятелем нового храма. Матушка Соболева сопровождала мужа в его переездах, всю жизнь трудилась при церкви, овдовев, стала сестрой монашеского сестричества Свято-Михайловского храма в Каннах.
Или певица СВИРЧЕВСКАЯ ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА (умерла в 1987 году, а года рождения у артисток спрашивать не принято). Была Вера Алексеевна активным деятелем церковной жизни. Эмигрантские ее годы начинались в Тунисе, куда ушел побежденный русский флот. Позднее она пела в Лионе, в Париже, в Ментоне. В хоре Михайло-Архангельского храма в Каннах была солисткой, так что, наверно, и нынче еще у еще живущих тогдашних прихожан голос ее звучит в памяти.
АЛАДЬИНА (урожденная ГЕРИНГ) АЛЛА ПЕТРОВНА (умерла в 1979-м) еще в 1950 году преподавала русский язык и историю в Четверговой школе при кружке Общественной помощи русским учащимся в Каннах. Целая система подобных школ по всей Франции помогала русским ученикам выучить родной язык и историю России, посещая раз в неделю такую школу при церкви. Обучение, да чаще всего и труд преподавания, там были бесплатные.
Надо сказать, что просвещение и воспитание молодых оказались в центре забот русского эмигрантского сообщества, и это было одной из самых замечательных черт той Великой послереволюционной эмиграции. Так что естественным будет для нас отыскать на стене Успенской часовни имя ЯХОНТОВА АРКАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА (1876–1938), связанное с одной из самых ярких и симпатичных страниц эмигрантской школьной жизни на Лазурном Берегу Франции. Не слишком долгая по нынешним понятиям жизнь Аркадия Яхонтова была полна трудов, успехов и даже взлетов. К своим сорока годам этот выпускник Александровского лицея в Петербурге побывал уже помощником управделами Совета министров, товарищем министра путей сообщения, личным секретарем Петра Столыпина и чудом избежал смерти во время покушения на Петра Аркадьевича на Аптекарском острове; в Гражданскую войну он заведовал всеми финансами в правительстве Юга России. После славного десятилетия на посту директора лицея в Ницце Аркадий Николаевич был занят бурной общественной деятельностью, выступал на Пушкинских торжествах 1937 года, печатал интереснейшие заметки о секретных заседаниях Совета министров в 1915 году, составлял «Исторический очерк Императорского Александровского лицея»… И все же годы его директорства в лицее были особенными и для его судьбы, и для всего эмигрантского просвещения, и о них жаль было бы не рассказать чуть подробнее.
Началось с того, что А.Н. Яхонтов с супругой устроили детский приют в ривьерском Йере. К 1925 году благодаря стараниям и щедрости некоторых еще не разорившихся эмигрантов в Ницце на вилле «Сен-Сир», неподалеку от Императорского парка и квартала Царевича, удалось открыть русский лицей Александрино, директором которого и одним из главных учредителей стал Аркадий Николаевич Яхонтов. Название лицея могло бы подсказать, что воспоминание об Александровском лицее и лицейском периоде жизни и было главным воспоминанием А.Н. Яхонтова и основной темой его сочинений. Осуществить мечту о русском лицее на Ривьере он, конечно, не смог бы без щедрой помощи одного из братьев Рябушинских (Михаила Павловича), его супруги Татьяны Фоминичны (последний их банк был разорен лишь мировым кризисом 1930 года), великого князя Андрея Владимировича и нескольких других эмигрантов, но за качество преподавания, за уникальную «семейную» атмосферу, царившую в лицее и на всю жизнь запомнившуюся этим детям из высокородных, но обнищавших семей, отвечали только А.Н. Яхонтов и милая его супруга. Еще до лицея существовал приют Яхонтова в Йере, о котором супруги Рябушинские изумленно отзывались в письме к друзьям: «Это не приют, а одна сплоченная, дружная семья, отношение Аркадия Николаевича и его жены к детям самое отеческое. Они дают детям ту любовь и заботу, которые могут дать только мать и отец». На князя Владимира Гагарина приют этот произвел «чарующее впечатление русского культурного и морального оазиса». Князь отдал учиться в Александрино своего любимого сына Юрия, который позднее погиб за Францию на новой войне. Создавая лицей для «недостаточных», обиженных судьбой эмигрантских детей, и сам Яхонтов, и другие русские меценаты сознавали серьезность своего долга перед младшим эмигрантским поколением. Вот что писал М.П. Рябушинский в письме, сопровождавшем очередной чек на нужды лицея, пожертвованный в Ницце бывшим министром земледелия А.Н. Наумовым:
А.Н. Наумовым внесено 1200 франков на выдачу частичной стипендии, для которой он избрал Александра Апухтина 7-ми лет. У Апухтиных в настоящее время положение исключительно тяжелое. Семья состоит из отца, к труду неспособного (отрезана рука по плечо), из матери очень слабого здоровья и четырех детей. Младшему восемь месяцев. Конечно, Александра можно было послать в коммунальную школу, но это мальчик слабенький, впечатлительный, нервный и болезненный, так что родители не могли решиться отдать его в такую школу, где ему не были обеспечены необходимые заботы, ласка и здоровый стол.
Для питомцев лицея Александрино годы учебы остались незабываемыми. И когда до иных из них лет через десять дошла весть о том, что лицей пришлось из-за недостатка средств закрыть, они восприняли эту весть как личное горе. Так и написала в письме соученице Нине Булгаковой бывшая лицеистка Оля Мясоедова, правнучка Л.Н. Толстого, в браке баронесса Ольга Укскуль…
В лицее Александрино царил культ оставленной родины, и эту ностальгию по России отражали памятные бывшим лицеисткам (с одной из которых автору этой книги довелось общаться в Ницце) строки лицейского гимна:
- Судьбы решеньем на чужбине
- Пока расти нам суждено,
- Родных полей, родной святыни
- Нам и увидеть не дано.
В приискании для лицея грамотных учителей у А.Н.Яхонтова не было особых трудностей. Все эти ветераны проклятых войн XX века, чьи имена найдешь на крестах кладбища и тесных дощечках в Успенской часовне, успели еще и до начала катастрофы получить приличное русское образование, а позднее стали убежденными педагогами. Взять хотя бы преподавателя поручика ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ОБОЛЕНСКОГО (1882–1964). Князь Оболенский окончил в Санкт-Петербурге классическую гимназию, а затем юридический факультет Санкт-Петербургского университета, отбыл воинскую повинность в лейб-гвардии уланском полку, служил в Министерстве внутренних дел, был предводителем дворянства, потом сражался на Гражданской, эвакуировался на Мальту, пожил в Англии и в Швеции, был инструктором по верховой езде в США, занимался торговлей, писал в рижскую русскую газету «Час», участвовал в монархическом съезде в Рейхенгале… Сам учился, беда учила, потом стал учить.
Или вот похоронен здесь русский педагог помоложе, подпоручик АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОЛОВИН (1896–1980). Родом он был из Ельца, окончил Пажеский корпус и Императорское училище правоведения, служил в армии Колчака, был командирован в Японию в качестве военного атташе, потом служил в парижском банке, открыл страховую контору в Париже. И общественной работой занимался, конечно: был секретарем зарубежного Объединения лейб-гвардии уланского полка и генеральным секретарем президиума Союза народных конституционных монархистов.
Еще одно имя: поручик СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ МАМОНТОВ (1898–1987), москвич, учился в Императорском московском институте инженеров путей сообщения, поступил в артиллерийское училище, воевал на Первой мировой, потом и на Гражданской, в знаменитой дивизии генерала Дроздовского. Эвакуировался в Галлиполи, двадцати трех лет от роду переехал в Париж, потом в Берлин, окончил архитектурное отделение в Высшем техническом училище, а тут снова война. Он уехал в Тироль, оттуда в Африку, где создал свою кофейную плантацию. Только на седьмом десятке лет вернулся во Францию, сперва в Валанс, где работал архитектором и писал, писал… Восьмидесяти трех лет от роду издал первый роман – «Походы и кони», а три года спустя роман «Сказание». Воспоминания о своей африканской жизни печатал в нью-йоркской газете «Новое русское слово». Было что вспомнить. Потом переехал в Канны…
Наверняка обращался он в здешний дом инвалидов за помощью к АЛЕКСАНДРУ ПРОХОРЕНКО, здесь похороненному в 1980 году. Прохоренко многим помогал, а с особой готовностью Русскому дому в Грассе. Благотворительностью занимался и князь ПЕТР ПАВЛОВИЧ ГОЛИЦЫН (1868–1930). Это он учредил в Ницце Академию художеств, был вице-председателем и казначеем Комитета помощи русским и французским беженцам, помогал содержать детский приют в Каннах, русские старческие дома и столовые на всем побережье. Такой же активной благотворительницей была супруга генерала Голицына Анна Борисовна (урожденная Щербатова).
Похороненный здесь же полковник Донского войска СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ ГОЛИЦЫН (1893–1981) родился на Дону и был по профессии хормейстером. В 1924 году он стал руководить во Франции казачьим хором, и в первый же год существования его хор выступал в зале Гаво вместе со знаменитой русской певицей Ниной Лежен.
Говоря о широком выборе достойных преподавателей для русских школ, упокоенных на кладбище Абади, не стоит забывать о московском уроженце штабс-капитане ИВАНЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ МИХЕЕВЕ (1895–1965). Он закончил Александровское военное училище и Офицерское воздухоплавательное училище в Петербурге, воевал на Первой мировой и на Гражданской, эвакуировался в Галлиполи, затем оказался в Югославии, где закончил историко-филологический факультет. С 1923 года жил в Париже, давал там уроки русского языка.
Выпускник Полоцкого кадетского корпуса и Михайловского артиллерийского училища РИКС ВАСИЛЬЕВИЧ ПАНОВ (1887–1968) воевал на Первой мировой войне в армии генерала Самсонова, был деятелем русского Красного Креста, а добравшись до Франции, поселился в Ванве и 42 года крутил баранку такси. В свободное от шоферской работы время он вел бурную общественную деятельность: был председателем Объединения полоцких кадетов во Франции, вице-председателем Союза российских кадетских корпусов, входил в суд чести Союза, организовывал Дни кадетской скорби.
Имя инженера МИХАИЛА ВАЛЬДЕК-РУССО (1892–1967) часто мелькает в эмигрантской хронике спортивных событий. Свою работу, директорство на производстве железобетонных конструкций, он совмещал с председательством в Российском спортивном обществе и при этом был известен несколькими изобретениями в области строительной техники.
Полковник лейб-гвардии ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ КУСОНСКИЙ (1884–1958) был членом сразу нескольких войсковых объединений: объединения лейб-гвардии Тяжелого артиллерийского дивизиона, объединения лейб-гвардии Третьей артиллерийской бригады. Он был братом того самого генерала Павла Кусонского, который, проворонив советского агента Скоблина, дал ему сбежать навстречу смерти от рук своих братьев-чекистов.
Активной общественной деятельностью отмечена была жизнь ротмистра Киевского гусарского полка ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА ПРОТОПОПОВА (1888–1960). Он окончил в юности Киевский кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище, участвовал в двух войнах, а в начале 30-х открыл в Ницце на площади Франклина русско-французский книжно-филателистический магазин. Состоял при этом членом приходского совета Свято-Николаевской церкви.
Полковник КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ МАНДРАЖИ (1880–1970) окончил Пажеский корпус, заслужил Георгиевский крест на полях мировой войны, а в Ницце был почетным председателем Общества взаимопомощи русским военным инвалидам, активным сотрудником журнала «Военная быль» и газеты «Русское воскресенье».
Графа МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА РАЕВСКОГО (1912–1983) увезли во Францию еще ребенком. Он работал в Париже инженером на авиационном заводе, а в Ницце был членом Объединения лейб-гвардии гусарского полка и любил чувствовать себя «среди своих».
Поручик гусарского Ингерманландского полка АЛЕКСЕЙ БУЛАТОВ (1888–1966) участвовал в Гражданской войне, а после Галлиполи жил на юге Франции и активно участвовал в работе всех местных военных организаций: и русского Общевоинского союза, и Общества галлиполийцев, и Союза русских офицеров – участников войны. На заседаниях этих обществ он выступал с докладами о генерале Корнилове и Корниловском походе.
Сен-Поль-де-Ванс – Ванс – Кань-Сюр-Мер
Отправляясь из Канн на восток, мы доберемся до маленького сельского кладбища в городке Сен-Поль-де-Ванс. По прихоти судьбы могила русского (французского, еврейского) художника Марка Шагала стала, наверное, самой знаменитой могилой этого берега (наподобие могилы Наполеона в Париже). Как и многие другие явления массовой популярности, феномен этот с трудом поддается объяснению. Люди, никогда в жизни не видевшие картин и не ходившие в галереи, не изучавшие историю искусства, не причисляющие себя ни к хасидам, ни к атеистам, ни к русским, ни к французам, ни к белоруссам, попав на Лазурный Берег, считают своим долгом непременно побывать на могиле Марка Шагала. При этом они готовы на долгое ожидание и паркуют свои машины в бесконечной очереди на подъеме к местечку Сен-Поль-де-Ванс.
МАРК ЗАХАРОВИЧ ШАГАЛ (1905–1993) родился на хасидской окраине белорусского Витебска, начинал учиться живописи у местного художника И. Пена, посещал рисовальные классы в школах Петербурга (учился у Зайденберга, у Бакста, Рериха, Добужинского), а потом отправился в Париж, где поселился в дешевом (а то и вовсе бесплатном) общежитии, устроенном для бедных художников добрым скульптором Буше. Здесь, в этом бедняцком «Улье», его, кстати, и навестил однажды по своей профессиональной нужде скромный корреспондент киевской газеты по фамилии Луначарский.
Попав в те годы в гости в парижский салон Елены Эттинген, Шагал познакомился с Аполлинером, с Блезом Сандраром и другими гениями французского авангарда, которых поразил своими удивительными живописными «полетами во сне и наяву». Благодаря Аполлинеру Шагал устроил персональную выставку в берлинской галерее и через Берлин вернулся наконец на родину, где его заждалась невеста Бэлла. В тот переломный год случились два великих события в жизни Шагала и всей Европы: Шагал женился на прекрасной Бэлле, а в Европе началась Великая война.
В ожидании свадьбы Шагал усердно рисовал ворота хасидского кладбища, чувствуя, что упрямо возвращается к вере предков, однако судьба распорядилась иначе. В Петербурге случились революция, а потом Октябрьский переворот, и маленький большевистский чиновник из Витебска бестрепетно отобрал у Шагала французский паспорт. Дальше все сложилось еще непредвиденней. Главным комиссаром по делам просвещения, культуры и искусства в великой России большевики назначили шустрого корреспондента киевской газеты, авангардиста Анатолия Луначарского, которому пришлось срочно подыскивать себе подручных комиссаров для бесчисленных сфер культурной жизни. Вот тогда-то ему на память и пришел молодой художник Шагал из парижского «Улья» с его изящно летающей над деревней хасидской невестой. Так Шагал стал комиссаром искусства по Витебской области.
Энергично взявшись за преобразование захолустного родительского гнезда в мировую столицу современного искусства, Шагал пригласил в Витебск из Петербурга и Москвы самых крутых авангардистов – Лисицкого, Веру Ермолаеву, Малевича, – которые не мешкая создали в Витебске объединение «Уновис» (Утвердители нового искусства). Главными направлениями нового искусства решительный Малевич считал кубизм, футуризм и супрематизм, при сопоставлении с которыми мечтательно экспрессионистские полеты Шагала над местечком с невестой Бэллой представлялись по меньшей мере наивной данью вчерашнему дню. И вскоре произошло нечто вовсе уж незаслуженное и обидное. Собравшись на свое заседание, крутые авангардисты объявили наивного Шагала устаревшим и неласково предложили гостеприимному витебскому комиссару покинуть милую родину. В общем они отобрали у живописца его обжитое местечко, мирное хасидское предместье Витебска. Хорошо, хоть оставили кожаную комиссарскую куртку и длинный наган в деревянной кобуре…
Изгнанный Шагал отправился с женой в Москву, где приступил к оформлению спектакля в еврейском театре Грановского. Он увлеченно расписывал стены театра, создавал декорации… Впрочем, и авангардисту Грановскому работы Шагала показались недостаточно авангардными. Время торопилось вперед, как писал в ту пору Эренбург…
Видя, как мается на суровом севере никому не нужный экспрессионист-парижанин, поселившийся в скудной подмосковной Малаховке и уныло преподававший рисунок военным сиротам, сердобольный Луначарский посоветовал Шагалу уехать на выставку куда-нибудь западнее, скажем, в Каунас к милому авангардисту Балтрушайтису, а может, и еще дальше, туда, где нас (большевиков) еще нет. Разумно послушавшись совета старшего, упаковав скромные пожитки и картины, Шагал с семьей сел в поезд и, не задерживаясь в Каунасе, добрался в до боли знакомый Париж, где дела его пошли помаленьку на лад: Парижу его яркая живопись, полеты с нежной Бэллой и «русские» деревни пришлись ко двору. Это, наверно, и была в представлении парижан та жуткая экзотическая Сибирь, о которой писал Сандрар…
Надо сказать, что Шагалу повезло несказанно. Особенно если вспомнить, как плохо кончили в России почти все его обидчики, крутые авангардисты. Им в скорости стало так плохо, что никакой Луначарский не мог их спасти. Ну а к странному, нежному и мирному художнику Шагалу из нищего «Улья» и незабываемого витебского местечка со временем пришел настоящий успех, который не оставлял его на всем протяжении всей долгой жизни. Каких только почетнейших заказов он не исполнял, каких всемирно чтимых потолков не расписывал, каких церквей не украшал витражами, каких великих почестей и денег не обрел на долгом своем пути! А уж посмертный его успех и вовсе превзошел все возможные ожидания, так что скромная могила Марка Шагала и его второй жены Валентины Бродской (из семьи знаменитых табачных фабрикантов) на деревенском кладбище Сен-Поль-де-Ванса входит в число объектов обязательного посещения для всякого человека с законченным и даже незаконченным образованием. Это всем на берегу известно…
Гораздо менее известно, что на том же маленьком кладбище Сен-Поль-де-Ванса, в могиле семейства Лаффит похоронена уроженка города Киева СОФЬЯ ГРИГОРЬЕВНА ЛАФФИТ (1905–1979). После революции она эмигрировала в Берлин, а оттуда в Париж, где училась в Сорбонне и в Школе восточных языков, работала в Национальной библиотеке Франции и создавала там Славянский отдел, которым и руководила долгое время. Она была также вице-президентом Института славяноведения в Париже, написала несколько монографий о русских писателях и поэтах (Блоке, Толстом, Чехове, Ахматовой и Есенине), была награждена орденом Почетного легиона. В Париже Софья Григорьевна познакомилась с молодым сыном художника из Сен-Поль-де-Ванса Пьером Лаффитом и вышла за него замуж. Со временем ее муж стал сенатором от департамента Вар, одним из авторов и создателей здешнего «Латинского квартала в зарослях», некоего подобия американской Силиконовой долины, на Лазурном Берегу к северу от Антиба. Софья Григорьевна активно помогала мужу в его трудах, приглашая знаменитых русских гениев выступать в этом ривьерском очаге высокой учености и культуры. Безжалостный рак вдруг скрутил ее в расцвете лет, и сенатор Лаффит овдовел. Он и привел меня на здешнее кладбище, к семейной могиле Лаффитов, у которой мы с ним постояли молча в ослепительном сиянии осеннего дня…
А в его кабинете, в домике у автобусной остановки в лесу, где шофер объявляет в микрофон: «Площадь Софи Лаффит», – я увидел над письменным столом большой портрет его незабываемой русской жены. Собственно, и сама ведь здешняя Силиконовая долина носит ее имя: «София Антиполис». Когда посетите знаменитую могилу Шагала, отыщите рядом и семейную могилу Лаффитов…
От живописного горного гнезда художников Сен-Поль-де-Ванса, парящего в обрамлении старых стен и кипарисов над лимонными рощами и целым морем цветов, мы пешком (тут всего три-четыре километра) доберемся до столицы этого края, живописного городка Ванса, климат которого считается столь целительным, что даже обитатели Ниццы выезжали когда-то сюда «на дачу». Городок сохранил средневековые дома и развалины, ворота и стены XIII века, кафедральный собор XI века и фонтаны, проглядывающие сквозь вереницы апельсиновых деревьев. Старинный Ванс (древнеримский Винитиум) был городом знаменитых епископов, два из которых канонизированы, один стал в XVI веке Папой, а еще один прославился как поэт и член Французской академии.
Что касается чудного климата и заботы о здоровье, то как ты его, здоровье, не береги, конец настигает даже самых знаменитых и осторожных пациентов, хотя бы и в райском Вансе. Здесь угасли в окружении сочувственных родственников и литературных собратьев знаменитый Дэвид Герберт Лоуренс (автор романа «Любовник леди Чаттерлей»), а также гениальный польский писатель Витольд Гомбрович. Последний здесь и похоронен. Впрочем, на скромном этом кладбище завещала похоронить себя со всей возможной скромностью и ярчайшая петербургско-парижская звезда, балерина и муза-вдохновительница русского «серебряного века» ИДА РУБИНШТЕЙН (1883–1960). Уставшая от жизни Ида просила начертать на своей надгробной плите лишь две французские буквы – I.R., но слава нагнала ее и за гробом, так что теперь там много чего написано, на этой могилке номер пять шестнадцатого участка… Да и хватило бы всего двух нерусских букв для прославления той, кого русская эмигрантская пресса называла не иначе как «божественной Идой»? Мне как-то попала в руки затертая тетрадка русской «Иллюстрированной газеты» за 1928 год. Газета сообщала, что Ида только что вернулась из триумфального турне по Италии. Репортер спросил ее, не пожелала ли она навестить самого Муссолини, на что «божественная Ида» сказала, что дуче «слишком занят. У него в день по пятьдесят свиданий, а она не привыкла быть пятьдесят первой». И русский читатель верил: нет, не привыкла. И хотя распорядок дня великого дуче мог создавать жесткие ограничения, для «божественной Иды» было сделано исключение.
Ида родилась на Украине в очень богатой семье, получила домашнее образование, говорила на четырех европейских языках, не считая русского, идиша и украинского. Впрочем, счастливое детство девочки Иды длилось недолго, она рано потеряла родителей. Сиротку взяла на воспитание богатая петербургская тетя, которая скоро убедилась, что, во-первых, девочка видит себя красавицей, а во-вторых, считает себя гениальной актрисой. И довольно рано Ида сумела убедить в этом весь мир, потому что была талантливой, трудолюбивой и упорной до одержимости. Она много училась драматическому мастерству – сперва у Юрия Озаровского, потом в Москве у Александра Ленского, потом балетному искусству у знаменитого Михаила Фокина, за которым поехала для этого в Италию. Первое ее сольное выступление не имело успеха, нo вскоре она решилась сыграть библейскую Саломею в театре Комиссаржевской, а когда спектакль был запрещен, одна станцевала «Танец семи покрывал» и сорвала бешеные аплодисменты, скинув последнее из покрывал. При этом она в своем танце не кружилась до изнеможения, не била «резвой ножкой ножку», как описывал это занятие А.С.Пушкин… Учитель Иды Михаил Фокин сообщал, что Ида сделала как раз то, чего он от нее ожидал: «…большой силы впечатления она добивалась самыми экономными, минимальными средствами. Все выражалось одной позой, одним жестом, одним поворотом головы. Зато все было точно вычерчено, нарисовано. Каждая линия продумана и прочувствована <…> Какая сила выражения без всякого движения!»
Итак, Ида убедила в своем таланте не только публику, но и бывалого Фокина. И вскоре всех знатоков и профанов она смогла убедить в исключительности своей красоты. «Это была действительно красавица декоративного, ослепительного типа, – писал искусствовед Аким Волынский. – Жизнь на ее лице трепетала зрительно-нервная в вибрациях утонченной неги <…> Ни пятнышка, ни микроба банальности <…> Все окружавшие Иду Рубинштейн в тогдашних театрально-литературных кругах казались ее лакеями, даже Фокин и Бенуа…» Влюбленный Волынский путешествовал с Идой по Европе, влюбленный Лев Бакст придумывал для нее костюмы, а в Париже она имела шумный успех в «Клеопатре» у Дягилева. Потом Ида танцевала на сцене Гранд-опера, еще позднее создала французскую драматическую труппу, снималась в кино, создала свой знаменитый «Балет Иды Рубинштейн», где работали у нее и Фокин, и Бакст, и Бронислава Нижинская. Для нее писали музыку Стравинский и Равель (в частности, сверхпопулярное «Болеро» последнего).
Ида поздно ушла со сцены. Она обратилась в католичество (как раньше крестилась в православие), а в кровавые годы Первой и Второй мировых войн была сестрой милосердия. И всегда, как многие русские красавицы в эмиграции, занималась благотворительностью. О ней часто писали в журналах, еще чаще художники рисовали ее портреты. Ида Рубинштейн, увековеченная на портрете Валентина Серова, конечно же обрела большую славу, чем чудная балерина в балете Сергея Дягилева…
Последние десятилетия своей жизни Ида Рубинштейн прожила в благословенном Вансе, где и похоронена. Металлическая дощечка, прикрепленная какими-то благожелателями к ее надгробной плите, упоминает о каких-то еще и других малоизвестных ее добрых делах из времен последней войны:
ИДА РУБИНШТЕЙН1960Ветераны стрелки-истребители группы «Альзас» своей покровительнице в годы войны
На кладбище в Вансе похоронен также известный художник АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГРИЩЕНКО (1883–1977). Он родился в семье служащего под Черниговом, рано осиротел, рос на попечении вдовой матушки с девятью сестрами и братьями. Из девяноста четырех лет своей жизни почти семьдесят он провел в Париже или на юге Франции и умер в ривьерском Вансе. Его картины охотно включают в каталоги русской и французской живописи, но он сам с определенностью считал себя украинским художником и с упорством примыкал ко всем украинским сообществам, будь то в Париже или в Нью-Йорке.
Учиться он начинал в черниговской семинарии, а продолжал в Полтаве. Потом в Киеве, Москве и Петербурге учился на биолога и на художника. За свой долгий век Грищенко немало поездил по свету, да и выставлялся не только в Париже, Страсбурге, Лиможе или Кань-сюр-Мер, но и за пределами Франции. Особенно тесно он связан был с Американским украинским институтом, при котором больше полвека тому назад основал Фонд Грищенко. Согласно завещанию художника, вся американская коллекция его картин была в 2006 году передана Национальному художественному музею в Киеве.
В молодые годы Грищенко учился живописи у Юона, Машкова, Кончаловского и других мастеров, с неизбежностью отдал дань всем «измам» «серебряного века», участвовал в многочисленных выставках «нового» искусства России («Свободного искусства», «Бубнового валета», «Мира искусства»), писал искусствоведческие статьи и манифесты, излагая в них идею «цветодинамос» – свою теорию о природе цветового восприятия (например, манифест «Цветодинамос и тектонический примитивизм», статья «Цветодинамос»). Впрочем, и манифест, и статья эта появились уже на исходе блаженной вольницы «серебряного века», и как человек, тонко чувствующий веянье времени и заранее улавливающий сгущавшийся в условиях окрепшей диктатуры запах тюремной камеры, Грищенко уже в 1919 году двинулся «с милого севера в сторону южную» – через Киев и Севастополь в Константинополь. Конечно, он не только бежал, спасаясь от насильников, но и без конца работал, а в Константинополе сумел продать американцу-археологу 66 своих новых акварелей, что позволило ему уехать на полтора года на этюды в Грецию. В 1921 году он приехал в Марсель и на добрых 56 лет поселился во Франции. Став признанным мастером морских пейзажей, он продал 17 своих работ известному коллекционеру Барнсу, укрепив свое положение. Теперь он мог жениться, и ему отыскалась знатная французская невеста с красивым пейзажным именем Лила (что значит сирень). Он жил с ней в самых замечательных, давно уже облюбованных художниками всего мира уголках французского Юга – сперва добрых пятнадцать лет в Кань-сюр-Мер, где так прозрачен раскаленный полуденный воздух, потом в Стране басков, в Сен-Жан-де-Люсе, потом в Оверни и в теплом, щадящем Вансе, где я долго искал его могилку на местном кладбище. Чтоб вам так долго не искать: ее номер тридцать четыре на пятом участке.
Помнится, в первый раз, устав ее искать и услышав неподалеку русскую речь, я обратился за помощью к незнакомым соотечественникам, украшавшим чью-то свежую могилу. Я приметил имя на временной дощечке недавно усопшего – Евгений Петриковский. Когда я стал рассказывать в Ницце об этой своей поездке в Ванс художнику Алексею Оболенскому, он пришел в необычайное волнение. «Это же был известный здешний коллекционер живописи, этот Петриковский!» – воскликнул Алексей Львович. Позднее я случайно нашел упоминание о Петриковском в последнем сочинении когда-то очень популярного автора (творца Штирлица) Юлиана Семенова. Уже в полузабытые времена, когда щели в «железном занавесе» были так редки и узки, этот лихой журналист, издатель, драматург и прозаик колесил на своей машине по Европе в поисках самых рискованных встреч и приключений, истинных и мнимых сокровищ. Так вот, в последней книге, написанной незадолго до его безвременной и вполне загадочной смерти на больничной койке (последовавшей буквально за час до возможного разоблачения им неких опасных тайн), Семенов цитировал свое совместное с бароном Фальц-Фейном (вместе с которым он искал по свету знаменитую «янтарную комнату») письмо в Министерство культуры СССР от 31 августа 1980 года. Процитирую и я это письмо, ибо, как обнаружилось, Министерство культуры и другие серьезные организации задолго до меня слышали о Петриковском, человеке, на свежую могилку которого я случайно набрел в Вансе. Вот что писал в нем почтенный лихтенштейнский барон фон Фальц-Фейн:
…я и мой друг Юлиан Семенов продолжили нашу работу по поиску, выявлению и охранению произведений отечественного искусства [тут от лица барона грамотно обозначена цель совместных странствий. – Б.Н.] На Лазурном берегу, в Вансе <…> мы посетили дом г-на Петриковского, где собрана уникальная коллекция русской живописи – Репин, Левитан, Саврасов, Степанов, Малявин, Сверчков, Пастернак, Федотов, Лансере.
Г-н Петриковский трудился всю жизнь, создав ферму куроводства, и на заработанные деньги смог купить свою коллекцию. Ныне он стар и тяжко болен, и нам пришлось вести переговоры о судьбе картин с его женою – немкой, которая выучила русский язык. Переговоры, которые мы провели, позволяют надеяться, что судьба полотен выдающихся русских живописцев находится под нашим контролем и мимо нас в будущем не пройдет.
Дочитав это письмо, я подумал, что счастливо отделался там, на кладбище, привязавшись со своими расспросами к удрученным родственникам… Ох уж эта моя врожденная экстравертность! Да и стоит ли на ночь читать ужастики про смерть бедного Юлиана Семенова, про его отравленного «совершенно секретного» замглавного, про его нового сотрудника Артема Боровика и целую вереницу «не до конца выясненных» обстоятельств. При таком скоплении случайных смертей и «невыясненных обстоятельств» легко понять авторов «Биографического словаря русского зарубежья», которые в статье о Евгении Карловиче Петриковском даже не упомянули о главном увлечении его жизни, о его «уникальной коллекции», и, конечно, о неизбежных страстях и опасностях, которые таит возня вокруг ценных коллекций в нынешнем мире. Даже о его куроводстве они не упомянули. Зато авторы словаря справедливо отметили, что ЕВГЕНИЙ КАРЛОВИЧ ПЕТРИКОВСКИЙ был меценат и благотворитель, жертвовал на нужды дома престарелых в Грассе, где было много русских обитателей, а также на нужды Союза русских инвалидов (а их после долгих невзгод прошлого века было предостаточно). Да и на организацию благотворительных концертов в пользу бедствующих соотечественников не жалел он ни сил, ни времени. Что же касается разведения кур, то этот промысел многих россиян из вполне высокого (и даже придворного) общества выручал беженцев в эмиграции, а в войну столь значительный приносил доход, что и на главное увлечение Е.К. Петриковского, коллекционирование живописи, покупку русских картин денег ему хватало… В своей последней книжке («Лицом к лицу») писатель Юлиан Семенов вполне идиллически описывает их с бароном Эдуардом Фальц-Фейном визит в дом Петриковского – потрясшую гостей коллекцию русской живописи, верную собаку хозяина, его супругу-немку, которую звали для простоты «мадам Петри», и еще бодрого в ту пору хозяина, который, если верить писателю, сам готов был снимать со стен бесценные полотна, раз уж выпала бесценная оказия немедля отослать их все на родину, в родной Киев.
Хозяйка против мужниных разорительных безумств якобы не возражала, но все же хотела для начала посоветоваться с дочкой. В письме, которое нагрянувшие в дом Петриковского искатели сокровищ адресовали по свежим следам в советское Министерство культуры, все представало, если помните, не так головокружительно. Напомню, что вдобавок к письму неугомонный Ю. Семенов успел тут же создать некий общественный «Комитет за честное отношение к русскому наследию», в который убедил вступить не только своего спутника-барона, но еще и писателя-коммуниста Джеймса Олдриджа, французского писателя Жоржа Сименона (автора четырех сотен криминальных романов, такого же, как сам Семенов, труженика и затейника), а также самого всемирно известного Марка Шагала. Понятно, что с наибольшим энтузиазмом воспринял это начинание сам барон Эдуард фон Фальц-Фейн. Он, кстати, надолго пережил всех попутчиков, набранных Семеновым в комитет (в том числе, и самого Семенова). Совсем недавно, отмечая свой сотый день рождения, барон сообщил корреспондентам, приглашенным им на празднование своего юбилея в княжество Лихтенштейн, что он еще способен регулярно заниматься спортом и любовью, что ему удалось отправить на родину (в рамках все того же «честного отношения к русскому наследию») около двух сотен произведений и что один из портретов даже сумел дойти до адресата, крымского музея в Алупке. О странствиях других отправленных предметов пока сообщается с меньшей определенностью. Наиболее надежным на этот счет мне показалось почти научное сообщение, появившееся в научном журнале «Биология» (раздел «История науки»), где было сказано, что упомянутый барон «помог возвратить на родину картины Айвазовского, рисунки Репина, Ларионова, Бенуа, часть которых снова потеряли в той же Аскании». Нельзя ли причислить коллекционерство к опасным профессиям, мой мирный читатель, мой спутник-паломник?
Одним из самых живописных уголков Лазурного Берега на пути из Ванса в Ниццу является парящий в высоте над берегом старинный центр городка Кань-сюр-Мер, так называемый Верхний Кань, с его замком рода Гримальди. От замка, с площадей и улиц этого живописного Верхнего города открывается потрясающий вид на горы и море. Художники всего мира уже в начале прошлого века обожали Верхний Кань, писали здесь картины, селились близ замка. Один из проезжих иностранцев (американский писатель Генри Миллер) писал отсюда в письме на родину: «Художникам тут здорово. Прозрачнее воздух и представить себе трудно. Почти как в пустыне».
В 1927 году на одной из улочек, прилегающих к здешнему замку, поселился замечательный русский художник БОРИС ДМИТРИЕВИЧ ГРИГОРЬЕВ (1881–1939). До сих пор в названии этой виллы слышны имена русского художника и его супруги Эллы – «Бориселла».
Борис Дмитриевич Григорьев родился в большом, но далеко не самом живописном волжском городе Рыбинске. Молодая шведка родила его русскому чиновнику вне брака, так что до четырех лет мальчик считался безотцовщиной. Может, именно рыбинское сиротство и детские обиды наложили столь мрачный отпечаток на весьма непростой характер взрослого художника Григорьева, но, возможно, был этот характер платой за его редкостный талант. А талант у него был, по признанию современников, блистательный. Максим Горький, портрет которого так удался Григорьеву, написал, что художник Григорьев «талантлив удивительно». Учился молодой Григорьев в Строгановском училище в Москве, потом в Петербургской Академии художеств. Рано (с 1909 года) выставлялся на столичных выставках, был участником художественных экспериментов «серебряного века», близким к кругу отчаянного генерала-авангардиста Кульбина, завсегдатаем кабаре «Бродячая собака», а позднее вместе с Судейкиным и Яковлевым расписывал новое петроградское кабаре Пронина «Привал комедиантов»…
Григорьев рано прославился верностью рисунка, парадоксальным юмором, отчаянным трудолюбием, а побывав в 1913 году в Париже, привез с ходу прославившую его замечательную серию парижских пейзажей. Он писал замечательные портреты тогдашних знаменитостей, исполненные лукавого гротеска, почти карикатурные, но нисколько не обижавшие модель, а передававшие жизненную роль, идею, литературу… Даром, что ли, многие из знатоков называли его живопись то «литературной», то «идейной», однако самого Григорьева не задевали эти звучащие для многих художников уничижительно определения. К письму и всякой «литературе» Григорьев питал истинную слабость и, получив какое-либо письмо от литератора, заваливал неосторожного корреспондента бесчисленными восторженно-сумбурными письмами, полными рассуждений о своей обостренной (как у всякого полукровки) «русскости». Вряд ли кому удалось одолеть в чтении весь «корпус» его переписки с А. Бенуа, М. Горьким, Е. Замятиным, Н. Евреиновым, Н. Рерихом, В. Каменским.
Борис Григорьев любил выпускать альбомы рисунков и живописи, сопровождаемых чужими и собственными текстами. В 1918 году вышли его альбом «Intimite» и знаменитый альбом «Расея», где предстала взбудораженная (и неприглаженная) северная (где-то близ Вытегры) деревенская Русь послереволюционного времени, зрелище отнюдь не слабое, скорее, устрашающее. Григорьев был тогда очень в моде. Большевистская власть привлекла его к украшению столицы в первую годовщину Октябрьского переворота. Однако в самый разгар всех своих успехов, в 1919 году, Борис Дмитриевич Григорьев, посадив в лодку жену Эллу и четырехлетнего сына Кирилла, вдруг отчаянно погреб по глади Финского залива в сторону Финляндии.
После Финляндии были Берлин, Париж, Сантьяго, Нью-Йорк… Григорьев писал портреты, декорации, он имел бешеный успех, критика превозносила его мастерство, его «мудрую линию» (по словам художника, «ироническая гипербола делает линию мудрой»). Да он и сам писал о своем искусстве в письмах друзьям и коллегам без лишней скромности: «…сейчас я первый мастер на свете <…> я не боюсь любого конкурса, любого заказа, любой темы, любой величины и любой скорости». Новый альбом Григорьева «Лики России» выходил с текстами на английском, французском и немецком. И вот, как я писал, в 1927 году Борис Григорьев купил виллу близ замка Гримальди в Старом городе Кань-сюр-Мер и назвал ее «Борисэлла».
Конечно, он хотел бы вернуться на родину, но – получив хоть какие-нибудь гарантии безопасности и уважения к таланту. К тридцатым годам, однако, художник успокоился: выпустили во Францию писателя Замятина, и тот, подолгу живя у Григорьева, успокоил его, что никаких гарантий «уважения к таланту» он в большевистской России не получит.
Григорьев выпускал новые альбомы, уплыл за океан, преподавал в Сантьяго, был деканом художественной академии в Нью-Йорке, а когда наконец вернулся на свою виллу на склоне горы близ замка Гримальди, его вдруг скрутил рак желудка. Он был похоронен на местном кладбище у замка. Потом в ту же могилу легла его вдова…
Через полвека после смерти Бориса Григорьева я набрел однажды на виллу «Борисэлла» и был приглашен в дом сыном художника Кириллом, доживавшим одиноко в совершенно пустом и нищем доме: все, что можно было продать, проесть (а главное, пропить), было им давно продано, и проедено, и пропито. В прежнем кабинете отца стоял на полке единственный уцелевший портрет, совсем небольшой, а на столе лежала единственная уцелевшая открытка, написанная рукой Горького. Сегодня вся семья художника вместе – слева от входа на кладбище…
Родины дальней цветок на могилы прославленной Ниццы
Кокад
Спустившись от стен замка к морю, отправимся на восток. Несмотря на краткость нашего путешествия (каких-нибудь восемь километров), мы успеем пересечь реку Вар, переместиться из департамента Вар в департамент Приморские Альпы, даже въехать в пределы самого многолюдного города Французской Ривьеры. Тут мы и остановимся, в западной части Ниццы, в районе Кокад, на месте бывшего местечка с тем же названием, где с позапрошлого века разместилось второе по значимости во Франции обиталище наших усопших соотечественников, русское кладбище Кокад (или Николаевское кладбище). Первое описание его вышло в свет в Петербурге сто лет тому назад, и я не устою перед искушением (подобно известному ученому-некрополисту, выпустившему новое описание того же кладбища в 2012 году в Москве) процитировать здесь вступительное слово к тому старому справочнику, написанное протоиереем А.П. Мальцевым:
В недалеком расстоянии от города, в местности, называемой Кокад (1/2 часа езды в экипаже), находится устроенное в 1865 г. на пожертвования частных лиц, принадлежащее церкви, православное кладбище. По Высочайшему соизволению Императора Александра II кладбище названо Николаевским в память (скончавшегося в Ницце) Цесаревича Николая Александровича. В 1898 году оно увеличено покупкой нового значительного участка земли. Кладбище расположено уступами, в средине помещается обширная часовня. Благодаря обилию роскошной южной растительности, кладбище производит впечатление сада: перцовые, оливковые и кипарисные деревья перемежаются пальмами и другими южными растениями, но более всего самых разнообразных роз. Из массы зелени и цветов выступают различных форм белые мраморные памятники, некоторые из них устроены в виде православных часовен. С верхней террасы открывается величественная картина на безграничное лазуревое море. Налево расстилается Ницца, где кипит жизнь. До 1865 г. православных хоронили на общем городском кладбище, на горе, называемой Chateau (по существовавшему на ней в прежнее время замку). Не оставивших средств заплатить за могилу опускали в общую могилу (fosse commune); с устройством же Николаевского кладбища все неимущие православные, не только русские, но и других национальностей, погребаются бесплатно на средства церкви в постоянных могилах. Допускается, кроме православных, погребение усопших русских подданных и других христианских исповеданий. Тела некоторых усопших перевезены не только из окрестностей Ниццы (Hyeres, Ментоны, Канн), но и из Пизы, Женевы, Парижа и даже Петербурга…
Так вдохновенно, хотя и чуток старомодно, описал это знаменитое обиталище мертвых серьезный автор протоиерей Мальцев, а чувствительная Вера Николаевна Бунина в январе 1932 года, вернувшись на снимаемую ими с Иваном Алексеевичем виллу в Грасс после похорон поэта и писателя Владимира Ладыженского, так рассказывала мужу об этом самом Кокаде:
Кладбище идет террасами. Дорожка замыкается церковью-часовней. Иконостас темный, дубовый <…> Служил священник Любимов. Был и хор. Похоронили так, как дай Бог всякому <…> А мне, Ваня, на Кокаде так нравится, что я бы не имела против лежать там.
Но супругам Буниным не суждено упокоиться на Кокаде. Вообще, на православном кладбище Кокада писателей похоронено сравнительно с Парижем совсем мало (даже и те, что жили в Ницце, не там похоронены), но раз уж речь зашла о писателях и поэтах, начнем с ГЕОРГИЯ ВИКТОРОВИЧА АДАМОВИЧА (1892–1972), человека в эмигрантских кругах широко известного. Он был поэт, но главную свою известность приобрел не стихами, а рецензиями в главной эмигрантской газете «Последние новости» и в журналах, редакторской работой (он возглавлял отделы поэзии в журналах), авторитетом у поэтической молодежи. Он был основателем Цеха поэтов, а затем и Второго цеха поэтов. И еще был знаменит знакомством и сотрудничеством с легендарным поэтом и мучеником Николаем Гумилевым. Отсвет гумилевской легендарности как бы падал на Адамовича до самой его кончины, на пути к которой он прошел не мало излучин и колебаний, вполне, впрочем, предсказуемых, ибо колебался чаще всего с линией моды, с ходом событий и с требованиями эмигрантской публики. При этом он всегда был во главе молодой поэзии, всюду успевал и трудился непрестанно.
Родился Адамович в Москве в дворянской семье (сестра его Татьяна Высоцкая прославилась позднее как балерина), учился в Санкт-Петербургском университете на историко-филологическом факультете и уже в последние годы русского «серебряного века» заявил о себе как о молодом вожде, наставнике и глашатае нового искусства. На Запад он уехал как раз вовремя. В 1922 году он уже был в Берлине, а через год в Париже, где сразу пришелся ко двору. Он был неплохо подготовлен к своей роли вождя эмигрантской поэтической молодежи, красноречив, деятелен и весьма умен. «Неглуп, но штампован», – записала при первом знакомстве с ним жена Вера Николаевна Бунина, имея в виду особый тип петербургских молодых людей «нетривиального поведения». Адамович был неоспоримым лидером молодых русских «монпарно», проводивших вечера на парижском бульваре Монпарнас, писавших стихи и картины, ежевечерне позволявших себе чашечку кофе или рюмку того-другого, но не всегда ужин… Адамович был их мэтр, основатель школы, которую они сами назвали «парижской нотой». Ближайшим его другом и возлюбленным (о чем писал среди прочих затравленный «нотой» молодой Сирин-Набоков) был талантливый Георгий Иванов, имевший также любимую жену, поэтессу Ирину Одоевцеву. Вдобавок ко всем литературным занятиям Адамович был страстным картежником и по вечерам проигрывал все заработанное за день. Помню, как однажды я разговорился возле Свято-Николаевской церкви в Ницце с симпатичным русским прихожанином этого храма, и он вдруг спросил у меня, не хочу ли я купить у него черновые тетради Адамовича. Тетради мне были не нужны, но я спросил из любопытства:
– Выигрыш в карты?
Собеседник удивленно подтвердил нехитрую мою догадку, а я вспомнил, что в Ницце у Адамовича жила тетушка, бывшая замужем за богатым англичанином. Окончательно проигравшись, Адамович приезжал к тетушке в Ниццу подкормиться и восстановить здоровье и смертельно скучал при этом по Монпарнасу… Сюда он и приехал доживать свои последние годы. Впрочем, Анна Ахматова рассказывала, что он еще водил ее однажды по Парижу в 1965 году; это было за семь лет до его смерти. В последние годы жизни Адамович еще выступал на несоветском радио «Свобода». В передаче он вдруг и похвалил нового классика Набокова, с которым так бешено враждовал в лучшие свои годы. Впрочем, станция «Свобода» пригодилась для заработка уже в самом конце пути, а после войны Адамович еще побывал ярым советским патриотом и написал восторженную книгу о Сталине. Бывший друг Адамовича Георгий Иванов объявил тогда этот поступок «концом Адамовича», однако уже и после смерти Иванова было очевидно, что Адамович успеет еще не раз изменить способ выживания. Он готов был согласиться с Пушкиным в том, что «не продается вдохновенье», но что-то он все-таки должен был продавать, нищий эмигрантский литератор. Если и не рукопись, то хотя бы голос, мнение, нажитый авторитет. Многолетнюю власть в видной эмигрантской газете… Кое-чему Адамович, впрочем, оставался верен до конца жизни – своей любви к поэзии, пристрастию к литературным интригам и, конечно, к картам… Хорошо было Набокову, который играл так умеренно и не любил ресторанчиков с музычкой.
В 50-е годы невыносимую скуку Ниццы скрашивали Адамовичу беседы с известнейшим писателем русской эмиграции МАРКОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ АЛДАНОВЫМ (1886–1957). Алданов снисходительно относился к шалостям Адамовича и рад был разговорам о страстно обожаемой обоими литературе. Встречались они обычно в композиторском квартале, неподалеку от улицы Клемансо, где жил последние годы своей жизни с женой Татьяной Марковной быстро стареющий, но все еще неутомимый Марк Александрович.
Алданов (фамилию-псевдоним он себе соорудил из букв вполне симпатичной фамилии Ландау) был сыном богатого сахарозаводчика из Киева. Посмертно он разместился тоже не слишком далеко от Адамовича, в семейном склепе на французском Кокаде. Встречи и беседы с Адамовичем проходили в угловом кафе на скверике Моцарта. Часто проходя через этот сквер на пути к морю, я присаживаюсь за столик и размышляю, о чем они могли говорить. Конечно, о кумире Алданова, о котором он бесконечно и взахлеб разговаривал с Буниным, Льве Николаевиче Толстом и его великом произведении «Война и мир». О фатализме истории, в котором, вслед за Толстым, убежден был и Алданов, об ее иррациональности, об исторических персонажах, о которых никто так хорошо и часто не писал, как Марк Алданов.
Алданов пользовался несравненной и бесспорной популярностью в эмиграции и как человек, и как писатель. Как писателя его упрекали (иногда вполне справедливо) только Георгий Иванов и Марина Цветаева, но думаю, что оба испытывали при этом раздраженную зависть к безупречной порядочности Марка Александровича. Адамович, преодолевая эту слабость, писал об Алданове как единственном русском европейце и последнем джентльмене эмиграции. Совершенно так же говорила мне об Алданове на девятом десятке своей жизни милая моя подруга Татьяна Алексеевна Осоргина-Бакунина. С изумлением рассказывала она, что, когда французское правительство предложило и Алданову возместить потерю его разграбленной немцами библиотеки, тот отказался брать деньги у правительства, в котором все эти благородные жесты исходили от поклонника Петена Франсуа Миттерана. Алданов вообще был брезглив и прятал руку при встрече с людьми «нерукопожатными». Думается, для скучающего Адамовича он делал исключение все из-за этой вот общей их страсти к литературе, но в карты, к сожалению для Адамовича, Алданов не играл. За карточным столом из своих врагов он мог встретить только Ходасевича.
После блестящего окончания гимназии во Львове Марк Алданов поступил сразу на два факультета Киевского университета: на юридический и физико-математический (по отделению химии). Уже до окончания университета он успел напечатать первую научную статью, потом работал в химической лаборатории в Париже. С началом Первой мировой войны вернулся на родину и занялся разработкой способов защиты от химического оружия. Конечно, он был противником войны и солидным ученым, знающим юристом, но страсть к литературе уже тогда брала верх, и в 1915 году он выпустил книгу о Толстом и Роллане. Конечно, он был «левый», социалист, но уже тогда оказался достаточно зрелым, чтобы не принять революцию и написать об этом «Армагеддон». В 1919 году он через Константинополь добирается до Парижа и здесь, вдобавок к своим украинским факультетам, заканчивает еще Школу социальных и экономических наук. В первые годы он отдает дань российским впечатлениям, пишет по-русски и по-французски книги «Ленин», «Две революции», «Огонь и дым», но продолжает усердно работать в области физической химии. Однако успевает и редакторствовать в журнале «Грядущее России». Год спустя он почти на два десятилетия становится сотрудником популярнейшей газеты эмиграции «Последние новости» и ее популярнейшего литературного журнала «Современные записки». Два года он проводит в Берлине, где редактирует литературное приложение к газете «Дни», а уж потом на многие десятилетия (с перерывом на американские военные годы) до самой смерти остается во Франции.
Потрясающе плодовитый и безотказно работоспособный, Алданов создает тетралогию «Мыслитель» (исторические романы «Святая Елена, маленький остров», 1921 г., «Девятое термидора», 1923 г., «Чертов мост», 1925 г. и «Заговор», 1927 г.). Никогда не забуду первую из этих книг, взятую мною на дом в парижской Тургеневской библиотеке, активнейшим сотрудником которой был, конечно, и Алданов. Книга была, как и остальные книги этой серии, о великой и проклятой французской революции, а на первой ее странице я прочитал дарственную надпись: «Дорогому Ивану Алексеевичу от автора». Так началась моя парижская жизнь, с блестящей книги Алданова, подаренной блистательному Бунину. Бунин, кстати, читал все, что писал Алданов и с нетерпением ждал продолжения в каждом новом журнале. Став нобелевским лауреатом и получив право выдвижения на премию, Бунин шесть раз выдвигал Алданова, но ни Алданов, ни выдвинутый Солженицыным Набоков премии не получили.
После тетралогии о XVIII веке Алданов сел за трилогию о русской интеллигенции, о революции и изгнании: романы «Ключ» (1930), «Бегство» (1932), «Пещера» (1933). В 1950 году он написал роман «Истоки». Критика уже тогда находила блестящим эпизод убийства императора Александра II. Позднее появились «Начало конца», «Живи как хочешь» и «Самоубийство». В алдановских романах о таком важном периоде русской истории любой добросовестный критик отметит скрупулезную верность документам, огромную работу над архивами, фатализм, признание иррациональности потока жизни, тщательный и скептический анализ мотивов исторических фигур, удачу в создании многих литературных портретов – Наполеона, Бакунина, Муссолини и даже Ленина. Прозу Алданова ценили такие эстеты, как упомянутый уже Бунин, Ходасевич, Набоков.
Кроме романов Алданов написал множество биографических повестей – о Микеланджело, Байроне, Бетховене, Ломоносове – и несколько книг эссе, среди которых великолепная «Ульмская ночь. Философия случая» (1953). Кстати, он оказался не худшим из футурологов: верно предсказал исход «холодной войны», и с сожалением – распад Советского Союза. При всем этом он не переставал работать химиком, написал солидные труды, получившие доброжелательную оценку ученых: «Актинахимия» (1937) и «К вопросу о возможности новых концепций в химии» (1951).
Как многие русские люди двух последних столетий, мечтающие о братстве и терпимости, Алданов в эмиграции вступил в масонскую ложу, был одним из основателей ложи «Северная звезда» (можно вспомнить, что масонами были и Грибоедов, и Пушкин, и Карамзин…). В 1940 году Алданов, спасая жизнь, уплыл за океан, в Нью-Йорке участвовал в создании нового русского журнала, продолжал писать, как всегда, был активным общественным деятелем и благотворителем. Он вернулся во Францию в 1947-м и поселился в Ницце. Вероятно, здоровье его уже не выдерживало парижского ритма, писательского, редакторского труда и научного, безудержной общественной работы. Ведь до войны он входил в правление Парижского союза русских писателей и журналистов, заведовал литературным отделом газеты «Дни» и литературно-критическим отделом газеты «Возрождение», был членом редколлегии газеты «День русской культуры» и не пропускал дискуссий на воскресеньях Мережковских и молодежных собраниях журнала «Числа». Состоял членом Общества друзей русской книги, членом Общества Тургеневской библиотеки, Союза деятелей русского искусства и Общества помощи больным и нуждающимся русским студентам и так далее и так далее. Он всем был нужен, и к нему все прибегали за помощью. Понятно, что в Ницце, где не было почти ничего, кроме Исторического общества да театрального кружка, он с неизбежностью приходил на площадь Моцарта поболтать с Адамовичем, кстати, написавшем о нем восторженную книгу. «О, это был такой благородный человек, – говорила мне об Алданове 90-летняя Татьяна Алексеевна Бакунина. – Я таких просто не видела». А уж она насмотрелась на благородных людей эмиграции и в окружении своего мужа Михаила Осоргина, и в своей библиотеке, главном прибежище читающего эмигрантского Парижа.
Похоронен Алданов не на православном, а на французском Кокаде.
Среди пишущих людей, погребенных на православном Кокаде, княгиня ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА БЕБУТОВА (1879–1952). При рождении она была Данилова, в первом браке Бебутова, во втором – Сологуб, в третьем стала Скроботовой. С начала XX века стала модной писательницей, но до этого выступала как актриса на сцене Александрийского театра и Литературно-художественного общества (под сценическими псевдонимами Гуриелли и Гурская), была прекрасной женщиной, обремененной многими талантами. Над стилем своих романов она не особенно мучилась: графы и графини выходили из экипажей, садились в автомобили и говорили приятные, всем знакомые слова. Уже заглавия ее произведений предупреждали читателя о предстоящих ему приятных волнениях: «Муки страсти», «Вампир. Роман из литературной жизни Петербурга», «Дочь падшей». Зато те, кто жаждали описаний красивой жизни, не были обмануты в своих ожиданиях: «В сияющие южным солнцем дни спортивная и фешенебельная Ницца переполняла этот модный уголок. <…> Отель. Роскошный, фешенебельный, многоэтажный, на залитом солнцем морском берегу <…> Здесь – сердце ликующей Ниццы».
Недавно я взял почитать роман Бебутовой «Лазурный берег» в приходской библиотеке на рю Лоншан (в самом «сердце ликующей Ниццы»), и вот тут-то доселе чужая зависти душа моя вдруг потемнела от этой самой зависти: книжка была зачитана до дыр и замаслена прикосновением послеобеденных пальцев до полной неразличимости текста. Мои-то питерского издания книжечки в той же библиотеке сверкали нетронутой чистотой.
К могиле действительного статского советника ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА ЖЕМЧУЖНИКОВА (1830–1884) привел меня однажды один из любопытнейших людей в Ницце, смотритель кладбища Кокад ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ ВЕРЕВКИН (1930–2007), в ту пору для большинства из знакомых в Ницце просто Женя Веревкин. «Вот это, – сказал Женя, подводя меня к могиле, – это был тоже, как вы, писатель. Козьма Прутков. Да и я тоже, как вы, интересуюсь, разгадываю…»
Сообщение это я тогда, каюсь, воспринял скептически, поскольку Женя уже не раз подводил меня со своими кладбищенскими открытиями. И то правда, проверить эти сведения ему было нелегко, так как с библиотеками не только на Кокаде, но и в Ницце не просто. Но на сей раз Женя оказался прав: чиновник Министерства почт и телеграфа, действительный статский советник Владимир Жемчужников, похороненный в этой могиле, действительно был одним из авторов замечательных «Сочинений Козьмы Пруткова».
История эта началась в середине позапрошлого века, летом, на отдыхе, в блаженной усадебной глуши Орловской губернии. Молодые братья Жемчужниковы и их друг поэт Алексей Константинович Толстой, отдыхая у себя в имении, веселясь, загорая, плавая, балагуря, со смехом читая в журналах поэтические пиесы лишенных юмора знаменитостей, полные напыщенных размышлений и патриотических восторгов, – произведения Хомякова, Бенедиктова или Щербины, решили придумать своего собственного персонажа, некоего выспренного поэта-философа, по главному занятию министерского чиновника, на досуге изрекающего всякие мудрые мысли, сочиняющего басни нa манер Эзопа или дедушки Крылова, а может, также драмы или государственной важности трактаты. Так вот и появился на свет летом 1851 года высокомерный «директор Пробирной Палатки» Козьма Прутков (имя он, впрочем, получил лишь год спустя, сперва звался Кузьмой, как почтенный камердинер в их имении, потом стал Козьма, что звучало возвышенней).
С каждым годом коллективного творчества этот персонаж становился все реальней, надменней и требовательней. Он обрастал подробностями характера, а жизнь его отцов и создателей (прежде всего Алексея и Владимира Жемчужниковых и Алексея Толстого) шла своим чередом. Самый молодой из них, Владимир Жемчужников (тот, что ныне лежит на Кокаде), выйдя из Кадетского корпуса, поступил в Петербургский университет, закончил там филологический факультет и уехал в далекий город Тобольск служить адъютантом у генерал-губернатора. Еще через год он ушел ополченцем на Крымскую войну, служил в Стрелковом Императорской Фамилии полку, а после войны директорствовал в частном пароходстве и много-много лет служил в разных мнинистерствах и канцеляриях, в том числе возглавлял канцелярию в Министерстве почт и телеграфа. Он дослужился до звания действительного статского советника, но в российскую историю вошел не как высокий образец чиновника на государственной службе, а как один из авторов коллективных «Сочинений Козьмы Пруткова», в том числе как автор многих прославленных изречений этого мифического персонажа. Иные из этих афоризмов так органично вошли в русскую речь, что многие лица, их употребляющие, пребывают в полной уверенности, что это просто-напросто старинные перлы народной мудрости. Например, «никто не обнимет необъятного», «заткни фонтан, дай отдохнуть и фонтану», «зри в корень», «если хочешь быть счастливым, будь им» и еще и еще…
Уже в студенческие годы Владимира Жемчужникова соученики и родственники отмечали в его поведении недюжинный дар актерства, подражания, пародии, что сгодилось ему вскоре для его литературных упражнений. И если постоянные соавторы Владимира по «Козьме Пруткову» (брат-поэт Алексей Жемчужников и поэт Алексей Константинович Толстой) издавали в те же годы и другие книги, то Владимир Жемчужников был верен лишь своему главному герою, собрату-чиновнику, своей жертве-канцеляристу. Зато и главная заслуга в том, что имя этой горделивой канцелярской крысы стало в России мифическим, принадлежит в наибольшей степени труженику канцелярий и писателю Владимиру Жемчужникову, имя которого безмерно уступает в популярности имени героя. В потоке изречений Козьмы наряду с абсурдом и благоглупостями блистают иногда истинные сокровища здравого смысла, а иные рассуждения его (несмотря на неизбежную эволюцию чувства юмора) и нынче сохраняют свежесть. Скажем, рассуждение о «патриотическом предпочтении даже худшего родного лучшему чужестранному». Вот истинный патриотизм! Или взять суждение о специфике исконного нашего свободолюбия: «Нет на свете государства свободнее нашего, которое, наслаждаясь либеральными политическими учреждениями, повинуется вместе с тем малейшему указанию власти».
Имевшие шумный успех «Сочинения Козьмы Пруткова» были изданы двенадцать раз еще до революции. Их тогда уже охотно растащили на цитаты и в русской прозе, и в разговорной речи, о них много писали и после 1917 года, особенно в пору «оттепели». Критики видели место редкостного русского автора-насмешника где-то между Гоголем и Чеховым. А милый человек Владимир Михайлович Жемчужников бросил службу в канцелярии, оставил губительный петербургский климат и уехал хворать на Лазурный Берег Франции. Там он и помер, в теплой Ментоне, на пятьдесят пятом году жизни.
Из не слишком многочисленных русских писателей, похороненных на православном Кокаде, чаще других современники поминали добрым словом ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ЛАДЫЖЕНСКОГО (1859–1932). Не то чтоб всем помнились или нравились его стихи (близкие по своим мотивам к стихам Надсона) или даже проза его, или публицистика (вполне серьезные, идущие в русле Толстого и педагога Ушинского), а просто человек он был благородный, деятельный и приятный (что не так уж часто встречается среди литературных гениев), посвятил свою жизнь добрым делам и в первую очередь народному просвещению.
Родился Ладыженский в дворянской семье, посещал знаменитое училище правоведения, а потом долго жил в своем пензенском имении Липяги, занимаясь литературой (первый псевдоним его и был Липягин) и бурной просветительской деятельностью в рамках земства (которого состоял гласным). Земское движение для русских интеллигентов было истинной кузницей гражданского общества. Ладыженский на свои деньги открывал сельские школы, фельдшерские пункты, библиотеки, сельские больницы, жертвовал на стипендии для крестьянских детей. Он и сам преподавал в открытой им школе, а также читал курс для народных учителей, издавал книги для народных школ. Он и сам много печатался, издавал стихи и прозу, писал в газеты. В Первую мировую войну был главным уполномоченным Красного Креста Земских союзов, пытался даже после революции и переворота продолжать свой самоотверженный труд просветителя, но успел вовремя эмигрировать. Жил под Парижем, занимался с детьми, одно время был воспитателем в Общежитии русских мальчиков. Потом переехал в Ниццу.
За свою жизнь он дружил со многими писателями, в том числе с Чеховым, Чириковым, Лесковым, Плещеевым. Был знаком с Л.Н. Толстым, общался с ним в Ясной Поляне, написал большую книгу, где много рассуждений о смерти, об отношении к ней святых старцев и самого Толстого.
В кратенькой дореволюционной автобиографии Ладыженский написал о себе:
Занимался земской деятельностью в Пензенской губ. Был 6 лет подряд членом губернской земской управы, работал по вопросам народного образования, несколько лет подряд был руководителем земских педагогических курсов для народных учителей.
Супруга Ивана Бунина записала в своем дневнике за 1932 год:
20 января. …похороны В.Н. Ладыженского. <…> Он был нам настоящий друг и верный человек с редкими душевными качествами. Ни одной жалобы, ни одного стона, а жизнь его была все последние годы очень трудная, даже тяжелая…
21 января. Вчера мы хоронили Влад. Ник. Ладыженского на кладбище Кокад. <…> …похоронен он удивительно хорошо, даже в «фамильном» склепе. <…> Кладбище идет террасами. Дорожка замыкается церковью-часовней. Иконостас темный, дубовый <…> Служил священник Любимов. Был и хор. Похоронили так, как дай Бог всякому…
Дома нас ждал Ян (Иван Бунин. – Б.Н.). Мы ему все рассказали. <…> Я сказала, что мне на Кокаде так нравится, что я не имела бы против лежать там, а Ян сказал: «Нет, я предпочитаю кладбище в Пасси – идут трамваи, проходят люди…»
У Бунина были тогда в разгаре последняя любовь и ожиданье Нобелевской премии. Ему было едва за шестьдесят, он жаловался на здоровье, но прожил еще больше двадцати лет, какой там Кокад?
На Кокаде похоронен переводчик и журналист, основатель одной из самых знаменитых в Европе на протяжении всей второй половины прошлого века эмигрантских газет («Русская мысль») ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛАЗАРЕВСКИЙ (1897–1953). Родился Лазаревский в Киеве, там учился на юридическом факультете, но кончить не успел. Уже тогда сотрудничал в газете «Киевлянин», а в пору Гражданской войны был при армии Деникина, входил в какую-то очень тайную разведорганизацию под названием «Азбука». Доводилось мне читать, что доносили тайные эти деятели на большевистские симпатии замечательной русской кинодивы Веры Холодной. Потом из той же «Азбуки» докладывали с чувством выполненного долга самому Деникину: «Уморили красную королеву». Впрочем, может статься, что сам будущий редактор-основатель «Русской мысли» к этому убийству не имел отношения. Дело темное. Известно только, что это делу Деникина никак не помогло, а недоучившийся журналист Лазаревский эмигрировал и оказался в Праге. Там он и доучился, кончил юридический факультет университета.
Доучившись, Владимир Лазаревский перебрался в Париж и работал там в газете «Возрождение». Оказался очень активным деятелем и был в 1926 году избран председателем правления Общества по изучению проблем Лиги Наций. Занимался он также переводом русских писателей на французский язык и, если верить авторам биографического словаря «Русское зарубежье во Франции», был за это в 1928 году награжден орденом Французского Возрождения. Причастен он и к деятельности множества других общественных организаций. Остается лишь добавить, что был он женат и растил четырех усыновленных им детей.
Среди немногих литераторов, похороненных на русском Кокаде, эмигрантским читателям, особенно тем, кто читал вторую по популярности русскую газету «Возрождение», знаком был фельетонист, драматург и прозаик АЛЕКСЕЙ МИТРОФАНОВИЧ РЕННИКОВ (настоящая его фамилия была СЕЛИТРЕННИКОВ, 1882–1957).
Ренников печатался во многих русских эмигрантских газетах, издал в изгнании сборник рассказов, несколько романов («Жизнь играет», «Зеленые дьяволы», «Кавказская рапсодия» и др.), а также сборник драматических произведений. Кроме многочисленных фельетонов, Андрей Митрофанович Ренников печатал также в «Возрождении» воспоминания о своей гимназической молодости и о первых годах эмиграции. Симпатичная супруга писателя ЛЮДМИЛА ВСЕВОЛОДОВНА, не страшась языковых трудностей, самоотверженно носила обе мужнины фамилии, представляясь как СЕЛИТРЕННИКОВА-РЕННИКОВА (1886–1950).
Большую часть насельников православного Кокада составляют все же не писатели, а бывшие воины, предприниматели, чиновники, священнослужители и разных занятий интеллигенты… Цвет русского офицерства. Даже на простое перечисление всех кокадских генералов (а среди них есть люди незаурядной храбрости, учености, великодушия) у нас не хватит места в книге, ибо на каждую букву алфавита мы найдем генерала, адмирала, военного инженера, военного теоретика: генералы Игельстром, Кардо-Сысоев, Киселевский, Козен, Кремков, Кречетов, Кучеров, Лаврентьев, Левашов, Лемновский, Меликов, Меллер-Закомельский, Миклашевский, Мошнин, Муратов, Петржицкий, Петров, Свечин… Разбить большевиков не смогли. Но служить им не захотели. Чем они только не занимались в эмиграции! Открывали гаражи, мастерские, бары, торговали чужими виллами, издавали журналы… В Ницце до сих пор помнят на бульваре Гамбетта генеральские гаражи, бары, конторы. Заботились о сбережении имен павших в бою сослуживцев… Генеральским женам удавалось пережить мужей. Шелест их голосов помнят стены старческих домов русского Красного Креста. Их имена собрал в своем очередном (на сей раз Кокадском) перечне Иван Грезин. Его новое (Кокадское) описание русских захоронений издано московским издательством «Старая Басманная» и начинается (без всякой неожиданности) с имени генеральской вдовы АБАЗА СОФЬИ СЕРГЕЕВНЫ (1856–1931). Родилась она в Санкт-Петербурге и приходилась внучкой знаменитому русскому архитектору О. Бовэ (автору московского Манежа). Генерал-лейтенант артиллерии Виктор Афанасьевич Абаза покинул наш лучший из миров и вторую свою жену Софью Сергеевну еще в конце позапрошлого века, так что Лазурному Берегу он мало известен и могилы его здесь не сыщешь. Впрочем, нелегко оказалось сыскать и могилу его вполне знаменитого сына ВИКТОРА ВИКТОРОВИЧА АБАЗА (1873–1954), прожившего последние десятилетия своей жизни на Лазурном Берегу и похороненного в Ницце. Виктор Викторович был довольно известный музыкант-балалаечник. Он окончил Императорское училище правоведения, с которым никогда не терял связи (уже и в эмиграции был членом Кассы правоведов), успел дослужиться до коллежского асессора, но главным увлечением его жизни была игра на балалайке. Еще в Петербурге он создал музыкальный кружок балалаечников-лицеистов, как утверждают, первый в своем роде, а, уехав в эмиграцию, уже в 1920 году давал концерты в Париже и Ницце. А в 1949 году в Париже состоялся концерт, посвященный пятидесятилетию его творчества.
Похоронены на Кокаде и целые семьи военных, например Апрелевы. Старший из них, ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ АПРЕЛЕВ (1865–1934) был генерал-майором, а в Ницце возглавлял отделение Союза русских офицеров – участников войны. Конечно, всем бывшим офицерам Апрелевым приходилось осваивать и мирные профессии (мужчинам водить и чинить машины, женщинам вышивать). Про апрелевский гараж на некогда «русском бульваре» Гамбетта в Ницце мне рассказывали когда-то братья Ласкины, а нынче уж никто не расскажет.
Упокоились здесь и многие из тех семи сотен генералов и офицеров Генерального штаба, что выжили и оказались в изгнании. Как правило, бедствовали, доживали век на чужбине и писали воспоминания, вполне между собой сходные. Особо скажем о генерал-лейтенанте Генерального штаба МИХАИЛЕ ВЛАДИМИРОВИЧЕ ГРУЛЕВЕ (1857–1943), вышедшем из витебских мещан-евреев. Конечно, ни для кого не секрет, что были из числа крещеных евреев и в высоких чинах, и во дворе ласкаемые лица, вроде московского генерал-губернатора Гершельмана или петербургского коменданта Адельсона, «покорителя Кавказа» генерала Геймана или командующего одним из фронтов Первой мировой с малоеврейской фамилией Иванов. Но чтоб без предварительного крещения – редкий случай… Такие люди могли стать кавалерами Святого Георгия, героями России, но чтоб в офицеры или уж вовсе в генералы – мифическая история. Известно, что даже простой рекрут из евреев не мог поступить во флот, в гвардию, в юнкерское училище, стать писарем, интендантом, конвоиром, пограничником, попасть в крепостную артиллерию или в минную роту, а уж в офицеры ни-ни, только в унтер-офицеры «за храбрость». А названный нами выше Михаил Грулев дошел до генеральского чина еще и до Первой мировой войны. Конечно, попросили его в отставку под предлогом излишней его, типично генеральской, писучести (печатался он и в «Речи», и в «Утре России» и вообще имел «литературное направление» мысли). Предложили уйти в отставку «по болезни». В 1930 году в Париже Грулев издал «Записки генерала-еврея», где намекает, что все же ему припомнили невольный его изъян:
Всем известно было, какая это болезнь, хотя я ни с кем не делился своими переживаниями… Признаюсь, и самому мне больно было расстаться с Армией в такое время, когда умудренный боевым опытом я мог быть полезным своей Родине. Говорю это без лицемерной скромности, – по собственному сознанию и по отзывам других, в том числе и ближайших начальников. Но что делать! Под игом свирепствовавшего, рокового для России режима родина наша лишалась слуг поважнее и значительнее меня. <…> я выехал на постоянное жительство в Ниццу».
Вот такие генеральские мемуары. При всем нашем сочувствии к невзгодам патриота-генерала, не можем удержаться от мысли, что несказанно ему повезло: уехал в 1912 году, не был он разбит в последовавших двух войнах, не бежал с нищенским чемоданом, не был расстрелян в чекистском подвале, как многие из тех высших военачальников (а набралось таких не меньше двадцати процентов былого комсостава), что пошли служить в Красную армию и честно служили… Ну а генерал Грулев успешно издал свои «Записки генерала-еврея» на нескольких языках, получил гонорар и поскольку не сильно нуждался, то пожертвовал свои деньги на покупку земли в Палестине для тех еврейских беженцев, что мечтали разводить сады-огороды и сеять хлеб (в странах рассеяния им это было запрещено законом). Генерал дожил до восьмидесятивосьмилетнего возраста и присоединился на Кокаде к другим не менее знаменитым, но менее удачливым сослуживцам.
Из военно-морского начальства следует непременно назвать адмирала СТЕПАНА АРКАДЬЕВИЧА ВОЕВОДСКОГО (1859–1937). Возглавлял он Николаевскую морскую академию, был директором Морского корпуса, членом Государственного совета, морским министром. В эмиграции он писал кое-что в пражский «Морской журнал», а в Ницце возглавлял Кают-компанию. В конце концов угас на курорте Виши и почиет теперь рядом с женой Анной Михайловной Араповой (дочерью генерал-майора М. Арапова). А в одной из соседних могил перезахоронена умершая по дороге во Францию (в Константинополе) совсем молодая невестка адмирала, жена его сына Георгия Софья Кочубей (урожденная княжна Кочубей). Сам сын Георгий, выпускник Пажеского корпуса, еще до войны дослужился до звания полковника, стал георгиевским кавалером, добрался через Константинополь (где и овдовел) во Францию, поработал в банке, а потом махнул за океан, в штат Иллинойс, где стал землевладельцем. Но к земле так и не прирос отставной полковник, завещал после смерти развеять свой прах с самолета…
Не надо думать, что все генеральские дети вышли в полковники и капитаны. Визит на православный Кокад не дает оснований для таких умозаключений. Вот, скажем, почиет былой петербуржец КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ ВОГАК (1887–1938), сын генерал-лейтенанта А.И. Вогака. К военной карьере генеральского сына не тянуло, а, напротив, тянуло его к математике, литературе, к театру. Закончив с золотой медалью Восьмую петербургскую гимназию, поступил он на физико-математический факультет университета, а года три спустя попросил перевести его на словесное отделение историко-философского факультета, курс которого он и прослушал к началу мировой войны. Увлекшись новыми течениями в театре, стал преподавать в студии Мейерхольда, так что и позднее, уже в лицее Александрино, прелестные русские лицеистки из Ниццы немало наслушались на его уроках об открытиях великого театрального чудотворца Всеволода Эмильевича. В той же Ницце Константин Вогак участвовал в заседаниях литературного кружка «Четверг», выступал с докладами о русской поэзии, с воспоминаниями о Гумилеве и Блоке, читал лекции о древнерусской литературе. Напомню, что русские искусствоведы и художники в эмиграции не давали угаснуть русской традиции иконописи, и даже в сонной Ницце существовало отделение общества «Икона» (созданного в 1927 году в Париже по инициативе В.П. Рябушинского). Просвещенный Константин Андреевич Вогак был в этом местном отделении товарищем председателя. Сотрудничал он и в Русской академической группе, успел написать два тома «Истории русской литературы». Писал он и стихи, вполне жалобные эмигрантские стихи об ушедшей молодости и былом питерском благополучии («ушли навсегда золотые года»), о перевернувшей всю жизнь русской катастрофе, о здешней скудной жизни и непрестанных трудах, даже о некой «несвободе» в свободной и солнечной Ницце.
Эти настроения были, увы, естественными, весьма типичными для эмигрантов и нередко приводили к печальным последствиям, подрывая силы физические и моральные, толкая на сомнительный путь. Тем более что русская жизнь там, за «железным занавесом», виделась смутно да вдобавок успешно (до неузнаваемости) приукрашивалась в среде эмиграции профессионалами Коминтерна. Противиться неведенью и полузнанию могли только такие талантливые упрямцы, как В.В. Набоков, Георгий Иванов, Борис Зайцев… Стихам Константина Вогака эти уныние и «мутный туман неведения» присущи в удручающей степени:
- Не спится мне, опять не спится.
- Удушье, думы и тоска.
- Опять Отчизна мутно снится,
- И слышен зов издалека.
- Но зов далек и так бесплоден,
- Звучит упреком он во мне.
- Я так устал и несвободен.
- Я здесь в неволе. Я в тюрьме.
- И не изгнанники помогут
- Тебе, Отчизна, в горький час.
- У нас и души изнемогут,
- Как плоть изнемогла у нас.
Чтение этих ностальгических строк может объяснить, каким образом самые чувствительные из эмигрантов вдруг принимали решение вернуться с Лазурного Берега на встречу с самой реальной тюрьмой и колымским лагерем (как, скажем, было у художника Василия Шухаева и его супруги), а то и с подвальной чекистской пулей в затылок (как случилось с мужем Цветаевой Сергеем Эфроном или супругами Клепиниными). Ностальгия и мутные сны, как верно отмечает сам поэт К. Вогак, бывают бесплодны…
Впрочем, среди русских эмигрантов (в том числе и нынешних соседей Константина Вогака по приморскому Кокаду) нашлись стойкие люди, которые сумели успешно продолжить свои научные труды и общественную деятельность, реализовать свои способности, сохранить былой общественный темперамент. Таким был, например, этнограф НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ВОРОБЬЕВ (1861–1950). Он окончил Московский университет и некоторое время трудился в Дальневосточном отделе Академии наук в Петербурге хранителем музея. Работа была престижная, интересная. Воробьев совершал экспедиции на Дальний Восток, собирал музыкальные инструменты и способствовал пополнению коллекций этнографического музея. Кроме того, он считался большим знатоком черноморского побережья и был в 1913 году одним из устроителей петербургской выставки «Русская Ривьера». В списке комитета выставки он представлен как член Императорского археологического общества. Николай Иванович успел издать каталог печатных работ о нашем Черноморье, но вскоре после знаменитой выставки (воистину золотые предвоенные годы России) грянула война, ученый служил военным санитаром, а потом разразилась революция. Воробьев понял, что ждет Россию. Он добрался до Ниццы, где, чтобы прокормиться, ему пришлось наняться сторожем (кстати, это и в нынешней эмиграции вполне традиционная мужская профессия). Работал Воробьев также в Управлении по делам русских беженцев в Ницце, но нашел время и для создания архива при русской церкви, а также для устройства ботанического сада субтропической флоры. К концу Второй мировой войны он заведовал архивом Общества сохранения русских культурных ценностей, а уж самые последние годы жизни провел в Русском доме в Ментоне.
На Кокаде был перезахоронен и русский ученый-географ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ВЕНЮКОВ (1832–1901). Этот уроженец Рязани был великий путешественник и труды свои начал рано. Окончив совсем молодым Кадетский корпус в чине прапорщика, он поступил в Академию Генерального штаба, потом слушал курс в Петербургском университете и, наконец, прибыл в качестве адъютанта на Дальний Восток. Генерал-губернатор Амурского края В. Муравьев, приметив и пыл, и знания юноши, взял его с собой на Амур, а потом поручил ему составление дальневосточных карт и анализ всей «военной статистики». В двадцать шесть лет Венюков отправился в первую свою экспедицию по реке Уссури. Прошел пешком 700 километров, составил карты и доложил генерал-губернатору собранные сведения об этом малоизведанном крае. Потом были у Венюкова путешествия на Кавказ, к Сихоте-Алиню, на берега Иссык-Куля, на Алтай, в Среднюю Азию, а позже – в Японию, Китай, Турцию, Северную Африку и, наконец, в Центральную Америку. Ученого путешественника неплохо знали и Невельской, и Семенов-Тяньшанский, и все Географическое общество. Написал он множество научных трудов, его именем названы селения и горные перевалы.
Правда, семьей обзавестись в дальних странствиях Венюков не успел и наследников не имел. В 1877 году уехал он в Париж, ушел в отставку в чине генерал-майора и даже отказался от высокой российской пенсии: «От пенсии я отказался, объяснив начальству, что считаю ее обременением казны, когда пенсия дается человеку, не искалеченному на службе и способному трудиться, что справедливо было бы уничтожить пенсии, увеличить оклады служащим». Редкий порыв!
Сотни сочинений, в том числе газетных и журнальных статей, написаны были великим путешественником Венюковым. Умирая, всю собранную им богатую библиотеку он завещал селу, где родился (в Рязанской губернии), а также уссурийскому селу Венюково, а отложенные на старость деньги – на нужды народного образования. Мне довелось читать, что книги из его библиотеки до сих пор выдают читателям во Владивостоке. Прах его покоится на православном Кокаде.
Как заметил однажды Омар Хайам, «век просидел ты дома иль век провел в пути, конец один». Свиты Его Величества генерал-майор ВОЛКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1864–1934) странствовал все же меньше, чем генерал-майор М.И. Венюков, но конец настиг его в те же 69 лет. Впрочем, и на его долю выпали кое-какие путешествия. В 1890–1891 годах он совершил кругосветное путешествие, сопровождая Его Высочество великого князя Николая Александровича. Во время этой поездки он посетил среди прочих стран Грецию, Японию, Австрию и был по этому случаю награжден греческим, японским и австрийским орденами. Во время Гражданской войны генерал А.И. Деникин пригласил Волкова возглавить в Новороссийске гражданскую власть, и приглашение было принято. Но, как известно, власть Деникина продержалась недолго.
Видное место занимала в командовании русским флотом семья Пилкиных. ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ ПИЛКИН (1869–1950) был контр-адмиралом, сыном вице-адмирала. Его называли Пилкин Первый. Брат его АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ПИЛКИН (1881–1960), которого звали Пилкин Второй, отличился храбростью во время Русско-японской войны, командовал эсминцем «Новик» во время Первой мировой войны, а с 1956 года был председателем Кают-компании русских морских офицеров в Ницце. Пилкин Первый накануне Февральской революции командовал бригадой крейсеров Балтийского флота, а потом возглавлял морские силы Северо-Западной армии генерала Н.Н. Юденича. Всех Пилкиных с дочерьми и женами принял Кокад.
Иные из здешних морских офицеров были не только практики, но и теоретики мореплавания. Так, капитан 1-го ранга ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ СИВЕРС (1855–1931) напечатал в 1902 году работу «Главнейшие сведения по морскому международному праву, составленные для офицеров флота». Позднее он исполнял обязанности российского консула в Иокогаме и если что и писал о состоянии японского флота и армии, то сугубо секретно. Особенно ценными были его телеграммы, переданные через австрийского консула в Шанхае. Увы, вся эта переписка не помешала России позорно проиграть войну.
Напомню, что многие насельники живописного русского Кокада занимали высокое положение при дворе. Скажем, АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ВОЛЖИН (1860–1933), член Государственного совета, гофмейстер двора Его Императорского Величества. Или князь ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ВОЛКОНСКИЙ (1868–1953), товарищ министра внутренних дел, товарищ председателя Третьей и Четвертой Государственной думы, егермейстер двора. Он, кстати, и в эмиграции был в правлении Общества монархистов-легитимистов, возглавлял комитет Российского общества Красного Креста, был директором Русского дома. Князь ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ДОЛГОРУКОВ (1840–1910) был тайным советником, камергером, Радомским, а потом и Витебским губернатором. Таких имен во время паломничества на Кокад мы насчитаем еще немало. Скажем, свиты Его Императорского Величества генерал-майор князь АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ГАГАРИН (1857–1903) и еще множество князей, княгинь и княжон Гагариных. Например, АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ГАГАРИН (1879–1966) родился в Петербурге, окончил Николаевское инженерное училище и Николаевское кавалерийское училище, был поручиком Кавалергардского полка, адъютантом военного министра. Через Константинополь добрался до Канн, где возглавил русскую эмигрантскую колонию, активно участвовал в деятельности общественных организаций на Лазурном Берегу, был церковным старостой.
Потомки Гагариных стали склоняться в эмигрантские годы в сторону искусства, выступали на сцене, пели, сочиняли. Во французском кинематографе прославились актриса Маша Мерил (Гагарина) и ее сестра, замечательный мастер монтажа княжна Елена Владимировна Гагарина.
На Кокаде широко представлены князья Голицыны, вообще едва ли не самое разветвленное аристократическое генеалогическое древо, чьи корни можно проследить до блиставшего в XIV веке великого литовского князя Гедимина, внук которого Патрикей, удельный князь Звенигородский, еще в самом начале XV века прибыл на службу к московскому правителю. Именем этого первого московского Голицына, кстати, назван был при рождении мой сверстник-парижанин (писатель, филолог, фанатик гольфа) Патрикей Голицын, который вместе с Жаком Ферраном подготовил «Генеалогию Голицыных».
Среди прочих Голицыных здесь лежит АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ГОЛИЦЫН (1885–1974), сын председателя Совета министров в 1916–1917 годах, сенатора и действительного тайного советника Николая Дмитриевича Голицына. Александр Николаевич был выпускником Александровского лицея, камер-юнкером, служил в Министерстве внутренних дел, а также в лейб-гвардии Стрелковом полку, участвовал в Гражданской войне, в Бредовском походе. А в эмиграции, поселившись под Тулоном, занимался благотворительностью. Прожил он полных девяносто лет.
Александр Николаевич был женат на княжне царской крови Марине Петровне Романовой, дочери великого князя Петра Николаевича Романова (того самого, что жил на бульваре Антибского мыса и погребен в крипте церкви Михаила Архангела в Каннах). В юности великая княжна брала уроки рисования у Д.Н. Кардовского, во время Первой мировой служила в военном госпитале, а эмигрировав, поселилась на Лазурном Берегу Франции (жила под Тулоном и у отца на бульваре Антибского мыса). Она содействовала постройке православной часовни близ ее дома и, как положено русской аристократке, занималась благотворительностью. Подобно отцу, она увлекалась историей архитектуры, а вдобавок собирала старинные провансальские баллады и рождественские песнопения, иллюстрировала их своими рисунками и готовила к изданию. Ей удалось выпустить в Париже книгу «Легенды крымских татар» с собственными цветными эстампами. В 50-е годы она была членом Дамского комитета при Кубанском объединении и пережила своего мужа на семь лет.
Многочисленные Голицыны, рассеявшись по белу свету, честно зарабатывали свой хлеб самыми разнообразными трудами – кто шофером, кто слесарем, кто чтением лекций по астрологии, кто пением в хоре, кто преподаванием филологии, кто руководством гольф-клубом…
Среди представителей видных аристократических семей, похороненных на Кокаде, нельзя не упомянуть графов Бобринских, ведущих свой род от императрицы Екатерины II и ее возлюбленного, графа Григория Орлова. Потомки императрицы и графа, по некоторым наблюдениям, выделялись своими языковыми способностями, склонностью к научным занятиям, литературным даром и многими другими завидными достоинствами. Скажем, граф АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БОБРИНСКИЙ (1852–1927) возглавлял дворянство Санкт-Петербургской губернии, во время Русско-турецкой войны руководил санитарной службой армии, позднее был активным политическим деятелем, членом Третьей Государственной думы, председателем совета объединенного дворянства, членом Государственного совета, был также крупным предпринимателем, а в 1916 году министром земледелия. Вдобавок он был профессиональным археологом, возглавлял Императорскую археологическую комиссию, руководил раскопками возле Керчи и Киева (это он нашел золотой скифский гребень, который хранится в Эрмитаже) и написал много трудов по археологии, в частности выпустил трехтомный труд «Смела и ее курганы». Как многие Бобринские (как и его прапрабабушка императрица Екатерина Великая), он любил сочинительство, писал стихи и прозу. В эмиграции стал одним из учредителей Кружка ревнителей русского прошлого.
Впервые приехав на этот берег в последней четверти минувшего века, я еще встречался с потомками того поколения изгнанников, обездоленного, израненного мировой войной и русской катастрофой. Помню, как в Ницце я разговорился (а потом и подружился) с библиотекарем в приходской русской библиотеке на улице Лоншан Ниной Владимировной Гейт. Она сказала, что девичья ее фамилия была Булгакова, и я пожаловался, что я много уже встречал Булгаковых во Франции, но не встречал таких, чтоб были в родстве с нашим прославленным писателем и его братом Николкой из «Дней Турбиных». Нина Владимировна сказала, что на этот раз мне повезло. Ее отец, Генерального штаба полковник ВЛАДИМИР ИВАНОВЧ БУЛГАКОВ (1885–1962) был троюродным братом писателя. И как она сама теперь, отец в поздние годы жизни много времени отдавал библиотеке Русского инвалидного дома. А до Ниццы куда только не бросала его судьба. Окончил он Тифлисский кадетский корпус, потом артиллерийское училище, и молоденьким подпоручиком попал на Русско-японскую войну. Воевал, был ранен, награжден орденами Святого Станислава и Святой Анны. Потом – снова война, Первая мировая, он служил в артиллерии, уже полковником, вступил в Добровольческую армию, послан был с дипломатической миссией от Деникина в Париж, потом уж была эмиграция. Сперва семья жила в Константинополе, затем в Болгарии, позже в Югославии, в Сомборе, отец служил там в городском правлении, а потом уж Ницца…
Нине Владимировне было десять лет, когда они переехали во Францию. Одно из самых ярких ее воспоминаний относится к годам учебы в лицее Александрино в Ницце. Потом она училась в университете, сперва на факультете права, потом на русском факультете в университете Экс-aн-Прованса, работала в Ницце в суде, преподавала в лицеях, устраивала детские праздники, и вот – библиотека. Но самым памятным оставался лицей Александрино, где Нина и ее подружки цвели под августейшим покровительством великого князя Андрея Владимировича, шведского короля и принца Монако, в кругу благородных педагогов и рачительного Аркадия Николаевича Яхонтова и супруги его Аделаиды Яковлевны, получая истинно русское образование, тоскуя по незнакомой родине. Таки пели они в собственном «Гимне Александрины»:
- Судьбы решеньем на чужбине
- Пока расти нам суждено.
- Родных полей, родной святыни
- Нам и увидеть не дано.
Уже на рубеже нового века приезжала в Ниццу из Америки подружка Нины Владимировны по Александрино баронесса Укскуль, вот уж с кем повспоминали былую альма-матер, былых подружек. Кроме Нины Владимировны (которая прямо тут, на месте, вышла за англичанина и родила замечательных детей, среди которых о. Иоанн Гейт), все разлетелись пташки, все вышли в люди, далеко пошли. Дальше всех, конечно, сестрички Бетулинские, а из них – Анечка (по первому мужу Марли, по второму Смирнова), она и похоронена аж на Аляске, кто ж ее там помянет, если она только года не дожила до девяностолетия. А какую бурную жизнь прожила! Стала кавалером ордена Почетного легиона и других орденов. По приглашению президента Жака Ширака прилетала незадолго до смерти во Францию и была удостоена чести зажечь Вечный огонь под Триумфальной аркой, на Могиле неизвестного солдата. Во время Второй мировой она была в Англии, где работала в центре генерала де Голля «Свободная Франция». А в 1944 году, когда сам де Голль прибыл во Францию, Анна Марли уже разъезжала по всему миру с концертами и была известна как композитор всего французского Сопротивления. Чтобы это лучше понять, надо проследить ее судьбу от самого порога лицея Александрино, что на вилле «Сен-Сир» в Ницце.
Семья Бетулинских добралась из России через Финляндию до Ментоны на Лазурном Берегу в 1922 году. Маленькая Анна занималась в лицее, в балетной школе, училась пению, а потом снова занялась балетом у Кшесинской и даже была солисткой балета в Монте-Карло, а в 1937 году на конкурсе красоты в Париже получила звание «вице-мисс Россия». В 1941 году она работала в центре де Голля в Лондоне и сочиняла песни, а в 1942 году она написала очень красивую и боевую музыку, для которой французский текст написали дядя с племянником, оба знаменитые писатели (Дрюон и Кессель). Это и была знаменитая песня, известная как «Песня партизан». «Свой талант вы превратили в оружие для Франции», – сказал ей генерал де Голль. Позже, выступая в Южной Америке, Анна познакомилась со своим вторым мужем Юрием Смирновым, они перебрались в США и получили американское гражданство.
Ну а мы с вами все время здесь, на Лазурном Берегу. Проходя по тропинкам кладбища Кокад, читаем на надгробьях смутно знакомые имена. Похоже, тут представлен весь царский двор, на живописном, мирном Кокаде.
Вот КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ ГИРС (1864–1940). Родился он в Тегеране, был церемониймейстером Высочайшего Двора. И неудивительно. Гирсы знали все ритуалы, бывали послами в разных странах, а батюшка Константина Николаевича Николай Карлович Гирс был российским министром иностранных дел и женился на княжне Кантакузен (или Кантакузиной). Сын его Константин Николаевич остался холост, но сам министр вел жизнь бурную. После Кантакузен он женился на княжне УРУСОВОЙ АНАСТАСИИ ЛЕОНИДОВНЕ (1872–1924), которая тоже упокоилась на Кокаде.
Заговорив о князьях Урусовых, можно упомянуть, что они, подобно князьям Юсуповым, ведут свой род от участвовавших в каких-то военных затеях Руси ногайских властителей, а копая еще глубже – от любимца Тамерлана Едигея… Впрочем, еще глубже мы копать не станем. Напомним только, что здесь же на Кокаде похоронен УРУСОВ ЛЕВ ПАВЛОВИЧ (1839–1923), обер-церемониймейстер Высочайшего Двора, действительный статский советник и прочая, прочая. Что же касается княжон Урусовых, то они в девушках не засиделись и в законном браке успешно меняли фамилию Урусовых на ЕЛАГИНЫХ, ШЕИНЫХ, ГРАБОВСКИХ, ШКОТ, ЛАЗАРЕВЫХ, ВОГАК, ТУМАНОВЫХ и прожили свою жизнь с достоинством. Взять, к примеру, камергерскую дочь ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ ШКОТ, урожденную княжну УРУСОВУ (1885–1961). С началом войны она окончила курсы сестер милосердия, была медсестрой и на Первой мировой, и на Гражданской. Была награждена Георгиевским крестом и тремя Георгиевскими медалями, а дни свои кончила в Доме военных инвалидов и похоронена была рядом со своим вторым мужем ДАНИЛОЙ ПЕТРОВИЧЕМ ШКОТОМ.
Впрочем, не для всякой беженской невесты нашелся суженый. Скажем, княжна НИНА АЛЕКСАНДРОВНА БАГРАТИОН-МУХРАНСКАЯ (1882–1972), дочь командира лейб-гвардии Конного полка генерал-майора князя АЛЕКСАНДРА ИРАКЛИЕВИЧА и его жены МАРИИ ДМИТРИЕВНЫ БАГРАТИОН-МУХРАНСКИХ (здесь же похороненной), так и осталась незамужней. Родилась она в Тифлисе, окончила в Петербурге Институт благородных девиц, состояла фрейлиной при императрице Марии Федоровне. Ее отец-генерал был зверски убит большевиками в Кисловодске, а вдове и дочери удалось бежать из Грузии в Ниццу, где княжна многие годы была председательницей благотворительного общества, помогавшего русским и грузинским беженцам.
Как уже было сказано, на русском Кокаде почиет большое число придворных. Князь НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ (1823–1897) был действительным статским советником и занимал должность егермейстера двора (придворный чин, который изначально был связан с устройством царской охоты). Князь Николай Алексеевич родился в Петербурге в семье генерал-адъютанта, окончил Пажеский корпус с чином подпоручика, служил в лейб-гвардии Гусарском полку, а позже во флоте в чине капитан-лейтенанта.
Похоронен здесь и патриарх видной эмигрантской семьи Вуич, сенатор ЭММАНУИЛ ИВАНОВИЧ ВУИЧ (1849–1930). Он служил прокурором в Москве, а в смутном 1905 году был директором Департамента полиции.
Кроме Голицыных, Гагариных или Лобановых-Ростовских, на Кокаде захоронено немалое число аристократов, стоявших на самых высоких ступенях лестницы тщеславия и гордившихся древностью своего рода или близостью к престолу. К примеру, граф ДМИТРИЙ КАРЛОВИЧ НЕССЕЛЬРОДЕ (1806–1891) был младшим советником российского Министерства иностранных дел и гофмейстером двора, но более памятен всем бывшим русским школьникам отец Дмитрия Карловича граф Карл Роберт Нессельроде (Карл Васильевич Нессельроде), действительный тайный советник, вице-канцлер, министр иностранных дел, член Государственного совета и кавалер множества российских, прусских и прочих орденов. Запомнился он нам со школы лишь тем, что ему была доверена цензура произведений Пушкина. Сын его печатал воспоминания об отце и прежних временах в еженедельнике «Еврейская трибуна», где служил секретарем редакции.
Граф ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ РАЕВСКИЙ (1883–1970) был церемониймейстером двора, а в эмиграции, в конце 50-х годов был избран в состав Родословной комиссии.
Герцогиня ЛЕЙХТЕНБЕРГСКАЯ, она же графиня БОГАРНЕ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА (1895–1969), была фрейлиной императрицы, век свой доживала в прелестном Болье-сюр-Мер близ Ниццы и упокоилась на Кокаде.
Последней же фрейлиной императрицы была ИВАНОВА-ЛУЦЕВИНА НИНА ИВАНОВНА, урожденная княжна Абамелек (1888–1986).
Впрочем, на дорожках приморского беломраморного Кокада встречаешь порой имена, которые никогда не попадали ни в дворцовые летописи, ни в судебные хроники, ни в спасительные анекдоты, а все же засели в русской памяти. Иногда даже не сразу вспомнишь, где встречал это имя. Что-то такое читал, что-то слышал. И вот остановишься у намогильной надписи под беззаботный птичий щебет и мало-помалу вспомнишь…
Гиршман. ГЕНРИЕТТА (ЕВГЕНИЯ) ЛЕОПОЛЬДОВНА ГИРШМАН (1885–1970). Конечно. Должен вспомнить. Многие вспомнят. Даже композитор Хренников и тот вспомнил, причем в самом неожиданном месте и не в самое подходящее, казалось бы, для воспоминаний время: в Америке в 60-e годы прошлого века. Композитор попал с делегацией советских музыкальных деятелей в США, и хозяева пригласили для удобства именитых гостей русскую переводчицу.
Приятная такая старушка, простая, русскоязычная, и композитор ее спросил, из каких она русских. Она же спросила его, помнит ли он такую картину, висит в Третьяковской галерее в Москве, портрет Генриетты Гиршман, и Тихон Николаевич ответил, что помнит и, как все, любит… Так вот, это она и есть. Заморская эта весть дошла до Москвы, и некоторые там вспомнили, как я теперь вспоминаю.
Генриетта родилась в Петербурге, в семье торговца и страстного коллекционера живописи Леопольда Леона, у которого было три дочери. Генриетта была самая красивая, умненькая и способная. Кончила гимназию, брала уроки живописи у Осипа Браза, уезжала на два года в Германию, училась иностранным языкам и музыке. Мать у нее была хорошая пианистка, в доме часто устраивали музыкальные вечера, гости и сама хозяйка музицировали, вообще царил в семье культ искусства. Захаживали к ним знаменитости, например Сергей Дягилев. А когда исполнилось красавице Генриетте восемнадцать, посватался к ней московский предприниматель и тоже коллекционер Владимир Гиршман, и она вышла за него замуж и уехала в Москву. В одном доме с Леонами жил архитектор Бенуа, и со всеми Бенуа Леоны были в приятельских отношениях. А художник и писатель Александр Бенуа рассуждал в старости о том, как могла красавица Генриетта пойти за такого не слишком красивого мужчину, коллекционера и владельца фабрики швейных иголок, и приходил к выводу, что все же оказался этот брак счастливым. Похоже, объединяла молодоженов общая страсть к искусству, и был этот невидный, но такой увлеченный красотою, серьезный и порядочный жених петербургской красавице мил и интересен. В Москве Генриетта продолжала занятия живописью у Архипова и Юона, музыкой у А. Книппер, но больше всего помогала мужу в его делах меценатства, в помощи начинающим художникам и Художественному театру Станиславского, в создании Общества свободной эстетики. Супруги помогали и Дягилеву в устройстве парижской выставки русской живописи в Париже в 1906 году и предоставили для нее своего Врубеля. Владимир и Генриетта были избраны почетными членами парижского Осеннего салона.
Дом Гиршманов в Мясницком проезде (как раз на том месте, где построили станцию метро «Красные ворота») стал истинным маяком московского «серебряного века», приютом, где царила гостеприимная красавица Генриетта. Проходили в этом доме первые заседания Общества свободной эстетики, бывал в нем весь цвет столичного искусства – Серов, Сомов, Бенуа, Добужинский, Лансере, Кустодиев, Брюсов, Бальмонт, Станиславский, Кусевицкий, Качалов и прочие. Особенно трогало жаркое гостеприимство этого дома приезжих петербуржцев. Константин Сомов, подробно описывавший в письмах сестре Анюте все перипетии холостой жизни, так рассказывал о своем приезде в Москву к Гиршманам:
Приняли очень радушно, поместили уютно в отдельной отдаленной комнате. <…> Хозяйка сегодня весь день в очаровательном розовом платье и серой с блестками шали, костюме, в котором я ее, верно, буду писать. <…> Замечательно милая женщина Генриетта Леопольдовна: чем больше ее видишь, тем больше ее ценишь. Простая, правдивая, благожелательная, не гордая, и, что совсем странно при ее красоте, совсем не занята собой, никогда о себе не говорит.
На портрете, написанном Сомовым, Генриетта особенно красива и обольстительна. Но в прекрасных глазах ее боль, да это и неудивительно. В том 1910 году погиб ее ребенок…
Из трех знаменитых московских меценаток той поры (Евфимия Носова, Надежда Высоцкая и Генриетта Гиршман) самой образованной и красивой повсеместно признана была Генриетта. Нетрудно догадаться, что чуть не все гости этого дома в Мясницком (даже кавалеры несомненно «голубой» ориентации) влюблены были в прекрасную и щедрую хозяйку дома. А она с жаром отдавалась собиранию небольшой, но изысканной гиршмановской коллекции живописи и меценатской помощи самым привечаемым в ее доме людям – в первую очередь художникам. Понятно и то, что художники боролись за честь писать портреты хозяйки дома. Честь эта выпадала (притом неоднократно) Валентину Серову. А среди других – Константину Сомову, Филиппу Малявину, Зинаиде Серебряковой.
Немало времени отдали супруги Гиршман созданию Общества свободной эстетики, объединявшего на протяжении десятилетия художников, писателей, музыкантов, знатоков искусства и видных коллекционеров (Остроухова, Трояновского, Полякова, С. Морозова, Щербатова). В обществе читали лекции, устраивали вечера Блока, Брюсова, Белого, Кузмина, Вячеслава Иванова, Бальмонта, Сологуба, сюда приходили самые разнообразные представители русского художественного авангарда, вплоть до футуристов или лучистов.
За немалыми своими хлопотами хозяйки дома, жены и матери, меценатки и театралки Генриетта мало-помалу собственную живопись забросила, но зато вошла в историю русской живописи той фантастической эпохи как прославленная красавица модель, тонкая ценительница и меценатка. То были самые яркие годы ее жизни, да и не только ее. В начале 20-x годов всем «эстетическим свободам» подошел конец. В.О. Гиршман еще заседал в какой-то комиссии, хлопотал о передаче своего дома, а также о размещении коллекции своих национализированных картин и редкой мебели (уже разбредавшейся по кабинетам «более равных»), но уже было ясно, что надо бежать, спасая жизнь, и свою и семьи…
В парижском изгнании В.О. Гиршману еще удалось открыть антикварный магазин, а потом даже устраивать при нем скромные выставки для друзей-художников. Его магазин и галерея были парижским уголком прежней России, куда заходили побеседовать, побыть среди своих. В 1928 году Гиршманы отпраздновали в Париже свою серебряную свадьбу, и один из гостей (К. Сомов) писал, что никогда в жизни не видел столько цветов в одной квартире…
Мировой кризис 30-x годов окончательно разорил Гиршмана. В его магазинах еще появлялись друзья. Иногда, несмотря на все более строгие запреты Лубянки, заходили повидаться приезжавшие на гастроли мхатовцы, Генриетта еще вела свой «дамский альбом» стихов, рисунков, признаний в любви, подписанных всеми звездными именами русского и мирового искусства – Рахманинова, Шаляпина, Стравинского, Джойса, Горького, Дебюсси, Бальмонта (недавно этот альбом продан был на аукционе в США за 230 000 долларов). Кстати, самую серьезную запись сделал в этом альбоме приезжавший в Париж с театром (и первым нарушивший запреты Москвы) Константин Сергеевич Станиславский (по-семейному КАЭС). Слова эти были обращены не только к попавшим в нелегкое положение Гиршманам, но и к забывчивым потомкам:
Ваша роль в искусстве значительна. Для того, чтобы процветало искусство, нужны не только художники, но и меценаты. Вы <…> взяли на себя эту трудную роль и несли ее много лет, талантливо и умело. <…> История скажет о вас то, что не смогли сказать современники.
Сам современник Гиршманов К.С. Станиславский еще смог такое сказать, находясь за границей (он говорил также о «красивом деле меценатства»), но в пределах Советской России за такие словесные вольности и такие записи уже могли дать срок.
А старый друг, веселый Василий Качалов, вслед за своим режиссером сделал в альбоме Генриетты менее торжественную запись:
- О меценатской Вашей пишет роли…
- А я, давно влюбленный в Вас балбес,
- Прошу любить меня легко, без боли,
- Как буду радостно любитъ я Вас,
- Пока не стукнет мой последний час.
Владимир Осипович Гиршман умер в 1936 году. Красавица Генриетта перебивалась как умела. Умела она и знала многое. Работала экономкой (то ли сестрой-хозяйкой) в детской колонии, открытой княгиней Палей… А в 1939 году она благоразумно уплыла из Европы за океан. Ее высокообразованный брат Павел (Поль) Леон, знавший множество языков и культуру Средневековья, поддерживавший ирландское самоопределение, друживший с великим Джойсом и работавший вместе с ним над корректурой «Поминок по Финнегану», остался в Париже, хлопотал о бумагах Джойса и был сожжен в печи нацистского крематория.
Генриетту пригрели в США друзья Кусевицкие. Она стала личным секретарем С. Кусевицкого, возглавлявшего Бостонский филармонический оркестр, занималась музыкальным издательством, прессой, переводами. Вот тогда ее и повстречал московский композитор, не сразу узнавший в ней блистательную Генриетту со знаменитейшего портрета Серова…
Стоя среди птичьего щебета у этой могилы над морем, и я вспомнил мало-помалу, что это была моя землячка, дама московского «серебряного века». Она представляла здесь свой прославленный век и мой прославленный город в высоком и достойном обществе, хотя не столь авангардном или богемном.
А вот могила СОФИИ АНДРЕЕВНЫ АБЕЛЬ, урожденной графини ГОЛЕНИЩЕВОЙ-КУТУЗОВОЙ (1893–1973). Неподалеку – просто Голенищев, без титула, сын царскосельского купца первой гильдии Симеона Голенищева; это замечательный коллекционер и ученый-египтолог ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ ГОЛЕНИЩЕВ (1856–1947). Закончил факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета, был хранителем египетских древностей в «Эрмитаже», а потом профессором Каирского университета, писал научные труды, живал в Каире, но ежегодно приезжал в Ниццу, где окончательно поселился уже в годы Второй мировой войны.
Из знакомых (можно сказать, исторических) имен внимание нашего кладбищенского паломника может задержать фамилия Горемыкина. Покойный приходился родным сыном тому самому Ивану Логиновичу Горемыкину, который был в России министром внутренних дел в 1895–1899 годах, а потом и Председателем Совета министров. Если верить энциклопедиям, он противился реформам и был ставленником Г. Распутина. Похороненный здесь его сын МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ГОРЕМЫКИН (1879–1927) закончил Императорский лицей, был камергером и товарищем управляющего Крестьянского поземельного банка. На Кокаде похоронена и его сестра ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ГОРЕМЫКИНА, в замужестве баронесса МЕДЕМ (1872–1965). Ее матушка и сестра с мужем были убиты на даче в Сочи вскоре после большевистского переворота в России. Еще год спустя был расстрелян в Пятигорске арестованный большевиками в качестве заложника муж Татьяны Ивановны, бывший петроградский губернатор, тайный советник барон Николай Николаевич Медем. Вдова с тремя детьми уехала в эмиграцию, где и прошли последние сорок восемь лет ее жизни…
Следуя далее среди великого множества полковничьих, генеральских и адмиральских могил былого русского воинства, остановимся все же у могилы капитана второго ранга пилота СТАНИСЛАВА ФАДДЕЕВИЧА ДОРОЖИНСКОГО (1879–1960), ибо славный этот воин сумел все же дожить на блаженной Французской Ривьере до полных восьмидесяти лет, а в молодые годы был неутомимым в ратных трудах и в ученье, о чем говорят не только его ордена, но и список дипломов, перечисленных в надгробной надписи: диплом французского авиатора, диплом французского инженера и диплом французского медика. А главное, был этот бесстрашный Станислав первым авиатором русской армии и флота – первым в России морским летчиком. И Господь его хранил при неоднократных «падениях с неба», хотя и был этот русский летчик не православного, а «католического вероисповедания».
Родился Станислав Дорожинский в небольшом селе Волынской губернии, в семье потомственного дворянина Тадеуша (Фаддея) Дорожинского и Каролины Зефнер. Девятнадцати лет от роду он поступил на военную службу, в двадцать два года закончил Морской корпус и стал мичманом. Через три года окончил курс в учебном воздухоплавательном парке, да еще и прошел курс подводного плавания. В начале Первой мировой он уже был старшим офицером эскадренного миноносца «Лейтенант Шестаков», но не будем забегать вперед, ибо еще до этого случилось с молодым офицером и героем войны много всякого. Начать с того, что в 1909 году открылся в Севастополе частный аэроклуб, избрали председателя и отправили его для покупки самолета на родину воздухоплаванья, во Францию. А для выполнения важной этой задачи придали в помощь председателю лейтенанта Дорожинского, которого сделали начальником воздухоплавательной команды. Во Франции лейтенант присмотрел двухместный самолет «Антуанетт-4», за который французы просили 12 000 твердых тогдашних рублей. Дорожинский поломал дорогую машину при посадке, а все же искусство его произвело на французов такое впечатление, что они 21 июня 1910 года выдали ему удостоверение пилота (№ 125). С этим удостоверением лейтенант вернулся в Севастополь, а в сентябре того же года под Севастополем (на Куликовом поле) и состоялся первый полет нашего самолета. В самом начале 1912 года лейтенант Дорожинский отправлен был в черноморскую службу связи и при этом его командир послал начальнику этой службы сопроводительную характеристику:
Исполнительный, находчивый и трудолюбивый лейтенант Дорожинский вместе с тем крайне скромен, скажу более – застенчив и, как часто бывает в подобных случаях, весьма самолюбив. Последнее, слитое с предыдущими качествами, стимулирует воина следовать по пути выполнения долга – так это понимаю я, а потому радуюсь, что первый авиатор русской армии и флота обладает такими высокими духовными качествами, которые я постараюсь охарактеризовать при составлении его аттестации.
Последнее падение (по общему числу совершенных им со смертельной опасностью – третье) не повлияло на твердость духа, оставило некоторые следы в его теле, рука плохо повинуется, голова временами болит и бок ноет.
В годы Первой мировой войны Станислав Дорожинский командовал бригадой Балтийской воздушной дивизии, произведен в чин капитана второго ранга, награжден орденом Св. Станислава 3-й степени, Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом, а также медалями. После поражения белой армии он добрался до Франции и начал жизнь заново. Пошел снова учиться, закончил сельскохозяйственный коллеж и медицинские курсы, устроил собственную ферму. Оказалось, что прославленный, израненный в войнах летчик обладает вполне мирным и безобидным характером. Большое впечатление произвели на него идеи вегетарьянцев об аморальности поедания живых существ. Заслуженный воин стал вегетарьянцем, да и знаменитая его французская ферма «Вега», лежавшая близ испанской границы, стала истинным центром вегетарьянской пропаганды. Героический фермер и сам выступал с докладами о нравственных основах вегетарьянства. Вдобавок герой-летчик увлекся живописью и брал уроки у знаменитого Константина Коровина. В общем, пожалуй, можно сказатъ, что вполне счастливо сложилась жизнь русского офицера, который в отличие от многих не поддался на посулы большевиков и не кончил свой век в подвале чека или в бараках Колымы, а умер в своей постели на Ривьере на восемьдесят втором году жизни. Правда, первый его брак с Неониллой Ивановной Кушнаревой распался, но он женился вторично на Софье Борисовне Курилло, которая пережила своего мужа на добрых семнадцать лет и похоронена была рядом с ним. Здесь же неподалеку упокоились его первая жена и дочь от первого брака Тамара Станиславовна. Из всей семьи лишь младший брат Станислава, тоже капитан второго ранга Карл Фаддеевич, участник Гражданской войны и член Морского собрания, похоронен далеко от моря, на знаменитом православном кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.
Как всякий провинциальный курортный город, Ницца полнится новыми и старыми легендами. По традиции, главную роль в них играют не новые русские миллионеры, энергично перестраивающие тесные для них старинные виллы на мысе Кап-Ферра, а некие былые русские владения на Ривьере и все те же более или менее великие князья (или их неведомые «морганатические» потомки). Впрочем, одно из не слишком старых надгробий на Кокаде словно бы дает основание для новых интригующих легенд. На нем надпись «Е.К.Выс. кн. ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (1884–1962). Урожденная княжна Сербская. Замужем за Князем Императорской крови Иоанном Константиновичем».
Частенько проходя от дома к набережной по узкой и пестрящей вывесками недорогих отелей и харчевен с экзотической восточной пищей улице Паганини, я иногда вспоминаю сообщение старой (за 1962 год) эмигрантской газеты:
В небольшом отеле на улице Паганини несколько месяцев тому назад поселилась скромная дама – скромная по своей нетребовательности, простоте обращения с персоналом и снискавшая к себе глубочайшее уважение. <…> В ночь на 16 октября, почувствовав себя дурно, эта жилица отеля вызвала к себе ночного сторожа гостиницы и попросила его пригласить врача. Добиться ночного доктора в Ницце не так легко. Сторож вызвал карету «скорой помощи» госпиталя Святого Рока, и даму отвезли в больницу. Там, на больничной койке она скончалась. <…> Эта скромная нетребовательная дама была княгиня Елена Петровна Романова, вдова князя Иоанна Константиновича, сына великого князя Константина Константиновича и сестра сербского короля Александра. <…> Отдать последний долг умершей собралась вся свободная от работ русская колония в Ницце. На похороны прибыли сын покойной князь Всеволод Иоаннович и дочь маркиза Екатерина Ферос, а также бывший сербский король Петр Второй. <…> От имени президента республики был возложен венок.
Я углубляюсь в коридор узенькой улицы Паганини, пересекаю бульвар Гюго, выхожу к вечному морю и простору закатного неба, куда унеслась еще одна пылинка-душа… А почему он решил, этот репортер из эмигрантского листка, что достойная старая дама в дешевом отельчике, чуя надвигающийся конец этой грустной жизни, могла вести себя с гостиничной прислугой, убирающей ее комнатку, как-то по-другому, более надмненно, «по-княжески»?
О, здесь каждый дом, как и каждая пядь Кокада могут рассказать немало причудливых историй. Вот в этом уголке захоронено сразу несколько генералов от инфантерии. Наиболее известным из них был НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЕПАНЧИН (1857–1941). Родился Николай Алексеевич в семье адмирала, начальника Морского корпуса и Николаевской Морской академии. Н.А. Епанчин и сам на рубеже нового века стал директором Пажеского Его Величества корпуса и командиром лейб-гвардии Преображенского полка. Учился в знаменитой петербургской гимназии Карла Мея, потом в Павловском училище, участвовал в Русско-турецкой войне, потом окончил Николаевскую академию Генерального штаба и долго еще служил и что-то возглавлял… На фронт Первой мировой войны он выступил во главе корпуса, побил немцев под Столупененом, но потом… Ставка обвинила его в том, что он самовольно начал отход под нажимом немцев, что корпус его был окружен и разбит. Ставка искала причины неудач и нашла виновного. Генерала отрешили от командования, вывели в запас, потом он скитался по русским городам, судился с начальством, смог доказать, что непричастен к гибели своего корпуса, но солдат оживить не смог. На Гражданской повоевать он не успел. С 1923 года генерал жил в Ницце, где-то еще преподавал, участвовал в заседаниях Исторического общества, много писал, оставил обширные воспоминания «На службе трех императоров», изданные после его смерти в России.
В той же могиле почти сорок лет спустя была похоронена дочь генерала Епанчина, вдова барона Александра Эдуардовича Фальц-Фейна, умершего в Германии в 1919 году, ВЕРА НИКОЛАЕВНА ФАЛЬЦ-ФЕЙН, урожденная ЕПАНЧИНА (1886–1977). Покойный муж Веры Николаевны барон Фальц-Фейн был агроном и помогал брату в создании знаменитого природного парка Аскания-Нова в Херсонской губернии. Ныне стал широко известен в России и на Украине столетний сын Веры Николаевны Эдуард Александрович Фальц-Фейн (род. в 1912 г.), который заготовил для себя место на Кокаде близ матери. Это тот самый спутник писателя Юлиана Семенова, искавшего «янтарную комнату», о котором мы уже писали в связи с захоронением Е. Петриковского в Вансе, – бывший велосипедист и активный меценат, житель княжества Лихтенштейн, он приложил немало усилий для восстановления доброго имени Фальц-Фейнов и Епанчиных в России, а попутно способствовал также открытию музея Суворова у Чертова моста в Швейцарии и музея Екатерины II в немецком Цербсте.
А теперь обратимся к другим насельникам Кокада и другим историям. Ни один роман не может так растрогать чувствительное сердце посетителя кладбища Кокад, как неторопливое чтение собранных И.И. Грезиным документов, отражающих этапы жизненного пути здешних покойников. Вот могила вдовы контр-адмирала Георгия Авенировича Ивкова ВЕРЫ КОНСТАНТИНОВНЫ ИВКОВОЙ (урожденной БАЛАНДИНОЙ, 1884–1932). Ученый собрал документы, касающиеся не столько бедной Веры Константиновны, которой в законном браке пришлось прожить так недолго (хотя и ее жалобное прошение приложено), сколько самого бедного ее мужа, ее свекра, ужасов Русско-японской войны, да и прегрешений мирного времени…
Начать эту документальную историю можно с самого рождения ее будущего мужа контр-адмирала. Итак, 16.9.1863 года у капитана второго ранга Авенира Ивкова родился в городе Николаеве сын Георгий, крещен 29.9. Воспреемниками были отставной генерал Евграф Плетенев и дочь генерал-майора Сергея Плетенева девица Матрона. Счастливый отец, год спустя произведенный в капитаны первого ранга (а при отставке и в контр-адмиралы), был героем Крымской войны, кавалером ордена Св. Георгия 4-й степени за храбрость, серебряной медали за оборону Севастополя, служил беспорочно 20 лет. Сын Авенира Ивкова Георгий Авенирович, согласно семейной традиции, воспитывался в Морском училище, в 1884 году произведен был в мичманы, в 1891 году в лейтенанты, а в 1904 году за отличие по службе в капитаны второго ранга. Следующее повышение ждало его в 1910 году, но за прошедшее до этого события время произошло немало всякого.
Тридцатилетний флотский офицер Г.А. Ивков женился на дочери контр-адмирала Федотова Надежде Александровне Федотовой, и в 1897 году у супругов родился сын Владимир, а в 1898 году – дочь Вера. С того же года Георгий Ивков стал служить старшим артиллерийским офицером на эскадренном броненосце «Сисой Великий». А в канун злосчастной войны с Японией начались у старшего артиллерийского офицера Г. Ивкова всякого рода неприятности:
Протокольным определением Рижского епархиального начальства от 16–27.1.1904, утвержденным Святейшим Правительствующим Синодом, как видно из указа оного от 7.4.1904 за № 3309, брак капитана 2-го ранга Георгия Авенировича Ивкова с женой его Надеждой Александровной, рожд. Федотовой <…> по причине нарушения им, Г. Ивковым, святости брака прелюбодеянием, расторгнут с осуждением на всегдашнее безбрачие.
В мае 1905 года эскадра русского Тихоокеанского флота потерпела страшное поражение в Корейском проливе у острова Цусима. После гибели броненосца «Сисой Великий» капитан второго ранга Г.А. Ивков был взят японцами в плен и освобожден лишь через семь месяцев. Историю пленения и всех страданий своего покойного мужа рассказала позднее с его слов вдова контр-адмирала в письме к морскому министру России, аккуратно приложив к важному для нее жалобному письму записки покойного («О том, как я попал в плен к японцам, и что переживал ранее того» и еще «О том, как жилось мне в плену»). Поскольку у нас нет под рукой этих записок, предлагаю их пересказ из письма бедной вдовы:
…муж мой, не желая покинуть корабля, употребил все меры, чтобы помешать его сдаче, и сделал распоряжение открыть кингстоны, вследствие чего корабль затонул, а муж мой, очутившись в водовороте, получил сильный ушиб всплывшим обломком, от которого потерял сознание, и таким образом был взят в плен. Последствием этого ушиба явилась тяжелая душевная болезнь моего мужа, лишавшая его в продолжение двух лет трудоспособности…
По истечении этих двух лет Г.А. Ивков еще служил какое-то время во флоте, а в начале 1911 года даже был назначен заведовать мобилизационной частью в штабе Черноморского флота в Севастополе. В том же 1911 году ему было разрешено вступить в новый брак, о чем свидетельствуют документы, найденные в архиве И.И. Грезиным:
Согласно удостоверения Таврической духовной консистории от 6.4.1911, резолюцией епископа Феофана Таврического и Симферопольского от 3.4.1911 капитану 1-го ранга Ивкову, брак которого был расторгнут с осуждением на всегдашнее безбрачие с преданием церковной епитимии, разрешено вступить во второй законный брак с освобождением от епитимии ввиду прохождении таковой им, Ивковым, в течение пяти лет, что засвидетельствовано его духовником Священником Александром Мельниковым. 3.6.1911 вступил во второй законный брак с дочерью статского советника девицей Верой Константиновной Баландиной…
Вот тут бы и начинать новую счастливую жизнь, поторопиться до начала новых беспощадных войн – но не вышло: жизни осталось на донышке. В октябре того же 1911 года отправлен был Г.А.Ивков «на излечение в психиатрическое отделение госпиталя с резко выраженными двигательными расстройствами в физической сфере, зрительными и слуховыми галлюцинациями и бредовыми идеями величия – в психической». К концу 1912 года был Г.А.Ивков произведен в контр-адмиралы с увольнением на пенсию. Вскоре родила новому контр-адмиралу новая его супруга нового сына, но толком порадоваться этому событию он не успел. К концу лета 1913 года умер моряк Георгий Ивков. А вдове его тоже не много перепало радостей. Маленький ее сын, сообщает она в письме, «страдает явлениями общего малокровия, причинами которого были те печальные условия, при которых он родился».
Про все эти «печальные условия» вдова объясняет в письме морскому министру России, прося его увеличить пенсию на троих контр-адмиральских детей от двух браков. С той же докукой как опекунша детей своих от первого брака обращается в министерство и первая жена Г.А.Ивкова, уже счастливо сменившая фамилию на Богомолову. Морское министерство, в свою очередь, просит Комитет о раненых ответить назойливым женщинам поубедительней, и вот уже заваленные просьбами чиновники письменно упрекают чужую жену и свежую вдову в том, что не указал в своих ходатайствах психический пациент Г.А. Ивков на имевшую у него место контузию при Цусиме, потому что контузия идет по особой статье, а если нет справки о контузии, тут совсем другой разговор в переводе на деньги… А на дворе уже вот-вот новая война, и на повестке дня у министерства новый патриотический подъем, так что министерствам не до вдов с их детьми, не до сирот с их малокровием.
Этот героический момент былого патриотического подъема непременно приходит в голову русскому паломнику у самой вершины горного кладбища Кокад. Сверху хорошо видно сверкающее внизу, за сочной листвой, за белыми надгробьями Средиземное море, бескрайний синий простор, прекрасный мир Божий… Вздохнешь глубоко, облегченно опустишь взгляд и тут увидишь впервые тяжкую надгробную плиту и смутно знакомое имя – Сазонов. Ну да, это он и есть, тот самый САЗОНОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ (1860–1927), выпускник Александровского лицея, гофмейстер двора, дипломат, некогда русский посол в Ватикане, в Лондоне, в США, а с 1910 по 1916 год министр иностранных дел России. Вот тогда-то они и грянули, как он их назвал в своих популярных мемуарах, «роковые часы России». И как ни крути, был он ко всем тогдашним безумным решениям ценою в миллионы украденных молодых жизней причастен.
Сообщаю о наличии на Кокаде этой могилы своим русским читателям доверительно и вполголоса, потому что услышат англичане или французы и повалят сюда неуважительно и шумно с бумажными салфетками, недогрызенными яблоками, потому что не чужой для страшной европейской истории этот маленький большой человек Сергей Дмитрич Сазонов, про него и в старой советской энциклопедии сказано, без затей: «Способствовал развязыванию Первой мировой войны». А у них же здесь, в Европе, в любой уважающей себя деревне, что в Англии, что во Франции, непременно стоит на площади каменный солдат в старомодной каске, с примкнутым штыком и с надписью на пьедестале «Парням из нашей деревни». Это все про ту войну, где даже эти названные мной страны потеряли по полтора миллиона человек. Что ж тогда говорить о России или Германии… От цифр голова кружится: 38 государств мира поставили тогда под ружье 74 миллиона парней, из которых 10 миллионов было убито, а 20 искалечено, да еще десяток миллионов оказались в плену, иные так и пропали без вести. А уж что в результате этого потрясения получила моя родина, сами знаете… И что же заурядный рязанский дворянин Сергей Сазонов виноват во всем этом всемирном смертоубийстве? Отвечу по возможности сдержанно, но и дворянина Сазонова не стану отмазывать по причине патриотического сочувствия. Скажем так: был причастен, как верно отметила энциклопедия, «способствовал». Мог бы, наверно, и не способствовать. Однако напомню, кто он был такой, этот серый человечек, хотя и гофмейстер двора, Сергей Дмитриевич Сазонов.
Родился он в 1860 году в Рязанской губернии, семья была состоятельная, со связями, учиться его отдали в Императорский Александровский лицей. Лицей он одолел, так что образование среднее получил, но не более. Дальше учиться не стал, пошел служить. Служил в разных посольствах – при папском дворе в Ватикане, в Лондоне, чуть не тридцать лет ходил в секретарях, вполне серый был и незаметный, хотя исполнительный. Только под пятьдесят сделали его за океаном посланником, в США. Потом стал товарищем министра иностранных дел в Петербурге, тут уж пришлось ему докладывать государю, на которого смог произвести впечатление человека до смерти преданного. Государь его запомнил: вот такой мог бы и за блестящим министром Извольским приглядывать, за этим надо приглядывать, больно умен. А под шестьдесят выпала служаке Сазонову удача: послали Извольского послом в Париж, куда он давно хотел. Тут государь и назначил министром преданного трудягу Сазонова. Эх, кабы знать, где поскользнешься…
Так что с 1910 года министром иностранных дел великой России был Сазонов. Никаких своих идей у Сазонова не было, идеи были обычные, патриотические, и государю они были приятны: ведущая роль Российского государства в мировой политике, историческая миссия России, национальная исключительность, расширение недостаточных русских владений (с самого 1905 года не расширялись, а много чего стоило бы прибрать к рукам, взять хотя бы Галицию, Буковину, Восточную Пруссию, земли по Неману, Константинополь и проливы, ох как нужны нам проливы…). Обо всем этом следовало как бы интимно говорить в Париже и в Лондоне, укрепляя связи Сердечного Согласия… Конечно, без войны, понятное дело, не обойтись, но пока нужно время для строительства флота, турки вон строят… В общем, обычная дипломатическая возня, связи, козни, все знакомо было Сазонову до мелочи. И вот на четвертом году деятельности Сазонова где-то там, на другом краю Европы двадцатилетний сербский студент по заданию террористической группы «Молодая Босния» убил на улице Сараева австрийского престолонаследника эрц-герцога Франца Фердинанда. И жену его убил студент, как настоящий патриот. Имя свое прославил…