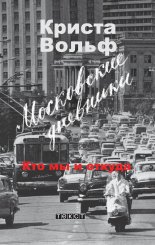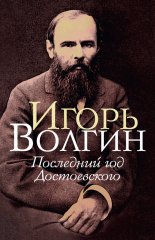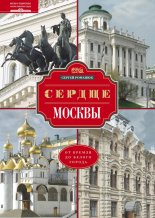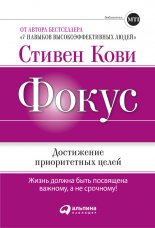Был целый мир – и нет его… Русская летопись Лазурного Берега Носик Борис
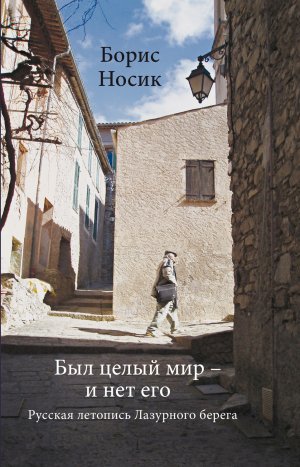
Чего больше в этой записи: униженного мужского достоинства, раздражения, стыда… А потом унылая запись в дневнике за 1943 год:
7. IX. Вторн. Нынче письмо из Ниццы. Елена Александр. Пушкина (фон Розен Майер) умерла 14 авг. После второй операции. Еще одна бедная человеч. жизнь исчезла из Ниццы – и чья же! родной внучки Александра Сергеевича! И м.б. только потому, что по нищете своей таскала тяжести, которые продавала и перепродавала ради того, чтобы не умереть с голоду!
А Ницца с ее солнцем и морем все будет жить и жить! Весь день грусть…
Назавтра, 8 сентября, и Вера Николаевна Бунина записала в своем дневнике:
Вчера получено печальное известие о смерти Лены Пушкиной. Бедная, умерла, не вынесла второй операции. Помню ее девочкой-подростком в Трубниковском переулке с гувернанткой. Распущенные волосы, голые икры… Кто мог подумать, что такая судьба ждет Лену? Нищета, одиночество, смерть в клинике. <…> Лена в ссоре с братом, не знаю, помирилась ли с дочерью?
Она была умна, но, вероятно, с трудным характером. Убеждения – ниццские: вера в немцев, ненависть к евреям и большевикам. Гордилась своим родом. Была фрейлиной. Рассказывала об обедах в московском дворце, когда приезжала царская семья. К Яну (Бунину. – Б.Н.) чувствовала большую благодарность, как пишет ее друг француженка.
Похоронили Елену фон Розен-Майер на коммунальном (французском) кладбище Кокад, по самой недорогой цене, так что искать ее можно в общем рву (fosse commune), в братской могиле. Через семь десятилетий после ее смерти влиятельные московские и жалкие местные организации разрозненного русского зарубежья скинулись на дощечку с упоминанием о том, кем приходится России Лена фон Розен-Майер…
В том же 1943-м умер и познакомивший их с Буниным А. Неклюдов. Поредел пушкинский круг на никогда не виденном нашим «невыездным» Пушкиным Лазурном Берегу.
Похороненный на русском Кокаде уроженец Новороссийска и сын генерала артиллерии, капитан 1-го ранга АПОЛЛИНАРИЙ НИКОЛАЕВИЧ НИКИФОРАКИ (1880–1928) в 1900 году был выпущен из Морского корпуса мичманом и с тех пор где только не плавал: в 1904—1906-м командовал миноносцем «Плотва», потом подводными лодками «Сиг», «Крокодил», «Почтовый», а с 1916 года целым дивизионом подводного флота на Балтике.
Бурную жизнь прожил ротмистр Конно-пограничного Калишского полка ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ КАЛАШНИКОВ-НОРД (1889–1970), описавший свою жизнь и скитания вдали от родной Костромы в эмигрантской печати. Военное училище он кончил в Иркутске, в Первую мировую служил начальником связи в штабе корпуса, потом в штабе армии, а в Гражданскую уже и сам командовал эскадроном. Эвакуировался в Югославию, закончил курсы землемеров, работал на химическом заводе, потом стал инженером-топографом, жил под Парижем, на острове Мадагаскар, в Парагвае, да и после Второй мировой войны сотрудничал в русских воинских организациях и писал, писал… Было о чем рассказать.
На русском Кокаде похоронено чуть не два десятка представителей старинного русского рода Оболенских. Оболенские идут от князей Черниговских (как пишут, «являются их отраслью), а первым посажен был на черниговский престол внук великого князя Владимира, того, что крестил Русь. На Лазурном Берегу Франции жили представители по меньшей мере трех ветвей этого развесистого древа. Поскольку наше паломничество к русским могилам начиналось с толстовской семьи, мы и на Кокаде из многих Оболенских выберем для начала знакомцев великого Толстого. Скажем, ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВИЧА ОБОЛЕНСКОГО (1840–1931), которого привечали супруги Толстые, а жена писателя Софья Андреевна называла «маленьким Оболенским» или «Миташей» (он был на 16 лет моложе Льва Николаевича). Молодой Дмитрий ухаживал тогда за ее сестрой Лизой, а Софья Андреевна сожалела, что за Лизой, а не за Таней: Таня, как ей казалось, больше подошла бы ему по характеру. Вообще, вы заметите, что мы вступаем тут уже на территорию «Войны и мира» и «Анны Карениной», где москвич Дмитрий Дмитриевич Оболенский и его матушка Елизавета Ивановна Оболенская, урожденная Бибикова, были свои люди. Отец Дмитрия был убит собственным крепостным вскоре после женитьбы, в год рождения сына, и со временем прелестная Елизавета Ивановна вторично вышла замуж за ревностного слугу русского отечества барона фон Менгдена, отчасти послужившего прототипом романного мужа злосчастной Анны Карениной. Что же до самой Елизаветы Ивановны, то писатель Толстой высоко ценил не только ее красоту, но и ее талант рассказчицы. Великий роман о войне и мире кое-чем обязан ее красочным рассказам о барской жизни старой Москвы. Елизавета Ивановна брала с собой молодого Дмитрия на первые чтения «Войны и мира». Но и знания самого Дмитрия Дмитриевича, который вырос ярым лошадником (коннозаводчиком), заядлым охотником (хорошо знал охотничьих собак) сгодились русской литературе. Сын Толстого рассказывал, что, когда Лев Николаевич писал главу о скачках (с участием Вронского), он три дня пропадал в гостях у Д.Д. Оболенского. Да и сам Дмитрий Дмитриевич, который еще в России, задолго до изгнания, сделался журналистом (редактировал газету «Охота и спорт», писал в «Исторический вестник» и «Русский архив»), об этом не умолчал:
Между прочим, я передал Л.Н. подробности и обстановку красносельской скачки, которая и вошла в ярком изображении в «Анну Каренину». Падение Вронского с Фру-Фру взято с инцидента, бывшего с князем Д.Б. Голициным, а штабс-капитан Махотин, выигравший скачку, напоминает А.Л. Милютина.
Д.Д. Оболенский рассказал, что и описание охоты потребовало от Толстого более свежих воспоминаний. До «переворота в мировоззрении» писателя они вместе охотились в имении князя Шаховского. Потом писатель ездить на охоту перестал, а Д.Д. Оболенский писал об охоте и мог стать ценным консультантом.
Когда настали трудные времена для беспечного «Миташи» Оболенского и он объявлен был «несостоятельным должником», Лев Николаевич за него хлопотал. Не исключено, что кое-какие его черты (a не только мужа племянницы писателя Л. Оболенского) достались добродушному и непутевому Стиве Облонскому из «Анны Карениной»).
Дмитрий Дмитриевич переписывался с Толстым чуть не до смерти писателя. Он писал в «Новое время» о смерти и похоронах Толстого, а свои «Отрывки из личных воспоминаний» напечатал в Международном Толстовском альманахе еще при жизни писателя.
В эмиграции Дмитрий Дмитриевич работал переводчиком в английской военной миссии и занимался журналистикой: печатался в парижском «Возрождении», белградском «Новом времени», в «Вестнике Ривьеры» и в «Отечестве». Занимался он и общественной работой, участвовал в работе Русского зарубежного съезда 1926 года, был членом Русской секции борьбы против III Интернационала. Часто писал статьи о положении в России.
Из многочисленных князей Оболенских, похороненных на Кокаде, два князя были полные тезки, Николаи Николаевичи Оболенские. Старший НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ (1861–1933) был юрист, кончил Императорское училище правоведения, служил прокурором в Москве и в Рязани, а в Москве был вдобавок членом Московского столичного попечительства о народной трезвости. В эмиграции жил в Ницце, где уровень народной трезвости его более не занимал. Он держался своих и состоял членом Общества бывших воспитанников Императорского училища правоведения.
Младший НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ (1905–1993) родился в Астрахани, подростком уехал с родителями в эмиграцию, в Париж, где окончил Русскую гимназию, знаменитую Школу политических наук («Сьянспо») и Военную школу Сен-Сир, из которой вышел подпоручиком Иностранного легиона. Во время Второй мировой войны воевал в батальоне иностранных добровольцев, был награжден Военным крестом, а после войны служил в Париже в страховой компании и занимался общественной работой, был даже генеральным секретарем Содружества русских резервистов французской армии. Мне доводилось пользоваться составленным Н.Н. Оболенским перечнем русских участников Второй мировой войны в рядах французской армии. Князь писал стихи и часто выступал с их чтением на вечерах молодых эмигрантских поэтов. В конце сороковых годов он увлекся генеалогическими исследованиями и стал членом Генеалогической комиссии Союза русских дворян, собирателем и хранителем семейного архива, а тридцать лет спустя почетным председателем Семейного союза князей Оболенских. Последние десятилетия своей удивительно активной жизни князь провел в Ницце, где продолжал свои генеалогические поиски, был членом правления Общества ревнителей русской старины и членом Ассоциации по сохранению русского культурного наследия во Франции. В 1965 году князь был награжден орденом Почетного легиона. Через десять лет после смерти Н.Н. Оболенского в Петербурге был напечатан дневник, который князь вел подростком: удивительный «Дневник 13-летнего эмигранта».
Закончить прогулку среди Оболенских Кокада можно у могилы князя СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ОБОЛЕНСКОГО (1888–1964), члена Государственного совета, сенатора, уездного предводителя дворянства в Московской губернии. В 1936 году в эмигрантской Ницце князь Сергей Александрович Оболенский был председателем Общества удешевленных обедов и помощи неимущим русским.
Из представителей графского рода Олсуфьевых на Кокаде похоронен член Государственного совета, камергер, депутат Третьей Государственной думы, член Историко-родословного общества в Москве ДМИТ-РИЙ АДАМОВИЧ ОЛСУФЬЕВ (1862–1937). Он был сыном генерал-лейтенанта Адама Васильевича Олсуфьева (1833–1901). Надо сказать, что библейское имя Адам в роду Олсуфьевых идет по причуде самого Петра Великого, у которого гофмейстером двора был верный Василий Олсуфьев. Когда у гофмейстера родился младенец мужеского пола, царь, вызвавшись быть его крестным отцом, решил подарить ему имя Адам. Царский крестник вырос шустрым, способным к языкам юношей и стал статс-секретарем Екатерины II и писателем, а внук его был московским губернатором и первым удостоился графского титула.
В годы пореволюционной эмиграции граф Дмитрий Адамович жил в Ницце, выступал с лекциями о русской истории и литературе, участвовал в работе Союза молодежи и Кружка ревнителей русского прошлого, писал в эмигрантской прессе о различных русских, в том числе церковных, проблемах.
Автору этих строк довелось в 1978 году встречаться во Флоренции с графиней Марией Олсуфьевой, знаменитой переводчицей русской советской (строго говоря, вполне антисоветской) литературы на итальянский язык («Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, романы А. Платонова). В годы оттепели графиня-переводчица приезжала в Москву и даже обедала в Каминном зале Центрального дома литераторов, в том самом доме на Поварской, который некогда отобрала у семьи Олсуфьевых новая власть.
Могила графини НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ ДЕ ОРЕСТИС ДЕ КАСТЕЛЬНУОВО, урожденной ЧИХАЧЕВОЙ (1810–1876) может привести на память не только события бурной жизни графини, но и важные события жизни Лазурного Берега и, в частности, Ниццы. Будущая графиня родилась в Гатчине в семье статского советника Александра Петровича Чихачева. Матушка Натальи Александровны была из Бестужевых-Рюминых, а крестной матерью новорожденной стала императрица Мария Федоровна. Первым браком юная Наталья вышла за князя Леонида Девлет-Кильдеева, а вторым за иностранного подданного, префекта Ниццы графа де Кастельнуово.
Осенью 1856 года приплыла в Ниццу для отдыха и лечения русская вдовствующая императрица Александра Федоровна, которую поселили на вилле богатого банкира господина Авигдора. Православной церкви в Ницце тогда еще не было, так что на террасе виллы Авигдора, главы местной еврейской общины, была устроена и 21 ноября 1856 года торжественно открыта для нужд императрицы домашняя православная церковь. Четыре месяца спустя императрица Александра Федоровна переехала на виллу «Орестис» к графине де Орестис де Кастельнуово и прожила у нее в гостях еще два месяца. За это время русских гостей в Ницце сильно прибавилось: приплывали из русской столицы великие князья, княжны, придворные и другие люди из высшего общества… Во время второй своей поездки в Ниццу, в 1859 году, вдовствующая императрица сразу поселилась на вилле «Орестис» и жила там до переезда на русскую императорскую виллу «Пейон», так что в теплой Ницце, сперва сардинской, а вскоре уже и французской, удачливой уроженке Гатчины графине Наталье Александровне де Орестис довелось поучаствовать в росте тамошней русской колонии.
Похоронена на русском Кокаде и знаменитая супружеская пара – художница НИНА МИХАЙЛОВНА ПАНТЮХОВА, урожденная ДОБРОВОЛЬСКАЯ (1883–1944), и основатель русского скаутского движения полковник лейб-гвардии Стрелкового полка и георгиевский кавалер ОЛЕГ ИВАНОВИЧ ПАНТЮХОВ (1882–1973). Родился Олег Иванович в Киеве, в семье профессора-антрополога, окончил Тифлисский кадетский корпус и Павловское военное училище, увлекся движением скаутов-разведчиков, посетил по приглашению английского основателя движения скаутский лагерь в Англии, вернулся в Россию. Воевал на Первой мировой, был контужен, возглавлял московскую школу прапорщиков, бежал на юг, воевал против большевиков, в 1919 году на скаутском съезде был избран старшим русским скаутом, продолжал скаутскую работу в США, а потом снова в Европе, писал о скаутском движении, издал «Семейную хронику». Супруга его училась живописи у Циоглинского, а также в рисовальной школе барона Штиглица в Петербурге, участвовала в художественных выставках и при этом была активной помощницей мужа, деятельницей скаутского движения. Век ее был, впрочем, на три десятка лет короче мужниного.
Такими же единомышленниками и подвижниками, как супруги Пантюховы, были супруги Перзинские. БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ПЕРЗИНСКИЙ (1892–1966) окончил Одесский кадетский корпус и Киевское пехотное училище, в мировую войну был на Западном фронте, а в Гражданскую служил в корпусе корабельных офицеров Черноморского флота. Вместе с флотом эвакуировлся в Бизерту, служил в Тунисе контролером на строительстве дорог, а заработанные деньги щедро жертвовал на православную церковь Воскресения Христова. Помощью православной церкви занималась и жена его ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА ПЕРЗИНСКАЯ, урожденная МИХАЙЛОВСКАЯ (1895–1997). Из Туниса супруги переехали на юг Франции, в Ванс. Деятельный Борис Константинович занялся виноградарством, сумел создать свою фирму. Вместе с супругой они много времени и средств отдавали созданию православного храма Святого Николая Чудотворца в городе Боне, что лежит на краю бургундского Золотого берега.
На Кокаде наряду с многими священнослужителями похоронен был протоиерей ВСЕВОЛОД ПЕРОВСКИЙ (1860–1933). Он родился на Северной Двине в Холмогорах, окончил духовную семинарию в Архангельске. Был он вдобавок ученым-метеорологом и состоял наблюдателем на метеостанции. Министерство земледелия отмечало его научные заслуги. В эмиграции он был духовником владыки Владимира (Тихоницкого).
Среди моряков на Кокаде нельзя не упомянуть двух братьев Пилкиных (Пилкин Первый и Пилкин Второй), сыновей вице-адмирала Константина Павловича Пилкина. Пилкин Первый, контр-адмирал ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ ПИЛКИН (1869–1950) окончил Морской корпус, a затем минные курсы, отличился в бою и стал георгиевским кавалером при обороне Порт-Артура. В 1907 году командовал миноносцем «Послушный», в 1909-м эсминцем «Всадник», позже линкорами «Цесаревич» и «Петропавловск», а накануне Февральской революции бригадой крейсеров Балтийского флота. Позднее он возглавлял морские силы генерала Юденича. Был награжден множеством орденов. С 1921 года в эмиграции, в Париже, занимался организацией материальной помощи семьям моряков. Был председателем Военно-морского исторического кружка, секретарем Кают-компании морских офицеров, выступал с докладами, писал серьезные статьи, печатался в «Морском журнале». Жена контр-адмирала МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА ПИЛКИНА (1880–1931) состояла в Дамском комитете Кают-компании морских офицеров, а дочь МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ПИЛКИНА (1907–1935) работала в Ницце на заводе и активно участвовала в деятельности молодежного христианского движения (РСХД). Сестра ее ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА ПИЛКИНА (1910–1991) выступала с докладами в Кружке русской культуры.
Младший брат контр-адмирала, капитан II ранга, «Пилкин Второй», АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ПИЛКИН (1881–1960) закончил Морской корпус и за проявленное бесстрашие при обороне Порт-Артура был награжден орденами Св. Станислава, Св. Анны, Св. Владимира, Золотой саблей «За храбрость». Во время Первой мировой войны он командовал эскадренным миноносцем «Москвитянин» и эсминцем «Новик». В пору эмиграции в Ницце был председателем Кают-компании морских офицеров, членом Союза георгиевских кавалеров, печатался, как и старший брат, в «Морском журнале».
Похороненную на Кокаде ЕКАТЕРИНУ СЕРГЕЕВНУ ФИШЕР (1900–1991) называли в эмигрантской Ницце ангелом-хранителем белых воинов. Автор ее некролога, напечатанного осенью 1991 года парижской газетой «Русская мысль», назвал новопреставленную «белой дамой»: «“Белая дама”, бывшая благотворительницей и ангелом-хранителем белых воинов, православных монастырей и всех нуждающихся». Ее муж Георгий Георгиевич Фишер был крупный предприниматель, однако не всякий богатый человек обязательно соглашается, чтобы заработанные им деньги шли на чужие нужды. Господин Фишер не препятствовал бесконечной череде добрых дел и щедрых трат своей жены. Он соглашался, чтобы Екатерина Сергеевна содержала во Франции два дома белых воинов (в Монфернее и в Ницце), давала деньги на собрания галиполийцев, на русские детские учреждения…
Для стареющих, израненных, обнищавших эмигрантов-воинов такие дома инвалидов и старческие дома были истинным спасением. Немало эмигрантов кончили жизнь в таких домах – в Ницце, Грассе, Сен-Рафаэле, Каннах, Розе-aн-Бри, Кормей-ан-Паризи, Монморанси, Булони. Были свои дома престарелых у казаков (в Ла-Бокка), у русских шоферов (в Понтуазе), у артистов и художников (в Ножан-сюр-Сене). В них доживали россияне, до нитки обкраденные на родине. Те же, которым удалось сохранить какое-то состояние, открывали во Франции новые дома для соотечественников – такие, как Дом княгини Любимовой (она выведена в знаменитом «Гранатовом браслете» Куприна), как Дом княгини Палей и другие… Складывается впечатление, что именно эта эмиграция была самой заметной, активной и жертвенной из бесчисленных диаспор во Франции. Впрочем, напомню, что для Екатерины Сергеевны Фишер белая армия не была просто символом чистоты и белизны русского дела. В белой армии погибли два ее брата. Ее дядя, полковник Александр Перхуров, потомок старинного военного рода России, был расстрелян большевиками в Ярославле. В 1966 году муж Екатерины Сергеевны покинул Ниццу для паломничества ко Гробу Господню и умер в Иерусалиме. Вдова его трудилась на ниве благотворительной помощи еще четверть века…
Сын протопресвитера юга Франции СЕРГИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПРОТОПОПОВА (1851–1931) ЕВГЕ-НИЙ СЕРГИЕВИЧ ПРОТОПОПОВ (1875–1944) окончил Пажеский корпус и Александровский лицей в Петербурге, был на дипломатической службе на острове Крит, в Марселе и в Ницце. В Ницце занимал пост генерального консула, но после Первой мировой войны в Россию не вернулся. Его считают создателем Комитета помощи русским эмигрантам в Ницце. Был он также членом Объединения бывших учеников Александровского лицея и входил в совет Братства св. Анастасии Узорешительницы. В конце своей жизни, когда немцы пришли в Ниццу, Е.С. Протопопов, как и некоторые другие дипломаты старой русской школы (например, Леонтий Гомелла), спасал от смерти евреев. Это было на юге Франции смертельно опасным делом.
В описании кладбища Кокад, составленном И.И. Грезиным, использованы данные из незаменимого справочника Рэмона де Помфийи. В справочнике этом есть краткие сведения о Кокаде и несколько строчек о похороненном здесь художнике Леониде Пьяновском, воспроизведенные Грезиным: «ПЬЯНОВСКИЙ ЛЕОНИД АДАМОВИЧ, художник, декоратор, 1885–1976. Л. Пьяновский расписал металлический купол над соседней могилой Натальи Шабельской, которая представляет собой часовню, вырубленную из привезенного из России цельного камня». Сообщение это оказалось не совсем точным и полным. Поправить его и дополнить помогла мне публикация в журнале «Иные берега» (автор Л. Варебрус). Автору журнала удалось выяснить, что настоящая фамилия художника не Пьяновский, а Пяновский. Французскую подпись на его работах (Pianovsky), вероятно, настолько легче прочитать как русское Пьяновский, чем польское Пяновски, что художник и сам, наверно, притерпелся к русскому варианту, хотя по всем документам он числится все же Пяновским. Он родился в Пятигорске в семье отставного генерала Адама Пяновского, имевшей вполне польское происхождение и вполне гуманитарные склонности: сам генерал писал на досуге историю Кубанской армии, дочь фотографировала, а сын Леонид окончил в 1905 году Строгановское училище в Москве, стал художником и получил серьезный заказ из Ниццы, где строился православный Свято-Николаевский собор. Строил собор академик архитектуры Михаил Преображенский, а иконостас и вся фресковая живопись в соборе – работа молодого Пяновского. Кто ж из обитателей Лазурного Берега или даже мимолетных туристов, заезжающих в Ниццу, не знает этот великолепный собор в модном тогда «русском стиле», который копировал или переосмысливал достижения старинной (допетровской еще) русской архитектуры и живописи! Полтора десятка лет, что я зимую в Ницце, каждый раз по приезде привычно поднимаю грешный свой взгляд на иконы Корсунской Божьей Матери и Нерукотворного Спаса, написанные Леонидом Пяновским.
В изгнании Пяновский продолжал работать, писать новые иконы. Написал «Святых покровителей Императора Александра II» и «Святых покровителей Императора Николая II», они по сторонам соборного иконостаса как бы продолжают его… Так что не одной только росписью купола склепа Шабельских знаменит покоящийся на Кокаде Леонид Пяновский.
Сами же Шабельские были богатой некогда семьей с Харьковщины. Первой в этом склепе была похоронена (точнее, перезахоронена) НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА ШАБЕЛЬСКАЯ, урожденная КРОНЕНБЕРГ (1841–1904). Она была из хорошей дворянской семьи, окончила женский институт в Харькове, в двадцать один год вышла замуж за богатого землевладельца, инженер-капитана Петра Николаевича Шабельского и стала жить мирной жизнью в его усадьбе в Харьковской губернии. Она любила вышивание, но как выяснилось, ей мало было просто сидеть у окна и вышивать. У нее обнаружились деловая жилка и безмерное любопытство, даже, можно сказать, исследовательский интерес к тому, чем она занимается. Сперва она устроила вышивальную мастерскую у себя в имении. А в 1877-м она посетила Нижегородскую ярмарку и увидела там образцы старинной русской вышивки. Заинтересовалась экспозицией, купила кое-какие образцы для работы, для подражания. Поле открылось огромное, почти нехоженое. Одна или вместе с двумя подросшими дочерьми, Варварой и Натальей, стала она ездить по российским губерниям, по глухим углам, побывала, конечно, на русском Севере, в Поволжье, в центральных губерниях, в Крыму. Покупала платья, рубахи, сумочки, кокошники, вышитые покрывала, наволочки, сумки… Коллекция ее росла, и знаний у нее прибавлялось и вкуса к настоящим шедеврам. Надо сказать, что шла она в ногу с модой, у русской интеллигенции открывались тогда глаза на народное искусство, на русскую старину. В начале 80-х годов переехали Шабельские в Москву. В 1890 году прошла в Историческом музее в Москве выставка русской старины. Было представлено почти семь сотен удивительных изделий из двух десятков российских губерний, и вещи из коллекции семьи Шабельских уже были замечены. Два года спустя на выставке было уже четыре тысячи экспонатов. Еще через год уплыли шедевры ее коллекции за океан, на всемирную выставку в Чикаго, а потом уж в Брюссель и Антверпен. Собственный дом Шабельских на Малой Бронной знали теперь многие. В 1900 году на Всемирной Парижской выставке получила коллекция Натальи Шабельской медаль. Коллекция ее насчитывала уже тысячи предметов: четыре, пять, двадцать тысяч… Хозяйка умерла в 1904 году. Но остались тогда толковые, все про материнское дело знающие дочки Натальи Леонидовны. Нынче они рядом с матерью на Кокаде – НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА ШАБЕЛЬСКАЯ (1868–1943) и ee сестра княгиня ВАРВАРА ПЕТРОВНА СИДАМОН-ЭРИСТОВА, урожденная ШАБЕЛЬСКАЯ. Они продолжали дело, начатое матерью, изучали вышивку, кружева, женскую одежду и пополняли свою коллекцию. В 1910 году сестры Шабельские выпустили в Москве книгу «Собрание русской старины: Выпуск 1: Вышивки и кружева». Книга была издана на двух языках, русском и французском. И до, и после революции Варвара Петровна Шабельская работала в Центральных государственных реставрационных мастерских. Наталья Петровна работала в пореволюционные годы в тех же реставрационных мастерских, в Оружейной палате, в Национальном музейном фонде, в Московском институте историко-художественных изысканий и музееведения, но к 1925 году самым чутким из интеллигентов стало ясно, что жизнь в России становится небезопасной. Первой уехала во Францию Варвара Петровна, следом за ней сестра. Коллекция, конечно, осталась.
Сестры Шабельские жили в Париже, потом в Ницце. Для заработка они делали вышивки, изготовляли ювелирные изделия (по рисункам Варвары Петровны). Однажды они даже получили заказ на отделку платьев в древнерусском стиле от знаменитого Поля Пуаро. Выполняли реставрационные работы, были консультантами художественных музеев. Уже в 1925 году в Париже для сохранения и развития русского иконописания было создано общество «Икона». В 1930 году Наталья Петровна Шабельская была товарищем председателя этого общества (председателем был в ту пору В.П. Рябушинский).
Сестры Шабельские умерли в Ницце одновременно, в феврале 1943 года.
Похоронена на Кокаде обширная семья фабриканта Людвига Рабенека, директора «Товарищества мануфактур Людвиг Рабенек», и хотя самого директора-основателя здесь нет, лежат здесь его дети, внуки, невестки, совладельцы, которые предпочитали, чтоб их называли русскими именами (скажем, Львами, вместо Людвигов, Артемиями, вместо Артуров). Они сами и их жены не только занимались делами своих текстильных предприятий, но и получали солидное образование, увлечены были делами культуры и искусства, издавали музыкальные произведения, поддерживали композиторов и артистов, активно меценатствовали, с гордостью нося потомственное звание почетных граждан Москвы. Начать хотя бы с АРТЕМИЯ ЛЬВОВИЧА (понятное дело, Артура Людвиговича) РАБЕНЕКА (1884–1966). Он учился на юридическом факультете Императорского московского технического училища, потом окончил прядильно-ткацкое училище в немецком Ретлингене, стал директором Реутовской мануфактуры «Товарищества Людвиг Рабенек», a также акционерного общества «Южно-Должанский антрацит». Ему было ко времени российской катастрофы только 33 года. В эмиграции, в Париже, он был заместителем директора музыкального издательства Кусевицкого. Он и в России был не чужой человек в мире музыки и танца, ибо женился на танцовщице Элен Тельс (ЕЛЕНА ИВАНОВНА БАРТЕЛЬС, 1880–1944). Жена его была дочерью банкира, училась танцу в студии Айседоры Дункан в Германии, стала ее последовательницей, а потом преподавала в Москве в основанной ею Студии естественного движения. В первом браке она была замужем за известным певцом и режиссером В.Л. Книппером (Нардовым). А в 1919 году она открыла школу танца в Вене, выступала там с концертами и в 1927 году перебралась в Париж. Как и новый ее супруг Артемий Людвигович Рабенек, она всегда оказывала материальную помощь артистам.
Похороненные в той же могиле братья Артемия АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ РАБЕНЕК (1886–1928) и ЛЕВ ЛЮДВИГОВИЧ РАБЕНЕК (1883–1972) учились в том же техническом училище, что и Артемий, доучивались в Германии, а Лев еще окончил вдобавок медицинский факультет Московского университета. Братья занимались, конечно, делами ткацкого и красильного производства, но Лев близок был вдобавок к кругам Московского Художественного театра. В эмиграции он напечатал в газете «Возрождение» свои мемуары о былой Москве, о Чехове и Станиславском.
Похоронен на Кокаде АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ РАЕВСКИЙ (1795–1868), чья недолгая дружба с Пушкиным нашла отражение в творчестве великого поэта. Он родился на Кавказе, в крепости Святого Георгия, в семье будущего генерала и внучки М.В. Ломоносова. Пятнадцати лет от роду Раевский уже служил в армии, участвовал в русско-турецкой войне, потом в Отечественной войне 1812 года, к двадцати семи годам был полковником. Молодой Пушкин дружил с семьей Раевских, с отцом семейства и двумя братьями, вздыхал по обеим сестрам, Марии и Екатерине, посвятил им немало чудных строк. Со старшим из братьев, Александром, он встречался и на Кавказе, и в Крыму, и в Каменке, и в Киеве, и главное – в Одессе. Туда в 1823 году был назначен генерал-губернатором знаменитый либерал граф М.С. Воронцов, и петербургские друзья, чтобы скрасить Пушкину скуку Южной ссылки в Кишиневе, выхлопотали ему перевод к морю, в шумную космополитическую Одессу. Так что Пушкин вместе с полковником Александром Раевским попали разом в распоряжение Воронцова, который был к обоим весьма расположен. А молодого Пушкина этот загадочный, умный, скептический, сыплющий парадоксами философ Александр Раевский тянул к себе в ту пору неудержимо, да и полковнику в отставке Раевскому лестно было открывать глаза на мир признанному в столице поэту. Раевскому молодой Пушкин предсказывал великое будущее, хотя и увидел в его байроническом безверии и скепсисе нечто демоническое, что может привести в отчаянье. Предсказаниям Пушкина о будущих великих делах Раевского не суждено было сбыться. Он не стал заметной фигурой русской истории, зато стал излюбленным персонажем пушкинистов, в частности считается героем известного пушкинского стихотворения «Демон», написанного в 1823 году:
- Печальны были наши встречи:
- Его улыбка, чудный взгляд,
- Его язвительные речи
- Вливали в душу хладный яд.
- Неистощимой клеветою
- Он Провиденье искушал;
- Он звал прекрасное мечтою;
- Он вдохновенье презирал;
- Не верил он любви, свободе,
- На жизнь насмешливо глядел —
- И ничего во всей природе
- Благословить он не хотел.
Конечно, молодого, полного надежд Пушкина смущали и этот мрачный взгляд на жизнь, и некое безверие, однако влекли остроумная наблюдательность собеседника, незаурядная начитанность его друга, так же как разговоры о свободе и благородные идеи масонского братства… И этот пронзительный, не терпящий возражений взгляд молодого Раевского (даже на красивом портрете кисти П. Соколова он впечатляет). Возникает и крепнет «братская дружба, нерушимая никакими обстоятельствами». Это определение их дружбе подыскал сам Раевский уже в пору, когда обстоятельств для их разрыва было много.
Итак, оба друга, пятого класса чиновник, но уже известный и знающий себе цену опальный поэт Пушкин, и его коллега, званием повыше, поступили служить под началом графа Воронцова. Влиятельный аристократ, англоман, европеец, вельможа, сорокалетний богач отнесся к молодым людям вполне благожелательно. Что до Раевского, то он был адъютантом у Воронцова еще и во время войны. За Пушкина просили петербургские друзья, так что граф любезно пригласил поэта бывать у него во дворце, свободно пользоваться его великолепной библиотекой. Все шло прекрасно. Хозяйка графского дома пока не появлялась на людях: она носила под сердцем первого ребенка и не очень хорошо себя чувствовала. Пока графиня отдыхала после родов, граф тайно, чтоб не потревожить слабую еще супругу, похоронил умершего младенца. Вскоре графиня поправилась, выплакала свое горе, стала выходить к гостям, и оба прикомандированных к наместнику Воронцову чиновника, полковник Раевский и коллежский секретарь Пушкин, влюбились в нее без памяти. Графиня была чуть старше их обоих (и пережила их обоих), но в том 1823-м она была как раз в расцвете своей прелести, великолепия, изысканности… Не то чтоб истинная красавица, но дочь графа Станислава Браницкого была во всеоружии польского благородства и французского уменья обольщать. Она знала стихи Пушкина, она подарила его взглядом, так что юный и пылкий «африканец» не мог не влюбиться. С военным героем полковником Раевским все обстояло еще серьезнее. Он знавал ее когда-то, очень ей нравился. Но он пренебрег тогда ее любовью, вовсе забыл о ней, и теперь, увидев блистательную хозяйку салона, прозрел…
Надо признать, что очень скоро граф Воронцов почувствовал себя в собственном доме вполне неуютно. У него было много всяческих обязанностей, были жена, недавно пережившая утрату, маленькая дочка Александрин, красивая любовница из рода Потоцких, которую он так удачно выдал за своего кузена графа Льва Нарышкина… И вот по просьбе милых людей он взял себе на шею еще и поэта, который не отходит от его жены. Граф, надо признать, не считал поэзию серьезным занятием и полагал, что в глазах окружающих подобный поклонник вряд ли приемлем для его супруги. Графиня дарила поэта ласковыми взглядами. Это пока мало значило, но раздражало ее супруга… Когда известия об этом дошли до Петербурга, до благожелателя и благодетеля Пушкина Александра Тургенева, тот написал в отчаянье другому пушкинскому другу князю Вяземскому: «Графиня его отличала и отличает, как заслуживает его талант, но он рвется в беду свою. Больно и досадно. Куда с ним деваться?»
Уже в марте 1824 года Воронцов отправил письмо графу Нессельроде, возглавлявшему Министерство иностранных дел, чиновником которого числился коллежский секретарь Пушкин, умоляя перевести опального молодого поэта в другое место. При этом он вовсе не бранил Пушкина и сообщал, что не слышал от него никаких крамольных высказываний, что он ведет себя пристойно, но все же неплохо бы поместить его в другую среду, в менее льстивое окружение. Хотя должность обязывала губернатора следить за образом мыслей его подчиненных, граф сумел избежать неблаговидных доносов (как и откровенных разговоров с неосторожным поэтом). Ознакомившись с просьбой Воронцова, Нессельроде принял ее к сведению, но не взял на себя никаких решений. Для решений в российской вертикали существовал монарх. Но Воронцову было невтерпеж, и вскоре он написал письмо сенатору Лонгинову, прося поторопить Нессельроде, а потом отправил и второе письмо министру.
Между тем Пушкин не сидел без дела. Он тоже писал. Он писал любовные стихи, посвященные губернаторше (целый любовный цикл), поэму «Цыганы» и очень злые (и вряд ли столь уж справедливые) эпиграммы, где переставший быть ласковым губернатор представлен подлецом (хотя еще и не полным):
- Полу-милорд, полу-купец,
- Полу-мудрец, полу-невежда,
- Полу-подлец, но есть надежда,
- Что будет полным наконец.
Ну а что друг Александр Раевский? Опасаясь за свой снова возгоревшийся, менее поэтический, но зато и менее платонический роман с женой губернатора, он отнюдь не горел желанием выгораживать друга. Они были теперь соперниками, и Пушкину не сразу пришла в голову мысль, что близкий к Воронцову Раевский не находит нужным выгораживать их двоих, и, уж конечно, считает должным спасать в первую очередь свое место в Одессе и свой роман. Пушкин только осознавал горький привкус предательства, и дружба их еще долгое время казалась ему надежной, о ее узах продолжал говорить и писать искушенный в светских интригах Раевский.
Графу Воронцову, не получавшему из медлительной столицы поддержки в срочных решениях, пришла в голову простенькая мысль хоть на время удалить пылкого молодого чиновника из Одессы куда-нибудь в служебную командировку. Область была у графа в управлении огромнейшая, и шеф попросил столоначальника придумать повод для командировки. Возможно, именно так появилась идея поездки для выявления последствий недавнего нашествия саранчи на мирные поля поселян. О результатах обследования можно было доложитъ в Петербург в потоке донесений, имитирующих усердную службу.
Кстати, результаты этой начальственной акции были впечатляющими: Пушкин был оскорблен. Он сам объяснял, что, прослужив семь лет чиновником, приписанным к министерству, он в руках не держал служебной бумаги и никакими делами не занимался. Это была синекура для поддержания более или менее светского образа жизни. Для самого Пушкина и всех, кто о нем писал позднее, эта оплаченная казной поездка мелкого чиновника по югу России была для замечательного поэта и пылкого юноши, домогавшегося жены начальника, подлой и коварной местью мужа, изощренной служебной пыткой. Пушкин был в ярости, подумывал об отставке, но Одессу покидать не хотел. В конце концов он получил деньги, поехал лишь в одну из указанных трех губерний, побывал в Херсоне, не утруждал себя саранчой и непредвиденно скоро объявился снова в Одессе. Он должен был написать отчет о результатах ревизии и, как гласит легенда, написал смешной стишок о том, что саранча летела, летела, села, все съела и дальше полетела.
Тем временем, если верить мемуарам Вигеля, Пушкин и Александр Раевский засели за письмо графу Воронцову. Писалось это письмо, конечно, по-французски. Оскорбленный командировкой молодой поэт, аристократ духа, писал сановному аристократу о своем каторжном и унизительном труде в его изредка посещаемой канцелярии и о ничтожности получаемого им вознаграждения… Мемуарист к Раевскому не питает симпатии и как бы считает его поведение двуличным, ибо он был соперником Пушкина, тоже заинтересованным в отъезде поэта.
В конце концов граф Воронцов получил долгожданный ответ и разрешение удалить Пушкина из Одессы и от своего семейного круга. Александр I, получив досье опального поэта, попросил пару дней на раздумье и углубился в чтение. Он, вероятно, с умеренным любопытством проглядел жалобы супруга, вполне знаменитого возлюбленного Ольги Нарышкиной-Потоцкой, супруги почтенного Льва Нарышкина и вообще знаменитого ходока графа Воронцова. Можем предположить, что усмехнулся или нахмурился при упоминании (без дерзкого цитирования) новых злоязычных эпиграмм поэта, проглядел сведения о том, что кроме редких гонораров и семисот рублей в год жалованья чиновника пятого разряда упомянутый Пушкин ничего не имеет, потом обратился к другим мелочам и вот тут… Попробуйте угадать, что привело великодушного государя в гневное настроение и решило участь милого нашему сердцу поэта. Взгляд государя упал на цензурную выписку из легкомысленного, хвастливого, мальчишеского (Пушкин и сам назвал его «дурацким») майского письма Пушкина его другу князю Вяземскому. Цензура выловила содержащуюся в пушкинском письме хвастливую фразу про знакомство с англичанином, про чистый афеизм (то бишь малопохвальный атеизм), про превосходство Шекспира над Библией… Упомянутый в письме англичанин (фамилия его была Хатчинсон) цензуре показался малоинтересным – домашний врач в семье Воронцовых, судя по регулярным заболеваниям детей и взрослых в этой семье, медик не слишком удачливый. К его философскому бурчанию в англоманской русско-польской семье губернатора мало кто прислушивался. Но молодому Пушкину проповедь медика показалась интересней, он сравнил Священное Писание с Шекспиром и поспешил категорически высказаться в кратеньком письме в пользу Шекспира и собственных философских выводов.
Государь объявил свое решение. Оно было в пользу высылки Пушкина из Одессы. Но оно было гораздо круче, чем то, о чем просил либерал граф Воронцов. Государь повелел уволить вольнодумца со службы и сослать его на жительство в имение родителей, в Псковскую губернию.
То, что придется уезжать, Пушкин понимал уже с конца весны. Понимала это и благоволившая к поэту Елизавета Ксаверьевна Воронцова, жена разлучника. Свет ее выразительных глаз все чаще обращался к влюбленному поэту. На прощанье графиня подарила Пушкину заветный перстень с надписью на древнееврейском языке. Все самые трогательные моменты их любви описаны в замечательных стихах. Впрочем, самой ужасной (или самой прекрасной) победы поэт, судя по всему, не одержал (Вера Федоровна Вяземская, опекавшая Пушкина до самого его отъезда, свидетельствует о серьезности его любви к Елизавете Ксаверьевне и чистоте их отношений). Может, именно поэтому переписка их сохранила жар чувства, а прелестная, любимая всем нашим народом героиня пушкинского романа Татьяна Ларина по праву сияет в ореоле супружеской верности.
После отъезда из Одессы дружеская переписка Пушкина с Александром Раевским еще продолжалась некоторое время. Первое письмо Раевского было ободряющим: «…не унывайте, помните о Вашей обязанности к самому себе, к своей стране и не забывайте, что Вы украшение нашей нарождающейся литературы». Раевский передавал Пушкину привет от графини Воронцовой, на что ссыльный отвечал своему сопернику вполне бодро: «Так как страсть моя очень уменьшилась и я опять влюблен в другую, я размышляю много по этому поводу».
А вскоре у обоих друзей возникли и новые поводы для размышлений и волнений. Грянули декабрьские события 1825 года. Мужья обеих дочерей героя Отечественний войны Н.Н. Раевского Старшего, князья М. Волконский и М. Орлов, участвовали в декабрьском восстании и были наказаны: Орлов высылкой под надзор полиции в Калужскую губернию, а Волконский – в Сибирь на каторгу. Княгиня Мария Волконская решила отправиться вслед за мужем, и брат Александр, несмотря на все свои усилия, не смог ее отговорить. Были арестованы и оба брата Раевские, и Пушкин в письме Николаю Раевскому Младшему справлялся о здоровье Александра: «Он болен ногами, сырость казематов будет для него смертельна. Узнай, где он, и успокой меня».
Следствие, впрочем, показало, что ни один из братьев Раевских не входил в тайное общество, о чем Александру Николаевичу был выдан «очистительный» документ, и он смог вернуться в Одессу. Тут-то граф Воронцов и обнаружил, что даже в отсутствие смутьяна Пушкина, который на счастье для поэта оказался вдали от опасных событий, одесский дом графа остается осажденной крепостью, ибо на самом деле у его пленительной супруги был не один пылкий поклонник, а по меньшей мере два, и притом второй преуспел больше первого. Раевский не отрывался теперь от предмета своей страсти, ездил с графской семьей в поместье под Белую Церковь и вообще, похоже, настолько преуспел в реализации своих планов, что Елизавета Ксаверьевна родила дочку Софью, которую граф упрямо выделял из семьи. Настроение в доме стало таким тяжким, что графиня стала избегать Раевского, но тот упорствовал, и вот однажды, во время визита царской семьи в Одессу, Раевский остановил карету, в которой ехала графиня, и при свидетелях наговорил ей дерзостей. Таковы, по крайней мере, были слухи. Пушкин вспоминал об этом скандале в разговоре много лет спустя, перед своей роковой дуэлью, но даже знаменитый пушкинист Гершензон вынужден ссылаться лишь на слухи: «Современная молва гласила, что Александр Николаевич Раевский с хлыстом в руке остановил на улице карету графини Воронцовой <…> и наговорил ей дерзостей». То ли страсть лишила его осторожности, то ли былая привычка к экстравагантным поступкам, будоражащим общество, взяла верх над осторожностью, но передавали, что он даже крикнул графине напоследок: «Позаботьтесь о нашей дочери» (даже «о наших детях»). Так или иначе, граф Воронцов был в ярости и совершил в спешке необдуманный поступок: заявил жалобу полицмейстеру, будто он был не наместник, а простой смертный. Спрошенный о его действиях полицией отставной полковник Раевский отписал с великолепной надменностью: «На сие имею честь Вам ответить, что я ничего дурного не мог сказать Ее Сиятельству и не понимаю, что может дать повод такой небылице. Мне весьма прискорбно, что граф Воронцов вмешивает полицию в семейные свои дела и через это дает им столь неприятную известность. Я покажу более чувства приличия не распространяясь о таком предмете». Этим ответом, ставшим достоянием публики, Раевский нанес новое оскорбление графу, оповестив целый мир о своей любовной победе и унижении соперника. Таким образом граф оказался обесчещен дважды. Конечно, он не оставил дерзость без ответа и, испытав новое унижение, добился ссылки Александра Раевского в провинциальную Полтаву под надзор полиции.
Сильно огорченный невзгодами сына старый его отец все же писал дочери из имения не без гордости: «Граф Воронцов потерял в публике жену, себя безвозвратно: все в Одессе знают всю истину».
Но судьба не щадит и Раевских. Год спустя умирает Николай Николаевич. Александр Раевский едет в родовое имение хоронить отца и экономно вести хозяйство, чтобы высылать деньги матери и сестре, уехавшим в Италию. Только через пять лет он получает разрешение снова поселиться в большом городе, без чего человеку возвышенному жизни не было. В Москве романтический страдалец Александр Раевский становится частым гостем в светском салоне богатых Киндяковых и близко сходится со звездой салона, младшей дочерью хозяина, бойкой и разговорчивой Екатериной (старшая, Елизавета, к тому времени уже была выдана за князя Лобанова-Ростовского). Екатерина привечает героя шумной одесской истории, байронического Раевского, и делает его своим конфидентом. Юная дева рассказывает зрелому герою о своей любовной неудаче. Она влюблена в Ивану Путяту, которому его матушка не позволяет на ней жениться. Раевский горячо сочувствует девичьим печалям, утешает Екатерину, дает советы старшего, обещает помощь, а в конце концов делает созревшей невесте брачное предложение. В свете отмечают, что былой соблазнитель остался верен себе. «Он взялся сватать ее за другого, – пишет в письме А.И. Тургенев, – а сам женился. История самая скандальная и перессорила пол-Москвы».
В разных домах Москвы Александр Раевский изредка встречается с Пушкиным, но поэт явно к нему охладел. Похоже, Пушкин много думал об их прежних отношениях, он посвятил всем Раевским много поэтических строк, но, отдавая должное поразившему его некогда Александру, возможно, пришел к мысли, что соперник в любви вел с ним двойную игру. Весной 1836 года Пушкин писал жене из Москвы, что снова встретил в гостях Раевского, «который прошлого раза казался мне немного приглупевшим, кажется, опять оживился и поумнел. Жена его собою не красавица – говорят очень умна». Отмечая в своих воспоминаниях живость Екатерины Раевской, московские дамы и кавалеры не считали ее внешность привлекательной. Мемуаристка Е. Сушкова отмечала, что она была небольшого росточку, не умела держать голову и имела «вздернутый нос». Тогдашний вкус предпочитал длинный нос курносому.
А судьба окончательно перестала щадить Александра Раевского. Только после пяти лет брака Екатерина смогла родить ребенка, но умерла через три недели после родов. Овдовевший Раевский всю свою любовь отдает прелестной дочери, которая, созрев, выходит замуж за графа Ностица, но вскоре, подобно матери, умирает в родах двадцати двух лет от роду. Потеряв дочь, Раевский уезжает в Ниццу и там доживает в одиночестве до 73 лет.
Он перезахоронен на кокадском Николаевском кладбище, и это, пожалуй, самая «пушкинская» могила на берегу Средиземного моря. Вопреки предсказанию Пушкина, Александр Раевский не стал «великим человеком», но перипетии его жизни, суждения его, мысли и предрассудки, черты его лица и характера так тесно связаны с жизнью и творчеством великого русского поэта, что, надеюсь, вы простите мне столь долгую остановку у этой одинокой могилы…
Тут же, неподалеку от Раевского, похоронен лейтенант французской армии и выпускник Суворовского корпуса ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ РЕПКИН (1898–1995), который несмотря на все войны прожил 97 лет. Он и родился в крепости Ивангород (Люблинской губернии), кончив Кадетский корпус, участвовал в Первой мировой войне, потом в Гражданской, в 1924 году перебрался из Германии во Францию, жил в Ницце. Сорока пяти лет от роду ушел сражаться в Тунисе в частях французской Свободной армии, дослужился до лейтенанта, а в возрасте 94 лет был награжден орденом Почетного легиона, состоял в Союзе российских кадетских корпусов…
В нынешней Ницце есть еще пяток русских магазинов и ресторанов, но их симпатичные продавцы уже не имеют того чувства посланничества, культурной миссии, которая была неизбежна у беженцев пореволюционной волны. Скажем, орловский уроженец ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ РЕТИНСКИЙ (иногда называемый также РАТИНСКИМ, 1896–1970), владевший в Ницце в послевоенные годы русским магазином и рестораном «Рысак», предоставлял свой ресторан русскому Литературно-артистическому обществу, проводившему здесь свои вечера (по большей части благотворительные), общественным и научным организациям для посиделок. И сам Павел Петрович был меценатом и филантропом (какой же ты предприниматель или вообще человек преуспевающий, если ты при этом не благотворитель).
С неменьшим увлечением и серьезностью занимались деловые люди того времени общественно-политической деятельностью. Можно помянуть похороненного здесь же на Кокаде уроженца Киева АНТОНА КАРЛОВИЧА РЖЕПЕЦКОГО (1868–1932). Он был учеый-агроном, кончал Киевский университет, земский деятель, гласный городской думы, директор-распорядитель Южно-русского общества поощрения земледелия. Он отдавал свои последние силы делам управления хозяйством, был министром финансов в правительстве гетмана Скоропадского. Спасая жизнь, он бежал, как многие, в Константинополь, оттуда в Италию, но и там не прекращал борьбы и сумел создать Итало-русское общество по снабжению армии Деникина продовольствием и обмундированием. В свободное время занимался распространением эмигрантской прессы. Умер в Ницце совсем не старым от туберкулеза.
Почти рядом с бывшим киевлянином Ржепецким покоится артистка, лирическая певица ЗОЯ АЛЕКСЕЕВНА РОМАНОВИЧ-СЛАВАТИНСКАЯ (1900–1977). Вряд ли загруженный делами министр Ржепецкий успел услышать в Киеве ее пение, но зато мог видеть на сцене ее мать – актрису ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ РОМАНОВИЧ-СЛОВАТИНСКУЮ (1874–1949), которая выступала под сценическим псевдонимом НЕГИНА в амплуа «гранд-кокет», в тридцатые годы играла в Ницце в недолговечном Русском театре, а в 1936-м выступала в спектакле «Опавшие листья». Спектакль был, как легко угадать, благотворительный, в пользу Союза русских военных инвалидов, а пьесу соорудили сами по роману генерала П. Краснова, который был в годы эмиграции очень популярным и плодовитым писателем, позднее, в 1943 году, он возглавлял казачьи войска в Германии, а в 1947-м казнен в Москве. Что до актрисы Негиной, она в то время еще преподавала сценическое искусство театральной молодежи в Ницце. Дочь ее Зоя Александровна взяла себе сценический псевдоним РАТОНА, она пела в Париже на вечерах, которые устраивало Русское артистическое общество, на благотворительных балах Тургеневского артистического общества, а в Ницце дружила с дочерью художника Филиппа Малявина и напечатала о ней воспоминания.
Раз уж мы заговорили об артистической жизни Ниццы, нельзя не помянуть замечательную семью Ростиславовых.
ЕЛИЗАВЕТА ЯКОВЛЕВНА РОСТИСЛАВОВА (урожденная АННЕНКОВА, 1896–1973) – религиозная и театральная деятельниця, воистину неутомимая. Она была членом сестричества Святой Ефросиньи при Свято-Николаевском соборе Ниццы, попечительницей района, почетной вожатой в Национальной организации витязей, участвовала чуть не во всех акциях благотворительных организаций Ниццы, проводимых то в пользу инвалидов войны, то в пользу детей-сирот, то в пользу учащихся, то в пользу бедствующих учителей, литераторов или актеров. Среди представителей последних двух категорий ее добрые дела были, можно сказать, спасительны. Она и сама была артисткой, режиссером, поэтом.
В 1951 году она организовала в Ницце русский драматический кружок, который через пять лет стал настоящей театральной труппой. И это в провинциальном французском городе, в котором нет даже постоянной французской труппы, не говоря уж о труппах многочисленных итальянцев, португальцев, алжирцев или марокканцев. Такое сообщество талантливых людей на далеком и все еще свободном краю Европы, где играли пьесы не только всемирно известных русских драматургов, но и их эмигрантских собратьев, вроде Евреинова, Тэффи, Ренникова, было спасительным для писателей и актеров (и конечно, для всей эмигрантской культуры). Деньги, собранные актерами и музыкантами, уходили в детские сады, старческие дома, школы, больницы… И в этой «художественной самодеятельности» участвовали профессионалы. Сама Елизавета была актрисой и режиссером, читала свои стихи, ее невестка ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА РОСТИСЛАВОВА (1890–1969), постоянная участница концертов, была профессиональной пианисткой, актрисой была и ИРИНА НИКОЛАЕВНА РУССОВА (урожденная баронесса МЕДЕМ, 1907–1983), и адвокатесса ЛЮБОВЬ ИОСИФОВНА САВЕЛЬЕВА, и еще и еще…
На Николаевском кладбище похоронен человек, чье имя успело приобрести шумную славу еще в Москве, задолго до эмиграции. Художникам и писателям он был знаком как капризный меценат и редактор модного журнала, европейским красавицам, имевшим счастье быть его женами (русским, француженкам, итальянке, немке…), как щедрый сумасброд, читателям русских газет как герой скандалов и один из представителей богатейшей семьи России, собирателям живописи как забавный художник-голуборозовец, но серьезным искусствоведам – как человек, который, несмотря на все свои чудачества и художественную полуграмотность, сумел вписать интересную страницу в историю русского искусства «серебряного века»… Звали этого человека НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ РЯБУШИНСКИЙ (1876–1951).
Он был единственным из восьми сыновей П.М. Рябушинского, который не захотел руководить ни семейными предприятиями, ни семейными банками, а решил забрать свою долю отцовского наследства и вести богемную жизнь, пойти, как он говорил, «по следам Дягилева» и прославленного «Мира искусства».
Для участия в организованных им художественных выставках «Алая роза», «Голубая роза», «Золотое руно», а также в роскошном литературно-художественном журнале «Золотое руно» он пригласил самых знаменитых тогдашних художников, поэтов и писателей, да он и сам что-то писал и что-то рисовал, а главное, за все платил. Гении русского «серебряного века» (А.Бенуа, Л.Бакст, Л.Андреев, А.Белый, А.Блок) с самого начала отнеслись к молодому «ухарю-меценату» с недоверием, но все же попробовали с ним сотрудничать. Как они и ожидали, он оказался малообразован и бесцеремонен, и они ушли из его журнала. Но, разругавшись почти со всеми признанными гениями, Рябушинский набрал новых, еще не признанных, вроде Бунина и Зайцева, и в конечном счете все же внес свой вклад в русскую художественную жизнь. В сущности, он имел не только деньги и вкус, но и качества умелого антрепренера и издателя.
А. Бенуа так вспоминал о Николае Рябушинском в своих мемуарах: «Считаясь баснословным богачом, он возглавлял всю московскою художественную молодежь и в своей вилле “Черный лебедь” стал устраивать какие-то удивительные пиры, а то и просто афинские ночи…» Смысл этих экзотических мероприятий разгадал уже Андрей Белый: «Рябушинский правильно рассчитал, что пышные пиры, все эти излишества, все эти ландыши и орхидеи посреди зимы укрепляют легенду о безудержной роскоши и щедрости, сопровождающих мецената…» Он, надо сказать, и сам дерзостно брался за кисть, и все, что он писал, было, по словам критика, «модернисто до умопомрачения». Впрочем, маститый И. Грабарь находил, что в этих опытах что-то есть: «Его картины такое сверхъестественное, такое потрясающее дилетантство и при этом такая окончательная и бесповоротная уверенность в своей правоте, что в конце концов, это уже не так и плохо».
Потом пришли революция и катастрофа. Предприятия Рябушинских были закрыты, банки ограблены, братья бежали, сестры погибли на Соловках. Как уцелел ненавистный режиму Николай Рябушинский, можно только гадать. Но был выпущен, открыл антикварный магазин на Елисейских Полях, где продавались уникальные, понятно где украденные предметы. Потом он расстался с очередной красавицей женой, на сей раз итальянкой, и вывез русскую. Потом денег стало поменьше, салоны пожиже, но он открывал новые время от времени. Жил он на улице Петена в Болье-сюр-Мер, писал и продавал картины, предлагал уроки живописи и реставрацию картин. В который уж раз женился на молоденькой немочке-беженке. Умирая в больнице, попросил корреспондента местной газеты передать в некрологе его последнюю благодарность всем женщинам, которых он когда-то любил и осыпал подарками…
Кроме Рябушинского, из москвичей, близких к искусству, почиет на Кокаде музыковед ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ САБАНЕЕВ (1881–1968), который родился в Москве, в семье известного зоолога, охотника и рыболова Л.П. Сабанеева. Сын ученого блестяще закончил математический факультет Московского университета, был оставлен при кафедре, защитил диссертацию и получил степень доктора математики. Надо добавить, что он заодно закончил и естественный факультет того же университета и слушал курс на историко-филологическом факультете. Он читал лекции по математике на Высших курсах университета, где имел звание приват-доцента, а с 1918 года и профессора. Были у него и печатные труды по математике и зоологии. В общем, как вы уже поняли, он любил не только учиться, но и учить. И первый его печатный труд был вполне научный, но не о математике и не о зоологии там шла речь, а об искусстве – синтетическом искусстве. Самая же серьезная его монография была посвящена творчеству композитора Скрябина. Это вас не должно нисколько удивлять: Л.Л. Сабанеев был профессиональный музыковед, музыкант и композитор, окончил Московскую консерваторию по классам фортепьяно и композиции (у С. Танеева), написал много книг об истории музыки, о ритме, о композиторе Дебюсси. Собственные музыкальные произведения Сабанеева начали появляться в 1902 году. С тех пор он писал сонаты и кантаты, симфонические поэмы, балеты, да еще и тридцать лет спустя все еще сочинял музыку для кинофильмов. До середины 20-x годов Сабанеев был видным музыкальным деятелем в России – возглавлял ученый совет Государственного института музыкальных наук, музыкальную секцию Академии художеств, был президентом Ассоциации современной музыки. Но как и многие русские интеллигенты, к середине двадцатых он почувствовал, что никакое, даже самое отвлеченное теоретизирование при новой власти безнаказанно с рук не сойдет, и в 1926-м эмигрировал, благо еще была у него возможность «уехать в заграничную командировку». В 1927 году, когда его утвердили в Москве «наркомом по просвещению», он уже осел в Париже и, конечно, не думал возвращаться на небезопасную родину. После этого было добрых сорок лет эмигрантской жизни, из них тридцать пять в Ницце. Сабанеев писал музыку, статьи и книги, написал балет «Авиатриса» для Театра Елисейских Полей, музыку для фильмов, снятых на студиях «Гомон» и «Викторина». Много писал о Скрябине… Его книга «Воспоминания о России» вышла наконец в Москве лет десять тому назад.
Вот и еще одна вполне громкая и на курортном французском берегу и в кругу российских историков фамилия – Свечин. Впрочем, на Кокаде полдюжины Свечиных (не считая жен): два генерал-лейтенанта, один адмирал, один посол, один тайный советник, один архитектор…
Чуть-чуть не доживший до 93-летнего возраста генерал-лейтенант МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ СВЕЧИН (1876–1969) родился в генеральской семье, воспитывался во Втором кадетском корпусе, в Николаевском кавалерийском училище, кончил Николаевскую академию Генерального штаба и выпущен был корнетом в лейб-гвардии Кирасирский полк. Вскоре ему и случай представился отличиться, потому что началась Русско-японская война, на которой он заслужил пять орденов и золотое оружие. В Первую мировую войну вступил уже полковником, командовал драгунским полком, произведен был в генерал-майоры, командовал дивизией, потом кавалерийским корпусом, но тут революция, а за ней Октябрьский переворот. Переодевшись в солдатскую форму, генерал добрался к белым на юг. Между прочим, в то же самое время младший брат Александр, который прошел те же этапы военной службы и был генералом, перешел на службу в Красную армию.
А между тем Михаил Свечин выполнил очень деликатное задание казачьего генерала П. Краснова, который послал его в Киев к гетману Скоропадскому, чтобы раздобыть оружие с тамошних складов. С киевской миссией Свечин успешно справился, и генерал Краснов отправил его по возвращении на мирную конференцию в Париж. На конференцию посланцев Дона не пустили, но в отличие от своего спутника, мирно оставшегося в Париже, упорный Свечин вернулся воевать и только в 1920-м эвакуировался из Новороссийска. Добравшись до Европы, жил он сперва в Сербии, потом в Германии, наконец, осел в Париже, устроился в банк счетоводом, кормил семью. А в 1926 году банк его перевели в Ниццу, где Свечин и остался до конца жизни. Конечно, у него и кроме банковских занятий хватало важных дел. В 1930 году он создал в Ницце отделение Союза военных инвалидов и долгие годы был его председателем. Тогда же он возглавил здешнее отделение Русского общевоинского союза (знаменитый РОВС, который так беспокоил московские разведслужбы, что они упорно похищали его руководителей и успешно вербовали к себе на службу тщеславных военачальников из его парижского штаба). М.А. Свечин был активным участником многих других общественных мероприятий на Лазурном Берегу, и упоминание об одном из них можно найти в дневниковых записях писателя Ивана Бунина.
В начале июля 1941 года Галина Кузнецова и Марга Степун, жившие на вилле, снимаемой Буниным в Грассе, поехали в Канны, где проходило собрание эмигрантов, посвященное страшному событию – немецкие войска перешли границу Советского Союза. Вот бунинская дневниковая запись за 13 июля: «М. и Г. были на “Казбеке”. Генер. Свечин говорил, что многие из Общевоинского Союза предложили себя на службу в окуп. немцами места в России. Народу – полно. Страстн. аплодисм. при словах о гибели большевиков». Генерал Михаил Свечин прожил в Ницце после войны еще четверть века.
Его московский брат, советский комдив Александр Свечин был расстрелян еще в 1938-м. Он был уже к тому времени крупным деятелем военной науки, преподавал в Академии Генерального штаба Красной армии, написал множество книг, в том числе классический труд «Стратегия». Правда, его теория оборонительной стратегии не всем нравилась в высших эшелонах армии и власти. Она определенно не нравилась стороннику наступательной стратегии маршалу Тухачевскому. Может, не нравилась она и величайшему полководцу всех времен и народов т. Сталину. Но скорей всего, он не стал ломать себе голову над тонкостями научного спора военспецов, а просто поставил к стенке всех этих умников.
На Кокаде похоронен один из самых старых в эмиграции представителей княжеского рода Семеновых-Тянь-Шанских князь НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ СЕМЕНОВ-ТЯНЬ-ШАНСКИЙ (1887–1974). Он родился в Петербурге в семье чиновника, окончил Морской корпус, в мирное время плавал на эсминце и на императорской яхте «Штандарт», прогуливал императора, а в Первую мировую и Гражданскую войну воевал на Северном фронте до самого 1920 года, дослужился до звания старшего лейтенанта гвардейского флотского экипажа. Еще в 1915-м лейтенант отдельного батальона Н.Д. Семенов-Тянь-Шанский награжден был орденом Св. Анны за разведку позиций противника, в 1917 году оборонял Кольский залив, потом был вахтенным начальником на крейсере «Варяг», и вот эвакуация… Женат был князь на Нине Петровне (1900–1975), дочери известного банкира Петра Львовича Барка (1869–1937), который был последним российским министром финансов, завершившим свою жизнь на юге Франции близ Обани. Дочь его с мужем в первые годы изгнания оставались вместе с ним в Лондоне, где Нина Петровна завершила свое образование в Оксфордском университете, потом вся семья перебралась в Обань, где моряк-гвардеец князь Семенов-Тянь-Шанский по примеру многих бывших офицеров основал ферму и занимался свиноводством – настолько успешно, что удостоился первого приза на конкурсе свиноводов. Вся семья занималась благотворительностью и активно помогала церкви. Сам моряк с первых дней изгнания молился в небольшой походной церкви, которую расписал и подарил ему замечательный религиозный художник Дмитрий Стеллецкий (тот самый, что расписывал парижскую церковь Святого Сергия). Вместе с женой и ее родителями Николай Дмитриевич участвовал в создании нового православного храма для эмигрантов, а Нина Петровна преподавала в созданной ею приходской школе при марсельской церкви Святого Георгия Победоносца. Николай Дмитриевич помогал в делах трудостройства собратьям по эмиграции и активно участвовал в деятельности Союза дворян, а также Гвардейского экипажа, Суда чести Морского собрания, Кают-компании морских офицеров, Союза ревнителей памяти императора Николая II… И как многие ветераны, писал князь статьи и воспоминания – o П.А.Столыпине, о государе императоре, о своем тесте П.Л. Барке. Он скончался на 87-м году жизни и был похоронен на православном Кокаде. Супруга последовала за ним год спустя.
Вот еще один русский моряк, унтер-офицер АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ СЕРБИН (1898–1968). Он воевал на Первой мировой и на Гражданской, эвакуировался в Тунис, в Бизерту на канонерской лодке «Страж». Опытному судовому электрику и в Тунисе нашлась работа. При этом он никогда не забывал о бедствующих собратьях-эмигрантах, всем готов был помочь. Жена его ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА СЕРБИНА (1896–1984) преподавала в Четверговой школе при церкви в Тунисе музыку и русский язык. Позднее, уже переехав в Ниццу, супруги Сербины не забывали высылать отложенные деньги в Тунис на постройку русской церкви Воскресения Христова. А в тяжкие для России годы Второй мировой войны Француский комитет национального освобождения в Тунисе собирал деньги для помощи Красной армии и обратился к русскому электрику. И безотказный Сербин, конечно, щедро откликнулся, за что в 1944 году получил от упомянутого комитета благодарность. Супруга Алексея Ивановича, пианистка и педагог Е.Г. Сербина на восемь лет пережила мужа и доживала свой век в Русском доме Красного Креста в Ницце (мне еще довелось беседовать с ней в уютном дворике на улице Каварадосси), в свой срок она была похоронена рядом с мужем на Кокаде.
Среди захоронений выдающихся людей искусства и редких профессий, похороненных на Кокаде, привлекает внимание могила ЛАВРЕНТИЯ АВКСЕНЬЕВИЧА СЕРЯКОВА (1824–1881), гравера Его Величества Императорской Академии художеств. Как свидетельствуют документы, будущий гравер-академик «происходил из зажиточного крестьянского семейства <…> принадлежащего помещику Матвееву <…> а родился между Белевом Тульской губ. и Жиздрой Калужской губ., во время передвижения 3-го карабинерного полка Гренадерского корпуса, при котором отец его, отданный в солдаты из сидельцев железной лавки за разгульную жизнь, состоял слесарем». И вот при таком скромном происхождении такая необычная судьба! Главное событие художественной жизни гравера произошло в 1866 году, когда гофмейстер граф Стейнбок «востребовал у Государя о Высочайшем дозволении академику Серякову выгравировать на дереве новейший фотографический портрет Его Величества для распространении оного в России, по ценам сколь возможно доступным для простого народа». 19 ноября того же года «академик Серяков приступил к исполнению дозволенной ему работы…» Граф высоко отозвался о результате:
Столь замечательное произведение это, с уверенностью можно сказать, поставившее Серякова одним из первых граверов на дереве и здесь и за границей, как достигнувшего совершенства по сей отрасли искусства, – обязывает меня всепокорнейше просить <…> представить на Высочайшее рассмотрение прилагаемые при сем три экземпляра гравированных портретов Государя Императора…
Государь одобрил поднесенный портрет и пожаловал Серякову «звание гравера Его Императорского Величества <…> с причислением к Императорскому Эрмитажу…». В июле 1876 года Серяков с женой и малролетним сыном уехал в Ниццу, где и скончался всего лет пять спустя.
На кладбище Кокад покоится прах человека, именем которого названы один остров в Карском море, другой в Японском, знаменитый пароход, погибший в войну, знаменитейший орденоносный ледокол, университет в Сибири, да много еще чего в России по справедливости можно было бы назвать его именем. Отчего ж такой неожиданностью была для меня встреча с его могилой на Кокаде и прочитанный в переводе со шведского грустный отрывочек из газеты? И отчего все же так мало знал я о нем, когда проплывал мимо его острова в Енисейском заливе, стоял на руле, держа в корму ледоколу его имени, когда рылся в книгах бывшей библиотеки В.А. Жуковского в стенах им затеянного Томского университета, когда гулял по его родному городу Иркутску? Случайным ли было это мое неведенье? Или здесь еще один маленький секрет нашего высшего образования и высочайшего моего недообразования?
Но вот она, эта бывшая многие десятилетия минувшего века забытой могила: АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ СИБИРЯКОВ (1849–1933), уроженец и фанатик Сибири, золотопромышленник, неутомимый путешественник, герой, исследователь, щедрый меценат, филантроп, созидатель, строитель дорог, этнограф, писатель… Кто еще? И где они еще водятся, такие люди, в каких уголках земли?
Три удивительных брата Сибиряковы – Александр, Иннокентий и Константин – родились в старинной и очень богатой сибирской семье: мать была из знаменитой купеческой семьи Трапезниковых, а отец Михаил Александрович Сибиряков был совладельцем одного из крупнейших в Сибири золотодобывающих предприятий, крупного пароходства и многого чего еще. Известен здесь был Афанасий Сибиряков, архангелогородский, из Устюжского уезда. В Иркутске первый городской голова был Михаил Васильевич Сибиряков, считают, что иркутский Белый дом проектировал для него сам Джакомо Кваренги.
Михаил Александрович после себя оставил огромное состояние, и сыновьям его, получившим современное образование, а главное – вполне духовное воспитание, нужно было думать о том, что можно доброго на такие деньги сделать – для других людей, и для России, и для милой своей «малой родины» (огромнейшей и малоразвитой). Так что не все братья поступили в соответствии со своими понятиями и семейной традицией (уже и родители, и деды занимались благотворительностью, были почетными гражданами Иркутска). Щедрость их и энергия при совершении добрых дел были поразительны, а младший, Иннокентий, и вовсе, все отдав, завершил свою короткую жизнь схимонахом, успев достроить в конце великолепный храм на греческом Афоне, где принял постриг…
Старший из сыновей Александр (на чью могилу на Кокаде любой сибиряк, попавший в Ниццу, думаю, принесет цветок) больше четверти века своей жизни всю свою энергию, которой хватило до начала XX века, когда он покинул родину, и огромное состояние употребил на пользу возлюбленной своей Сибири. Край был не только необустроен, но еще и не изучен.
В 1875 году, спустя год после смерти отца, старшие братья поделили наследство, назначили младшим опекунов. Александру было всего 25 лет, когда он познакомился с шведским геологом и полярным исследователем Нильсом Норденшельдом. Норденшельд, уже член академии, знаток Шпицбергена, почти на два десятка лет старше молодого энтузиаста из Иркутска, с интересом его расспрашивал о загадочной Сибири. Александр нашел своего героя. Уже тогда он передал Норденшельду 345 000 рублей для исследования северного берега. Норденшельд стал готовиться к знаменитому переходу. Деньги давали шведский король, предприниматель Диксон, но 40 % суммы выложил из своего кармана Александр Сибиряков. Дальше были бесконечные траты, неудачи, спасательные операции. Кроме главного судна («Веги»), построена была в Швеции «Лена» (которая потом бесконечно таскала грузы по сибирским рекам). Норденшельд первым двинулся из Атлантики в Тихий океан по Северному морскому пути.
Не дойдя ста миль до Берингова пролива, он встал на стоянку на добрых десять месяцев. Обеспокоенный Сибиряков послал на спасение экспедиции пароход «Норденшельд», но тот потерпел крушение. Тогда сам Сибиряков попытался пройти в устье Енисея… Когда суда вмерзли в лед, он добрался на оленях с ненцами до Салехарда. А Норденшельд все-таки достиг цели…
На входе в Енисейский залив Норденшельд назвал остров, как он писал, «по имени горячего и великодушного организатора сибирских экспедиций…». Есть остров имени Сибирякова и в Японском море.
К 1883 году затраты Сибирякова на изучение и освоение Сибири достигли полутора миллионов тогдашних рублей. Он оплачивал полярные экспедиции, помогал и русскому, и французскому Географическому обществу. В Сибири тогда не было ни одного университета, и Александр Сибиряков сразу дал на строительство Томского университета 200 000 рублей. Он купил для университета библиотеку В.А. Жуковского и без конца придумывал, что бы ему еще подарить. Все же первый университет в Сибири. Подарил скульптуру Антокольского, полотна Айвазовского…
В 1878-м он напечатал в Петербурге свой первый «Очерк из забайкальской жизни». Позднее издал в Тобольске статью «К вопросу о внешних рынках Сибири», еще не раз печатался, а в 1907-м издал самый солидный свой труд «О путях сообщения Сибири и морских сношений ее с другими странами», к которому мы еще обратимся.
А пока, подходя в нашем рассказе к новому, вполне несчастливому XX веку, в начале которого и завершил свою лихорадочную деятельность и беспримерные траты на пользу родине Александр Сибиряков, отметим, что неустанные гуманитарные усилия его были все-таки отмечены благодарным человечеством. Родной город Иркутск сделал его своим почетным гражданином. Этой чести был за многие свои дела удостоен еще его папенька. Но Александр пошел дальше. Он был избран также почетным членом северополярного общества немецкого города Бремена, членом научного и литературного общества города Гетеборга, почетным членом Шведского общества антропологии и географии, награжден шведским орденом Полярной звезды, французским орденом «Пальмовая ветвь». Но вот и родина наградила героя-полярника, покорителя Русского Севера орденом Святого Владимира 3-й степени. Не густо. За столь долгую службу любой отодвигатель стульев за дворцовым ужином (церемониймейстер, шталмейстер, гофмейстер, егермейстер…) получил бы уже полдюжины орденов.
Александр Сибиряков уехал из России. Жил в Париже и Ницце, наезжал в знакомый с юности Цюрих… А в мире между тем происходили катастрофы.
Европейская бойня, русская революция, большевистский путч. Постаревший герой Сибири остался безо всяких средств. В 1921 году председатель Шведского географического общества профессор Хессельман рассказывал про то, с каким трудом он разыскал в Ницце нищего старика и сообщил ему, что Швеция в отличие от давно забывшей его России помнит о заслугах Сибирякова. Что король и риксдаг постановили назначить ему пожизненную пенсию.
Отшумела Первая мировая, Гражданская, где-то вдали от Ниццы, по которой бродил обтрепанный шведский пенсионер, почетный гражданин городов и член научных обществ, совершались великие переселения народов. На родину старика, в Сибирь, шли эшелоны с недобитыми, но снова закрепощенными крестьянами из Украины и Центральной России. Но газеты, попадавшие в Ниццу, не писали об этих глупостях. Газеты писали о сказочных успехах Советской России. Вот уже ледокол «Александр Сибиряков» пробивается через льды. Он совершил ЗА ОДНУ НАВИГАЦИЮ сквозное плаванье Северо-восточным морским путем из Архангельска и дальше, дальше, дальше – через Берингов пролив… Газеты всего мира сообщили в те дни, что сам товарищ Сталин, наградил ледокол «Сибиряков» орденом Трудового Красного Знамени. От имени ледокола орден получил капитан Воронин. Живут же люди!
А где сам герой Сибиряков, известный полярный исследователь, чье имя носит известный ледокол. О, героя давно нет! А может, и не было. Правдивые корреспонденты могут подтвердить. Сам товарищ Эренбург может подтвердить. Был такой исследователь, но давно умер…
А он и вправду умер. Умер в Ницце в ноябре 1933 года в больнице имени Пастера. Хоронили его на Кокаде трое шведов и одна добрая дама из Ниццы, о чем корреспондент газеты «Свенска дагбладет» с чувством сообщал в номере за 8 ноября:
Это были странные похороны. Около небольшой белой часовни на русском кладбище, расположенном на красивом пригорке над Ниццей, пришедшие переглянулись – никого, кроме них четверых, на похоронах не было. Присутствовали шведский консул в Ницце Бергтрем, директор бюро путешествий «Ле Нордиск вояж» Парссон, хозяйка гостиницы, где жил умерший, и ваш покорный слуга, корреспондент газеты «Свенска дагбладет». Они молча стояли под ослепительным солнцем и ждали. Но в конце концов поняли, что ни один из 50 000 соотечественников усопшего на Ривьере не пожелал обеспокоить себя появлением на похоронах. Шестеро немолодых мужчин в серых блузах подняли некрашеный гроб и понесли вверх по склону. Пожилой русский священник расстелил над гробом потрепанное покрывало с желто-голубой вышивкой, шведский консул положил в изголовье венок с желто-голубой лентой. Священник, улыбаясь, поблагодарил четверых пришедших на похороны. Хозяйка гостиницы со слезами на глазах спросила, что же пожилой русский сделал плохого, раз соотечественники его забыли. Консул ответил, что он ничего плохого не сделал, но с годами стал одиноким и больным, а был одним из самых богатых людей в своей стране.
Вот такое появилось описание в шведской газете 8 ноября 1933 года, и если не считать по небрежности преувеличенного (ровно в десять раз) числа русских беженцев на Ривьере и вполне небрежного перевода с шведского, который наконец появился в русской печати с опозданием на 76 лет, все так и происходило. Могилка великого сибирского мецената и исследователя простояла на Кокаде одинокой и заброшенной все эти 76 лет. Но теперь-то уж заметку эту прочли члены «Общества схимонаха Иннокентия Сибирякова» и пришли в ужас и изумление. Два слова об этом небольшом религиозном обществе. Имя младшего брата Александра Сибирякова бесконечно щедрого и набожного Иннокентия Сибирякова, совсем молодым угасшего в греческом Афоне, окружено легендами и ореолом святости. Этот человек щедро раздавал деньги, откликаясь на любую просьбу. Он словно хотел избавиться от гнета богатства, жертвовал на религиозное строительство, на просвещение, на культуру, на медицину. Он не раз говорил, что его стесняют эти им не заработанные деньги. Высказывание небезопасное. Небезопасным было и то, что он раздавал деньги, не требуя у просящих справку из полиции о благонадежности. Этим он тоже навлек на себя неприятности (подобно Савве Морозову, который поплатился за былые щедроты жизнью). Недовольство проявляли не только власти, но и некоторые из родственников, которым больно было видеть, как утекают семейные деньги. Эти люди попытались даже объявить Иннокентия душевнобольным и потребовали врачебной экспертизы. Но психиатры подтвердили, что молодой человек здоров. Иннокентий отказался от денег, которые росли у него на счетах быстрее, чем он успевал тратить, и постригся в монахи, решив стать схимником. Эта вполне недавняя история привлекла симпатии группы верующих, которые и создали Общество схимонаха Иннокентия Сибирякова. Прочитав старую заметку о всеми забытом старшем брате Иннокентия, деятельном Александре, члены общества были так удивлены, что отправились в Ниццу искать могилу. И могилу на Кокаде нашли. Более того, в местном загсе они нашли похоронные документы, выписанные на какого-то безответного и давно покинувшего наш мир французского шофера. Теперь уж, дождавшись очередной (76-й) годовщины до дня смерти Александра Сибирякова, благородного брата святого Иннокентия (он был признан «святым местного уровня»), члены общества совершили поездку на могилу великого полярника, возложили венки и отслужили на Кокаде поминальную литию. Атмосфера была торжественная, и все же не умолкали и после этого споры о странном поведении старшего Сибирякова в те годы молчания. Весь мир шумел о ледоколе его имени, а в его сторону никто и не взглянул… Некоторые члены Общества схимонаха Иннокентия объясняли это молчание особой скромностью престарелого Александра. Другие просто пожимали плечами. Я тоже был немало удивлен, когда обнаружил в одну из своих поездок на Кокад, что похоронен здесь тот самый великий Сибиряков. Тогда и подумалось мне, что должна быть у этого странного умолчания причина, которая закопана не слишком глубоко, и каждый, имеющий доступ к документам или просто компьютер, сможет ее обнаружить.
Самое рождение в Иркутске будущего горячего патриота Сибири Александра Сибирякова почти совпало по времени с появлением кружка студентов-сибиряков в Петербурге. Так зародилось еще одно так называемое освободительное движение, позднее затихшее, но не уверен, что себя исчерпавшее. Его называли «областническим», «автономистским» и уж совсем страшно – «сепаратистским». В самой радикальной форме это было движение против «великой и неделимой России», в более умеренной – за автономию. Молодые участники этого движения (самыми заметными в нем были Григорий Потанин и Николай Ядринцев, одно время близкие к народникам) упрекали российскую власть в том, что она рассматривает огромную многонациональную Сибирь как отсталую, бесправную колонию Центральной России, недостойную собственного слова в развитии ее гражданского общества, культуры, проведении внутренней и внешней политики, воспитании своей интеллигенции… Понятно, что учителей свободы в то время у сибирских свободолюбцев, попавших в бурлящую Европу, было предостаточно и своих, и зарубержных (от Герцена и Чернышевского до самого что ни на есть Карла Маркса). Но понятно и то, что это движение патриотов Сибири и сторонников превращения родного края в современную, цивилизованную страну со своей общественной и культурной жизнью было, с точки зрения государственных, то есть «истинных», патриотов, чем-то вроде сепаратизма, а стало быть, некоего диссидентства. И тогдашняя петербургская власть, и несравненно более крутая и жестокая большевистская никакого сепаратизма на дух не переносили, даже старались не упоминать о нем. Так что поразившая последователей его младшего брата «исключительная скромность» сибирского диссидента Сибирякова тут была ни при чем.
Вернувшись недавно к главной книге Александра Сибирякова, вышедшей в Петербурге в 1907 году, я нашел там чуть не все главные идеи «автономистов» и все главные их претензии к петербургской власти. Там говорится о колониальной политике, проводимой центральной властью в Сибири, об эксплуатации и разрушениии обобранного края, о превращении прекрасной, своеобразной страны в место каторги, о нуждах сибирского образования. Даже намек на возможность другой судьбы для Сибири тут есть: взгляните, как преобразилась Аляска, попав в другие руки. Конечно же братья Сибиряковы читали труды Потанина и Ядринцева (в заглавии одной из книг которого напрямую сказано, что Сибирь – русская колония). Кстати, оба основателя сибирского «областничества» были в восторге от американской независимости, от федерального американского устройства…
Что касается Иннокентия Сибирякова, то он щедро поддерживал деньгами лидеров сибирского «автономизма», которым пришлось пережить нелегкие годы. В 1865 году они были арестованы и сосланы, потом пережили позор гражданской казни и снова были сосланы. Впрочем, довольно скоро они вышли на свободу и долго еще продолжали путешествовать, писать очерки, печататься, исследовать Сибирь. Оба стали учеными, а Потанин даже пережил волнующий момент, возглавляя в 1918 году недолговечную Сибирскую республику. Оба лидера вошли в энциклопедии советского времени, но ни слова о коварном сепаратизме и сибирских волнениях вы там не найдете. Новое, советское умолчание было профессиональней прежнего: к власти пришли профессиональные нелегалы и террористы.
Один из самых ушлых террористов стал полпредом России во Франции, так что в Париже у него уже было «все схвачено». Но и в Ницце старику Александру Сибирякову лучше было затаиться. Время было страшное. Напомню, что в тридцатые годы не только воспевали подвиги ледокола «Сибиряков», но и подстрелили ни в чем не повинного французского президента. Подстрелил «сумасшедший» эмигрант-казак, вернувшийся из своей странноватой поездки в Москву. В Ницце тогда сумасшедших тоже было достаточно, и восьмидесятитрехлетний герой России, звезда покорения Севморпути и вполне нормальный «автономист» знал, что ему лучше не высовываться. Думаю, что он был прав.
Совсем неподалеку от Александра Сибирякова покоится на Кокаде граф СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СТРОГАНОВ (1852–1923). На человеке, лежащем в этой скромной могиле, кончается знаменитейший и богатейший (один из первых в империи по богатству) аристократический род Строгановых, но известность этого имени долго будет жить в любом кругу образованных людей России или, скажем, гурманов всех стран. Широко известны строгановское направление иконописи, строгановская школа лицевого шитья, строгановский дух московского барокко, завидное художественно-промышленное училище. А как светлеют лица во всемирном застолье при звуке этого чисто русского сочетания слов: «беф-строганов», что в переводе означает «мясо по-строгановски». (Наши-то столовские румяные кассирши времен моей ненасытной младости говаривали: «Мужик, передай по очереди, пусть не стоят, бистроганы кончились».)
Родился Сергей Александрович в середине позапрошлого века в Петербурге, в семье флигель-адъютанта Его Императорского Величества, егермейстера и богатейшего в России человека графа Александра Сергеевича Строганова и его жены Татьяны Дмитриевны (урожденной княжны Васильчиковой). Через два дня младенец был крещен, и воспреемником новорожденного был лично император Николай Павлович. Детство юный граф провел в одном из знаменитых строгановских поместий, нет, не в Марьине, не на Строгановской даче, не в петербургском Строгановском дворце, который проектировали Растрелли, Воронихин и другие гении, а в имении Волошинове (близ Порхова).
История рода Строгановых (вышедших из поморских крестьян) – это четыреста лет развития русской промышленности, приращения земель, земледелия, финансов, политики… Последний граф Строганов сперва учился дома, потом успешно сдал в Петербурге все экзамены за курс гимназии, так же успешно закончил юридический факультет университета и получил степень кандидата, а вдобавок кончил Морской корпус и двадцати пяти лет от роду произведен был по экзамену в гардемарины. Каких только воинов, каких только генералов не было в истории Строгановых, но моряком был только последний в роду, тот самый граф Сергей Александрович, что покоится на Николаевском кладбище Кокада. Свой офицерский чин он получил год спустя, причем не вполне тривиальным путем: совершил на собственной яхте «Заря» заокеанское плавание в Филадельфию, время которого было засчитано как время службы. Яхта проследовала из Портсмута в Гавр, затем на остров Мадера, дальше к американскому берегу и обратно, в Шербур.
Он вообще был неутомимый путешественник, посетил многие страны Ближнего и Дальнего Востока, иногда путешествовал в обществе своей сестры Ольги (издавшей описание их путешествий), ее мужа князя Щербатова или князей Голициных.
А в 1877 году гардемарин Строганов вместе с двумя собственными миноносными катерами поступил в распоряжение приморской обороны Одессы и осенью того же года, во время последней русско-турецкой войны, «участвовал в постановке мин под ружейным и картечным огнем» возле турецкого Сулина. «За отличие в деле» граф произведен был в мичманы, позднее в лейтенанты и награжден Георгиевским крестом за храбрость. Еще в 1878 году он был «уволен для службы на коммерческих судах с зачислением по флоту». Участвовал в создании Добровольческого флота, имел собственные пароходы на Волге.
Тридцати лет от роду лейтенант Сергей Строганов женился на девятнадцатилетней княжне Евгении Васильчиковой, родной сестре своего друга детства Бориса Васильчикова. Молодые поселились в дедовском Волышове Пензенской губернии, среди бесчисленных цветов и кустарников, для местных жителей построил школу, амбулаторию, больницу. Он был полон планов по усовершенствованию своей «Волышовской экономии», своих конюшен, разведению породистых лошадей для охоты, умножения речного флота. Активно участвовал в делах земства, помогал строить дороги, открыть в Пскове реальное училище, избирался в земский суд, был щедрый меценат. И.И. Грезин приводит в своей книге о кладбище Кокад довольно впечатляющий отчет об имуществе (движимом и недвижимом) молодого графа Строганова на год женитьбы:
…в С.-Петербурге четыре каменных дома, в С.-Петербургском уезде мыза Мандурова… В Нижнем Новгороде два каменные дома, пустопорожние места и соляные магазины; в Балахнинском уезде зеленые угодья, шесть железоделательных заводов, два чугуноплавильных <…> соляные варницы и золотые промыслы при Билибинском заводе <…> усадебных, пашенных, лесных дач и прочих угодий <…> 1 708 489 дес. <…> по общему соглашению наследователей оценено в 11 млн руб. сер.
От родительницы его, усадьбище Воронцово <…> 16 247 дес. и чересполосного леса 1647 дес. Таврической губ. Ялтинского уезда в пяти участках, засаженных виноградниками с караульным домом 33 дес.
Это все унаследованное, а было и благоприобретенное – с водяною мельницею, промысловыми заведениями и фабрикой, при них земельных угодий 7819 дес.
Да еще за женой было дано родовое: Воронежской губ. село Нижний Кислой и сахарный свекловичный завод, земельных угодий 6654 дес….
Поскольку не вполне серьезное наблюдение, что «не в деньгах счастье», повсеместно в мире оспаривается, можно заключить, что у Строгановых в их цветочном раю было, можно сказать, все для большого счастья милой юной княжны и ее мужа, моряка и героя. Однако судьба судила иначе.
Через два года после замужества юная графиня умерла от родов. Еще два года граф горевал, оставаясь в опустевшем дедовском поместье, строил часовню в памятъ о жене. Спасали главные его увлечения – oхота, чистопородные лошади, охотничьи собаки, в которых он знал толк. Спутниками его по охоте были великий кмязь Николай Николаевич Младший, князья П.П. Голицын и Б.А. Васильчиков. Вместе они затеяли издание журнала «Охота», создали Общество поощрения полевых достоинств охотничьих собак. Не довольствуясь своими усадебными конюшнями, граф С.А. Строганов основал в шести километрах от Пятигорска еще один завод разведения чистокровных арабских лошадей. Как ни удивительно, и «Графский хутор» и «Терский завод», устроенные Строгановым, существуют до сих пор, хотя завод переживает большие трудности.
Понятно, что овдовевший граф Сергей Александрович, состоявший членом Императорского яхт-клуба, путешествовал теперь еще больше, чем раньше. Он плавал на своей яхте на Антильские острова, потом с сестрой и ее мужем в Месопотамию. По возвращении они вместе выпустили «Книгу об арабской лошади».
Строгановский дворец в Петербурге граф предоставляет для проведения художественных выставок, хлопочет о внутренней сохранности бесценного интерьера, о передаче дворца музею и вообще озабочен «нераздельностью» имения Строгановых. После беспокойного 1905 года граф все больше времени проводит в Париже и в Ницце, все реже бывает в России. Но он издали следит за нуждами крестьян своей «экономии» и за обороноспособностью родного флота. Он покупает германский пароход, перестраивает его в аэростатоносец «Русь», потом продает и деньги дарит Морскому министерству России, завещая употребить их «на премии для нижних чинов за сочинения на исторические и бытовые темы военно-воспитательного и военно-образовательного характера и на издание этих сочинений». Но похоже, уже никакие произведения военно-воспитательного характера российскому флоту и армии помочь не могли. Нижними чинами овладевали иные идеи…
Во время Русско-японской войны он дарит русскому флоту свои военные катера. Из-за рубежа принимает меры для «нераздельной» продажи империи Строгановых. В годы Первой мировой войны граф женится вторично – на сорокалетней Генриетте Лельез. Она пережила его почти на сорок лет. Детей у них не было. В 1923 году, со смертью графа, угас род великих Строгановых.
Сообщают, что в последний приезд граф передал ключи от Строгановского дворца наркому Луначарскому – на культурные нужды. Может, такой спектакль и имел место. Хотя для «экспроприации экспроприаторов» большевикам не нужны были ключи.
На Кокаде похоронены такие крупные царедворцы и администраторы, которые успели занимать до изгнания высочайшие посты и чья грудь была украшена чуть не всеми высокими орденами Российской империи и самых разнообразных стран. Таким был действительный статский советник ПЕТР ПЕТРОВИЧ СТРЕМОУХОВ (1865–1951), воспитанник Пажеского корпуса, двадцати лет произведенный в лейб-гвардии подпоручики Егерского полка. С тех пор он служил на самых разнообразных должностях и выполнял самые ответственные поручения при высоких лицах, скажем, при варшавском генерал-губернаторе, да и самому ему довелось побывать последним российским губернатором в Варшаве. В промежутке он послужил саратовским и костромским губернатором, имел ордена Св. Станислава (даже двух степеней), Св. Анны (двух степеней), персидский орден Льва и Солнца, сиамский орден Белого слона, орден Св. Владимира, орден князя Даниила Черногорского и еще, и еще, и еще…
Поручений и поощрений, судя по приводимому И.И. Грезиным «формулярному списку о службе», было великое множество. Скажем, было ему «поручено наблюдение за фребелевскими заведениями в гор. Варшаве» (это по части дошкольного воспитания), «познакомиться с состоянием русской библиотеки в Варшаве, принадлежащей вдове полковника Нарцевой», «произвести подробное расследование обстоятельств смерти душевнобольного жителя г. Варшавы Ивана Зелинского»; Петр Петрович был «командирован в г. Лодзь для ознакомления на месте с условиями постройки обводной дороги и трамвая», «назначен членом особой комиссии, образованной для рассмотрения тех изменений, кои окажутся необходимыми в правилах по учету лошадей в губерниях Царства Польского», «назначен членом комиссии, учрежденной для рассмотрения вопросов, касающихся деятельности различных учреждений гражданского ведомства в районе Варшавского военного округа, в случае войны и для выработки на этот случай соответствующей инструкции».
В 1913 году, когда он вступил в должность егермейстера двора, получил похвалу за организаторские способности: «Государь Император соизволил на объявление Высочайшей благодарности за образцовый порядок во время посещения Их И.В. города Костромы и Костромской губ. по случаю торжеств празднования 300-летия Царствования Дома Романовых». Вся эта благость не могла не припомниться Петру Петровичу через четыре года, когда пришлось ему бежать на Кавказ и в Астраханский край, где он стал помощником генерала Деникина. В 1920-м он был уже в Константинополе, потом служил в библиотеке в Болгарии, откуда перебрался в Югославию, в 1927-м добрался до Парижа, где пристроился кассиром в ресторане, а по вечерам еще подрабатывал перепечаткой на машинке… А все же не вовсе утратил Петр Петрович авторитета и жара общественного, был секретарем Общества защиты собственности русских эмигрантов, членом Союза ревнителей памяти императора Николая II, состоял в Объединении лейб-егерей, читал лекции в Кружке молодежи по изучению русской культуры, а последние годы жизни провел в Русском доме Красного Креста в Ницце, где много писал, вспоминая о своей службе, о последнем русском императоре, печатал очерки в журнале «Россия» и «Казачьем журнале».
Похоронена здесь и замечательная русская оперная певица ЕЛЕНА ИОСИФОВНА ТЕРЬЯН-КОРГАНОВА (1864–1937). При рождении в родном Тифлисе звалась она Эгинэ Овсеновна Терьян-Корганян. Начинала она шумную карьеру двадцати лет от роду с партии Розины в «Севильском цирюльнике» на сцене петербургской Итальянской оперы. Потом пела чуть не во всех больших театрах Европы, а в России пользовалась уважением многочисленных учеников. Знали студенты и в Петербургской консерватории и в Музыкально-драматическом училище Московского филармонического общества, что почтенный профессор Терьян-Корганова совершенствовалась у самой Полины Виардо и пела в молодости по всей Италии. В эмиграции, после 1917-го, Елена Иосифовна занималась с артистами постановкой голоса в «Комеди Франсэз» и в Голливуде. Через год после смерти певицы в Ницце почитатели создали в ее честь общество «Вечная память».
Почиют вечным сном на Кокаде и актеры, уставшие от славы. Конечно, по числу похороненных здесь театральных и литературных знаменитостей Кокад уступает парижским кладбищам, как тихая провинциальная Ницца уступала бурлящему Парижу, но все же было и в Ницце Общество литературных и сценических деятелей, которое в 30-e годы возглавляла графиня ЕКАТЕРИНА БОЛЕСЛАВОВНА ТОЛСТАЯ-МИЛОСЛАВСКАЯ (1868–1956). Помогали ей графиня Елена Михайловна Толстая, Ирина Дмитриевна Толстая, Вера Васильевна Толстая-Грейг… То, что на Кокаде так много Толстых, неудивительно. Толстых вообще в эмиграции было великое множество, не только знаменитых и талантливых женщин, но и вполне знаменитых и энергичных мужчин.
К примеру, похоронен на Кокаде граф ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ТОЛСТОЙ (1860–1941), известный в Петербурге знаток искусства и коллекционер, выпускник юридического факультета Петербургского университета. До конца позапрошлого века он служил чиновником в Министерстве иностранных дел, был церемониймейстером двора, а в 1901 году стал вице-директором Музея Александра III (нынешнего Русского музея), потом директором-хранителем Императорского Эрмитажа, к началу мировой войны был уже обер-церемониймейстером, известным в Европе искусствоведом и коллекционером. Его коллекция портретов поступила в Русский музей и в московский Музей изящных искусств, но сам он был уволен большевиками уже в 1918 году, долго искал пристанища в послевоенной Европе и в конце концов осел в Ницце, где участвовал в создании местного отдела общества «Икона». И конечно, писал воспоминания.
Неподалеку от последнего пристанища графа Д.И. Толстого похоронены супруги Томиловы. Генерального штаба генерал-лейтенант ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ТОМИЛОВ (1870–1948) окончил Кадетский корпус, военное училище и академию, служил в военной разведке, был специалистом по странам Ближнего Востока. Во время Первой мировой войны командовал Кавказским полком, во время Гражданской был помощником командующего войсками Северного Кавказа, соратником генерала Н.Н. Юденича, который после эвакуации и всех скитаний помог ему осесть в Ницце. Позднее Томилов занимался вопросами военного востоковедения и писал воспоминания о Юдениче. Еще более активной была эмигрантская деятельность его супруги ТОМИЛОВОЙ (урожденной СТРЕЛЬБИЦКОЙ) НАТАЛЬИ АРКАДЬЕВНЫ (1887–1960). В юности она училась на Высших женских курсах, и в Ницце начинала преподавателем Четверговой школы при Свято-Николаевском соборе и в Кружке по изучению русской культуры при лицее Александрино, входила в общественный комитет Дня русского ребенка, даже возглавляла Общество помощи русскому ребенку. После Второй мировой войны она возглавляла еще несколько общественных просветительных организаций, ратовала за преподавание русского языка во французских школах и способствовала распространению православия среди русской и французской молодежи. Была награжден орденом Академических пальм – редкая награда деятельнице русского просвещения.
На Кокаде похоронены два брата из знаменитой семьи Треповых, оба уроженцы Киева. Старший из братьев генерал-лейтенант ФЕДОР ФЕДОРОВИИЧ ТРЕПОВ (1854–1938) был полный тезка своего прославленного отца, петербургского обер-полицмейстера, того самого, в которого стреляла Вера Засулич. Федор Федорович Младший окончил Пажеский корпус, служил в лейб-гвардии Конном полку, в разное время был вице-губернатором Уральской и Вятской губерний, позднее киевским, волынским и подольским генерал-губернатором, участвовал в Русско-турецкой войне, a в Первую мировую был даже военным генерал-губернатором некоторых захваченных русскими областей Австро-Венгрии. После эвакуации жил до самой смерти в Ницце.
Младший брат его АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ ТРЕПОВ (1862–1928) после окончания Пажеского корпуса служил в лейб-гвардии Егерском полку, а настоящую государственную карьеру начал делать в 1896 году, когда вступил в должность камергера двора, стал членом Государственного совета и Особого совета по обороне. В 1915 году он уже был министром путей сообщения, хлопотал о постройке Мурманской железной дороги, учредил Министерство шоссейных дорог, а с конца 1916 года, не оставляя путейского руководства, возглавил Совет министров воюющей России. За месяц до Февральской революции он был снят, впрочем, со всех постов, так как считался реакционером. Пишут, что он участвовал в каком-то заговоре по спасению жизни государя. Его даже допрашивали по этому поводу в Париже, где он жил в эмиграции. Но умер он в Ницце и был похоронен на Кокаде, рядом с братом.
Единственным мужским представителем графского рода Уваровых на Кокаде предстает граф ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ УВАРОВ (1866–1954). Он был членом Государственного совета, хлопотал о нуждах сельского хозйства, построил школу в селе Поречье под Москвой. Пылкой общественницей и деятелем образования была его сестра ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА УВАРОВА (1864–1953). Будучи фрейлиной императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны, она проявляла неустанную заботу о детских колониях отдыха, работала в Донском институте в Белой Церкви и в школе для девочек под Парижем. Похоронена рядом с братом и его супругой ЕКАТЕРИНОЙ ВАСИЛЬЕВНОЙ УВАРОВОЙ, урожденной графиней ГУДОВИЧ (1868–1948).
Род Урусовых представлен на Кокаде замечательной женщиной, сестрой милосердия, награжденной тремя Георгиевскими крестами, княжной ЗИНАИДОЙ НИКОЛАЕВНОЙ УРУСОВОЙ (1888–1961). Из многочисленных князей Урусовых, сделавших завидную карьеру, на Кокаде покоится лишь князь ЛЕВ ПАВЛОВИЧ УРУСОВ (1839–1928), воспитанник Пажеского корпуса, обер-гофмейстер императорского двора, действительный статский советник, бывший российский посол в Париже, а также в Бельгии, Италии, Румынии и Австро-Венгрии.
В числе многочисленных генералов, похороненных на Кокаде, следует назвать генерал-лейтенанта ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ФИЛАТЬЕВА (1866–1932). Генерал Филатьев окончил Николаевскую военную академию, а после участия в Русско-японской войне был в этой академии профессором. Потом он воевал на Первой мировой и на Гражданской, в 1918 году трудился над созданием десантной армии для захвата Петрограда, а в 1919-м был в Сибири у адмирала Колчака помощником по снабжению. В эмиграции он написал книгу «Катастрофа Белого движения в Сибири, 1918–1922, впечатления очевидца».
На Первой мировой и на Гражданской успел повоевать и его сын, выпускник артиллерийского училища АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ ФИЛАТЬЕВ (1899–1975). После эвакуации русской армии Александр закончил высшую коммерческую школу в Бельгии и поселился в Ницце. С началом Второй мировой войны он ушел добровольцем во французскую армию и воевал в Северной Африке. Вернувшись в Ниццу, был старостой прихода в Свято-Николаевском соборе. Второй сын генерала ВАДИМ ДМИТРИЕВИЧ ФИЛАТЬЕВ (1903–1953), закончив университет в Бельгии, тоже поселился в Ницце, мирно работал в банке. Безвременно и трагически оборвалась жизнь генеральского внука Александра. Инженер-агроном, выпускник Высшей сельскохозяйственной школы, АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФИЛАТЬЕВ (1938–1972) писал духовную музыку и, как было признано лет через десять после его гибели, когда впервые вышли диск и кассета с записью одиннадцати его произведений (в исполнении хора имени Чайковского под управлением Г. Григорьевой), музыку талантливую.
При жизни многие в Ницце и Париже знали этого молодого прихожанина, страстно увлеченного церковным пением и историей религиозной музыки. Он был членом Общества ревнителей церковного пения и делал интересные сообщения на заседаниях общества, собирал нотный архив, выступал с докладами на парижских Курсах церковного пения и чтения при соборе Святого Александра Невского. К тридцати годам Александр Филатьев успел собрать достойную коллекцию нот и записей. Вместе с музыкантом Николаем Николаевичем Кедровым (младшим) Александр работал над «Сборником Божественной литургии», а 33 лет от роду был секретарем приходского совета церкви Всех Святых в земле Российской просиявших (храм Московской патриархии на рю Петель). В 1976 году был издан в Париже его учебник для курсов церковного пения. Впрочем, выхода книги в свет автор не дождался. В феврале 1972 года Александр погиб в автомобильной катастрофе.
Знаток русского балета не пройдет на Кокаде мимо могилы знаменитого артиста и балетмейстера ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА ХЛЮСТИНА (1860–1941), немало способствовавшего возрождению московского Большого театра. И. Хлюстин ушел со сцены в начале XX века, потом преподавал в Московском театральном училище, а с 1911 до 1913 года был балетмейстером в Гранд-опера. В годы эмиграции он открыл балетную школу в Париже.
Среди служителей Мельпомены, похороненных на Кокаде, надо упомянуть также ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ ХОРОМАНСКУЮ (ум. в 1972 г.) и ее мужа, артиста-любителя и штаб-ротмистра Финляндского полка ВЛАДИМИРА ВЕНЕДИКТОВИЧА ХОРОМАНСКОГО, вместе с женой состоявшего в 50-е годы в театральной русской группе П. Шило, а позднее в Литературно-артистическом обществе Ниццы. Чтобы дать семье в эмиграции возможность заниматься любимым искусством, герой двух войн В.В. ХОРОМАНСКИЙ работал электромонтером. Он на одиннадцать лет пережил свою супругу, талантливую актрису и активную общественную деятельницу.
Широко представлен в кокадском некрополе талантливый род Цветковых. Среди Цветковых найдешь и художников, и архитекторов, и певцов, и высокого ранга чиновников, и купцов, и, конечно, благотворителей. Благотворительностью занимался старший из похороненных здесь Цветковых НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЦВЕТКОВ (1857–1928). Он был действительным статским советником, товарищем председателя Московского купеческого банка, после революции даже работал какое-то время научным сотрудником Музея Красной армии и флота, но в 1921 году был арестован, а потом выслан за границу. Его сын СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЦВЕТКОВ (1881–1947) состоял при московском генерал-губернаторе, а в Ницце был лидером Монархического объединения. Дочь Н.А. Цветкова Валентина Николаевна после смерти отца жила в Иерусалиме, заведовала русским Гефсиманским садом, постриглась в монахини под именем Варвары, а с 1969 года была игуменьей Гефсиманской обители…
Барон АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЧЕРКАСОВ (1873–1942) был дипломатом, русским генеральным консулом в Персии. Ученицам лицея Александрино в Ницце барон Черкасов запомнился как преподаватель истории, русского языка и литературы.
МАРИЯ ИВАНОВНА ШЕБЕКО, урожденная ГОНЧАРОВА (1839–1935), была дочерью генерал-майора Ивана Николаевича Гончарова, родного брата Натальи Николаевны Гончаровой, жены Пушкина. Фамилия Шебеко идет у Марии Ивановны от второго мужа ее матери, сенатора, члена Государственного совета и товарища министра внутренних дел. Отец Марии Ивановны скончался 10 мая 1836 года. Пушкин писал в тот день в его присутствии в письме, адресованном жене в Петербург: «…спешу передать тебе 900 рублей… У меня сидит Иван Николаевич». Вероятно, с шурином Пушкин и собирался переслать жене деньги, хотя особой близости у него с Иваном не было.
Шурин был двадцатишестилетним поручиком лейб-гвардии Гусарского полка. Через полгода после этой встречи с Пушкиным в Москве Иван принимал участие в попытке уладить последствия первого столкновение поэта с Дантесом. Вскоре после этого (в январе 1937-го) Иван Гончаров присутствовал на бракосочетании Дантеса с его сестрой Екатериной Гончаровой.
В самой верхней части Николаевского кладбища на Кокаде похоронен едва ли не знаменитейший из здешних генералов НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ЮДЕНИЧ (1862–1933). Николай Николаевич родился в Москве, в семье чиновника средней руки, окончил военное училище и Николаевскую академию Генерального штаба. В 1905 году произведен в генералы, участвовал в Русско-японской войне, был дважды ранен. В Первой мировой, командуя Кавказским фронтом, одержал блестящие победы над турками, потеряв в три раза меньше солдат, чем противник. Вся грудь победителя была в боевых орденах. При Временном правительстве он вынужден был уйти в отставку, а при большевиках перешел в Петрограде на нелегальное положение, потом пересек финляндскую границу и после всех хлопот и неудач получил от фельдмаршала Маннергейма разрешение на формирование в Финляндии частей белой армии. От адмирала Колчака из Сибири Юденич получил приказ возглавить все войска Северо-Западного фронта. Дважды подходил к Петрограду (второй раз добирался до Пулковских высот), но красных не одолел, сдал командование и уплыл в эмиграцию. После Лондона поселилась семья генерала-эмигранта в Ницце.
В эмиграции генерал Юденич посещал Кружок ревнителей русского общества, выступал с докладами. В 1931 году в Париже и в Ницце было торжественно отмечено 50-летие его служения в офицерских чинах, а в 1933-м он скончался и был похоронен в крипте церкви Михаила Архангела в Каннах. Лишь в конце 1957 года прах генерала перезахоронили на кладбище Кокад.
Похороненная в той же могиле супруга генерала АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА ЮДЕНИЧ, урожденная ЖЕМЧУЖНИКОВА (1871–1962), которая вела в эмиграции более активную, чем муж, общественную деятельность, пережила супруга на добрые тридцать лет и была помянута вскоре после ее смерти на особом заседании Литературно-артистического общества. Горькая же память о «походе Юденича» никогда не угасала в эмиграции. Возглавлявший некогда приходскую библиотеку в Ницце генерал Масловский с юмором вспоминал, что, заходя в местную библиотеку или на заседание Исторического общества, великий знаток русской истории писатель Марк Алданов иногда вдруг спрашивал: «А Юденич, это что, еврейская фамилия?» Но потом спохватывался: «Ну да, я уже спрашивал».
От могилы Юденича видны кресты всего кладбища и синее море внизу. А между генеральской могилой и морем – старая Россия, былая русская армия, императорский двор. Здесь и молодая, пусть и не полноправная, а как бы тайная императрица. Она была очень любима русским царем, может, лучшим из русских царей – не был он ни Грозным, ни Великим, ни Кровавым, а был затравленным революционными террористами царем-освободителем, любимым воспитанником поэта Василия Жуковского. Ему бы, государю Александру II, еще жить да жить, цивилизовать и дальше свою страну, а он погиб, оставил беззащитной любимую супругу, обрек ее на изгнание… Хорошо, хоть вдовствовать ей пришлось не в Сибири, а в Ницце, на собственной вилле, названной именем то ли Георгия Победоносца, то ли сынка Георгия… Здесь она успела отметить юбилей крестьянского Освобождения, справить свадьбу императорской дочки с внуком Пушкина, здесь она отдала душу Богу, и вот похоронена на Кокаде: светлейшая княгиня ЮРЬЕВСКАЯ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА (урожденная княжна ДОЛГОРУКОВА, 1847–1922).
У этой могилы воскресает романтическая история пылкой любви российского императора и юной смолянки, встреченной им на прогулке в петербургском Летнем саду, история, вдохновившая стольких литераторов и кинорежиссеров. Реже, конечно, писали о первой любви императора, о милой бесприданнице, сиротке-курфюрстине из Дармштадта, которая была пятнадцатилетней девочкой, когда молодой наследник российского престола увидел ее в театральной ложе. Через два года она стала счастливой русской принцессой, потом русской императрицей. Только в 1865 году, в Ницце, где умер ее старший сын, произошел печальный перелом в ее жизни. Последние полтора десятка лет ее жизни были полны страха за жизнь мужа, на которого неотступно охотились «народные заступники», и унижений из-за его нескрываемой влюбленности в юную Екатерину Долгорукову. Однако и Екатерине нетерпеливая любовь императора приносила не одни только радости, но и унижения тайности, неравноправия.
Когда же скончалась увядающая государыня и они с Сашей смогли обвенчаться, хотя бы и тайно, супружеская жизнь вдруг оборвалась так скоро, так страшно. Екатерина осталась во враждебном окруженье у гроба и вскоре уехала за границу, уже надолго, навсегда. Почти на сорок лет изгнания… Не забудьте посетить ее склеп прежде, чем покинуть здешний живописный православный некрополь.
Напомню, что православный некрополь – лишь часть огромного кокадского города мертвых. У главного входа на муниципальное кладбище большая круглая клумба общей, братской, анонимной могилы, общего рва (fosse commune). Никто не вечен, а чудный французский берег – он не резиновый. Жизнью пользуйся живущий… В крошечной комнатке городского загса имя ваше будет записано великолепным почерком по-французски. Никто не забыт. Можно даже получить справки-выписки, написанные тем же великолепным почерком. Я их запрашивал, я их получал. Из авторского любопытства. Из почтенья к Ушедшим, Забытым, Небезразличным…
Родные, друзья или просто соотечественники могут установить дощечку с именем Незабвенного на лужайке над братской могилой. Правда, за это надо заплатить. Но можно пойти на эти расходы и эти хлопоты коллективно, привлечь более или менее «неправительственные» организации. Металлическую памятную доску внучки Пушкина, Елены Александровны Розен-Мейер, установленную здесь русскими активистами Ниццы и московским фондом «Русское зарубежье», постигла та же грустная судьба, что и бюст с могилы художника-передвижника Ивана Прянишникова, похороненного на средиземноморском берегу западнее Марселя (на кладбище «цыганской столицы» Сент-Мари-де-ла-Мер): она была украдена кладбищенскими ворами. Однако русские организации не пали духом и заказали новую доску, на сей раз каменную.
Надо сказать, что это была не первая русская памятная доска над братской могилой Кокада. В 1994 году внучки ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА СМИРНОВА (1875–1934). Здешний Смирнов, пожалуй, самый знаменитый Смирнов на планете. Что нынче делает знаменитым? Реклама. А если это реклама водки, то это уже символ великого народа. «Водка Смирнова! Smirnoff!» Шутка ли, тот самый Смирнов, сын того самого Петра Смирнова, который и есть русская водка. Примерно в то время, когда Дмитрий Менделеев защитил свою знаменитую диссертацию, крестьянин Петр Арсеньев Смирнов выкупил себя и двух своих сыновей у помещика (всего четыре года недотерпел до Освобождения) и открыл в Москве «ренский погреб» (лавку рейнских вин), а через три года второй, да открыл на Пятницкой улице у Чугунного моста свой винный завод. С начала семидесятых годов стал он получать дипломы и медали на международных выставках за свою водку и оказался великим выдумщиком всяких настоев, способных отбить мерзостный вкус разведенного спирта. Ну, скажем, отыскал он особый сорт рябины в Невежине под Суздалем и стал настаивать на ней водку. Успех был бешеный, очередная золотая медаль на выставке. Невежинскую рябину переименовал в Нежинскую, а потом стал пробовать можжевеловую настойку, да зубровку, да спотыкач… В 90-e годы уже было у него 400 названий водок и вин, получил он звание поставщика Высочайшего Двора, двуглавого орла на этикетку, потом второго, потом третьего, а на ярмарке 1898 года аж четвертого. Имел он высочайшее звание коммерции советника и почетного гражданина. В тот самый год он и помер, оставив в благоухающем проспиртованном мире трех сыновей. Одним из них и был Владимир Петрович, захороненный на муниципальном Кокаде.
Надо сказать, что Владимиру Петровичу, увлеченному музыкой, поэзией, опереттой и поющими женщинами (женился он четыре раза за свой недолгий век), вся эта спирто-водочная канитель годам к тридцати опостылела. Он получил приличное домашнее образование, вдобавок посещал училище при церкви Святых Петра и Павла в Москве, учился пению в Италии. А в1904 году он и вовсе продал свои права и свою долю в питейном производстве брату Петру и с еще большим увлечением занялся искусством. У себя в московском доме он устраивал концерты, на которых сам тоже пел, дуэтом со знаменитой Варей Паниной, а чаще с примадонной московской оперетты Валентиной Пионтковской, которая и стала его первой женой. Владимир Петрович всемерно поддерживал Московский театр оперетты, а в 1910 году, уже в Петербурге и, конечно, не без мужниной помощи, Валентина Пионтковская открыла свой собственный театр. Потом, как у многих россиян, был на их пути эмигрантский Константинополь. Владимир открыл в этом первом городе изгнанников кабаре «Паризиана». Валентина пела со здешней русской опереттой в «Сильве» и в «Прекрасной Елене». Впрочем, в 1923 году Владимир и Валентина еще учредили в польском Львове винный торговый дом «Петра Смирнова сыновья». В 1925 году супруги перебрались во Францию. Хотя первый, гражданский, брак Владимира Петровича распался, одиночество ему не угрожало. Он женился на Марии Гавриловне Шушпановой, потом на Александре Павловне Никитиной и, наконец, на Татьяне Александровне Макшеевой. Владимир Петрович создал во Франции новую фирму и открыл новый водочный завод на окраине Парижа, а также организовал «Хор Смирновых». Сам он тоже участвовал в концертах. К 1930 году водочная фирма Смирнова разорилась, но, перебравшись в Ниццу, он еще смог открыть там ресторан «Кабачок».
Последняя его жена Татьяна Макшеева жила в Ницце с 1920 года, писала стихи и прозу, читала их на литературных вечерах. В последние годы жизни Владимир Петрович диктовал ей свою мемуарную книгу «Русский характер». Незадолго до его смерти американцы решили возродить фирму «Смирнов». Владимир Петрович передал им права на все славные марки и знаки своей водки, так что памятная доска над братской могилой Кокада не зря напоминает об этом имени.
Московский автор А. Романов, совершивший кругосветное путешествие в поисках русских могил, считает, что в братскую могилу на французском Кокаде поступила в свой срок любимая некогда русскими читателями и зрителями пара: поэт-юморист ЛОЛО (ЛЕОН ГЕРШКОВИЧ МУНШТЕЙН, 1867–1947) и его супруга ВЕРА НИКОЛАЕВНА ИЛЬНАРСКАЯ, урожденная ИЛЬИНСКАЯ (1880–1946).
Юмористы были всегда в чести у русской публики, а Лоло был одним из самых знаменитых: в одних только «Новостях дня» напечатал он больше тысячи фельетонов в стихах, а ведь сотрудничал и в «Рампе», и в прославленном кабаре «Летучая мышь». Уехав в 1920 году в эмиграцию, он основал театр миниатюр в Риме, литературный кружок «Четверги» в Ницце, гастролировал в Германии, издавал «Сатирикон» в Париже. Иные из его шуток высоко ценили тонкие мастера русского юмора. Не только, скажем, великий версификатор Брюсов хвалил его стихи, но и ненавидевший фельетончики Чехов выписал строки Лоло из рецензии на утонченный модернистский спектакль, полный потаенных намеков:
- Но эти тонкие детали
- До нас почти не долетали.
Читая советские газеты на пляже, Лоло умел угадать из своей средиземноморской дали, что не одних вольных юмористов устрашает новая русская жизнь, но и самих грозных наркомов:
- Знайте, тот, кто сегодня нарком,
- Может завтра расстаться с пайком,
- Может быть уничтожен тайком…
Супруга юмориста Вера Ильнарская была актриса и драматург, выступала с сольными концертами и любила сделать ставочку в казино Монте-Карло. Муж ее писал об этом с добродушным юмором.
Поклонившись праху артистической пары и знаменитого В.П. Смирнова, сына еще более знаменитого П.А. Смирнова, спустимся к морю и отправимся по берегу, по бесконечной Английской набережной к восточной ее оконечности…
Если день этого нашего паломничества выдастся солнечным и звонким, то непременно возродится в нашей душе надежда на какое ни то будущее, а память о наших соотечественниках, живших (и доживавших) на блаженном этом берегу, не покинет нас вовсе. Тем более что иные из них завещали близким рассыпать свой прах над гладью Средиземного моря. Как же нам не вспомнить о них, шагая над кромкой прибоя вдоль пляжей славного Английского, а потом и Штатского Променада до самой Замковой горы… Как не думать о людях, пожелавших слиться по смерти с волной древнего европейского моря, на берегах которого рождены были Сын Божий, Его ученики и пророки. Среди таких людей были и наши соотечественники и соотечественницы, сыновья и дочери Москвы, Петербурга, Киева, Вильны…
Я шагаю на восток, и мне вспоминаются те, кто глядели на море с этого променада – Чехов, Набоков, Башкирцева, Герцен, Тютчев, Мережковский, Айседора Дункан, Софья Ковалевская, князь Вяземский, Щедрин, Бунин, Зайцев, Алданов, княжны, императрицы, принцессы…
Но кто из них пожелал остаться в море навеки? Ну да, конечно, бывший лицеист из Ниццы, фантазер Ромка Кацев, «сын Мозжухина», дружок генеральского сына Кардо-Сысоева, нежный друг Кантакузиной, любимец де Голля, злосчастный муж Джин Себерг, единственный во Франции обладатель двух гонкуровских премий и, может, один из лучших французских писателей. С началом войны, литературной славы и консульских постов потерял он имя Арье-Лейбы Кацева, погибшего в Освенциме, так ведь и любимая его матушка, может, маленькая актриса, а может, лишь мелкая торговка и выдумщица, еще на путях Восточной Европы растеряла все былые имена (может, оттого я и могилу ее не могу сегодня найти)… Но он прославил имя РОМЕНА ГАРИ (1914–1980), потом вдобавок имя Эмиля Ажара и пустил себе пулю в лоб в Париже и велел разбросать свой прах над любимым морем своего отрочества…
Что он вспоминал в отчаянье последних минут, придя с площади Сен-Жермен, из пивной «Липп»? Свою Ниццу? Скамеечку на Променаде возле «Негреско», вкус соленых огурцов с черным хлебом, любимый материнский романс: «Гари, гари, моя звезда…»?
Помню, как посетила меня догадка о песенном происхождении псевдонимов этого французского писателя из Вильны. Еще и до зимовок моих в Ницце, а в деревенской Шампани. Разыскала меня там неожиданно соседка с крошечного хуторка «Три дома», певица-полька Анна Пруцналь (французы ее зовут Прукналь): кто-то ей рассказал, что живет тут на одном хуторе в лесу русский мужик, который, нисколько не имея слуха, все время поет Вертинского. А она как раз задумала петь Вертинского на концерте. Вот и захотела, чтоб я рассказал, отчего да почему…
Пришлось мне французской польке рассказывать про отрочество, про конец войны… Как сидели мы на терраске в Валентиновке, играли в подкидного дурака, пластинки слушали: «На позицию девушка провожала бойца…» И тут хозяин дачи дядя Ваня, работавший в Моссовете, принес заграничные пластинки, подарок знатного посетителя, которого он заселил аж на улицу Горького. Мы покрутили эти пластинки день, два, три и ушли в другой странный мир. Здесь шумят чужие города… На солнечном пляже в июне… Усталый старый клоун…
А потом и сам старый клоун поселился в Валентиновке, и, проходя мимо его дачи, мы умолкали, обмирали… Когда подросли его знаменитые доченьки, я одной из них рассказывал эту историю.
Чудная певица-полька с ближнего хутора дослушала мои растроганные воспоминанья про дядю Ваню из Моссовета и отблагодарила меня историей похлеще. Пела она в Париже песни моего любимого Вертинского уже в середине 60-х, и после всех концертов дарил ей цветы знаменитый французский писатель Ромен Гари. Да мало ли кто приходит и цветы дарит… А потом как-то ночью в гостинице (она была на гастролях) звонок из Парижа. Какой-то молодой человек спрашивает ее, не могла бы она спеть в Доме инвалидов, том самом, где Наполеон, песенку про лилового негра… Там будут хоронить кавалера ордена Почетного легиона, и он просил перед смертью, чтоб не было религиозных песнопений, а чтоб она, Анна, спела песенку, которую любила его мать. Ту, где в притонах Сан-Франциско лиловый негр… А что, она спрашивает, с писателем? Покончил писатель с собой, отвечают, и его как кавалера ордена Почетного легиона будут там хоронить… Сможете приехать?
Били барабаны близ золотого купола Дома инвалидов. Одиннадцать летчиков несли гроб, накрытый трехцветным французским флагом, сзади на подушке несли все награды героя, военные похороны, хор пел «Марсельезу» и «Колокол звонит по мертвым»… А потом все стали с недоумением переглядываться. Анна запела Вертинского. «Вы слышали, как я пою?» – «Слышал». У нее совсем другой негр. И голос каркающий, хриплый. Трагический…
Но песня, которую он слышал столько раз у матери в гостиничной служебке: «Лиловый негр вам подает манто…» – та самая. Она и вспоминалась ему в последний час жизни…
Я прохожу по Променаду мимо отеля «Негреско» и присаживаюсь на скамейку. Может, они сидели здесь с матерью, слушали ресторанную музыку. Там у нее был лоток с ее товаром в вестибюле. А он подрабатывал здесь посыльным. Про все это есть в одном из лучших романов Гари, посвященных матери, «Обещание на рассвете». Впрочем, как восстановить жизнь по рассказам придумщика, мистификатора? Да и мама его Нина (Мина) Овчинская была фантазерка. Читая первую книгу о Гари, я сочувствовал его прекрасному биографу Доминик Бона и сомневался в каждой пересказанной байке. Во всем, кроме того, что он был материнской жизнью, ее радостью, ее гордостью, искупленьем проигранной жизни, платой ее бесовскому тщеславию и состоявшейся любви. Да, об этом он и писал в романе:
Плохо и рано быть так сильно любимым в детстве, вырабатывает дурную привычку. Вы приучаетесь верить, что любовь поджидает вас где-то, стоит только ее найти. <…> С материнской любовью на заре вашей юности вам дается обещание, которое жизнь не выполняет никогда. Поэтому до конца своих дней вам придется жить впроголодь. И всякий раз, когда женщина сжимает вас в объятьях, вы понимаете, что это не то. <…> С первым лучом рассвета вы познали истинную любовь, прочертившую в вас глубокий след. Всюду с вами будет ад сравнения, и вы маетесь всю жизнь в ожиданье того, что уже получили.
Новые биографы найдут новые неточности в рассказах об этой жизни, придуманной как роман. Неудачливая актриса из семьи еврея-кустаря из Курска (а может, она и не была актрисой, а только отиралась при театре) родила в 1914 году мальчика от актера Арье-Лейба Кацева, вскоре ее оставившего, так что ни роли на французском языке, ни парижских гастролей, ни знакомства с тогдашним кумиром Иваном Мозжухиным в жизни невзрачной девушки не было. Была только фотография знаменитости на тумбочке, безумное честолюбие, неуемные выдумки и незаурядный талант выживания. И дороги послевоенной Европы, и настоящие (а может, отчасти и придуманные) невзгоды, и жизненная стойкость заносчивой матери-одиночки. Вероятно, из Курска она бежала в Вильну, оттуда в Варшаву и, наконец, к родственникам в Ниццу. У нее нет образования, но есть способности и выдумка, есть предприимчивость: она выживает мелкой торговлей (шляпки и дешевые украшения). Ее Рома кончает лучший в Ницце лицей (и нынче в вестибюле лицея Массена увидишь на стене его имя среди отличников 1929 года). Французский он начинает изучать только в 14 лет, но учит его упорно и успешно, в университете Экс-aн-Прованса он не засиживается, переезжает в Париж и упражняется в писании. Рассылает по журналам рассказы. Один рассказ был чудом напечатан, и мать скупает в Ницце «наш номер» журнала «Гренгуар».
Не большего успеха добивается он пока и в летном деле. Попав на военные сборы, он учится в летной школе, но единственным из всего выпуска не получает офицерского звания. Его объяснение неудачи своим нефранцузским происхождением не внушает доверия, зато намек на то, что он волочился за женой начальника, звучит вполне правдоподобно.
И тут приходит война. Их летное подразделение добралось до Марокко к тому времени, когда французская армия уже сдалась в плен: полтора миллиона французских воинов вылезли из окопов и ушли в лагеря военнопленных. В марокканском Мекнесе Роман Кацев услышал по радио воззвание генерала де Голля из Лондона. Генерал сказал, что Франция на самом деле не сдалась врагу и даже не будет с ним сотрудничать. Она доблестно сопротивляется. За прошедшие с тех пор семь десятков лет вряд ли остался во Франции город, который не обессмертил бы свои площади монументом, прославляющим это трехминутное выступление де Голля по английскому радио. В жизни нескольких французов (скажем, писателя Ромена Гари, дипломата Зиновия Пешкова или самого генерала де Голля) оно сыграло большую роль. Писатель сравнивал в своем биографическом романе поведение генерала с тогдашним патриотизмом любимой своей матушки. Оба героя были движимы безграничным честолюбием и авантюризмом. Правда, генерал пекся при этом о личной карьере, а мать одержима была мечтой о блистательной карьере и всемирной славе своего сына. Но забавные черты сходства можно заметить даже в деталях поведения героев. Скажем, мальчик Рома, засев в служебной комнатке отеля, целыми днями придумывает себе для будущего звучные псевдонимы. Сходным может показаться ритуал собирания генералом своего грозного войска (около тысячи «компаньонов де Голля») в особняке тылового Лондона.
Новичок должен был придумать для себя звучный псевдоним, а также любое воинское звание и громко объявить их, входя в кабинет генерала. Эти новые имя и звание присуждались ему пожизненно. Скажем, беглый кавалерист, штабной капитан Филипп Отклок, нимало не смущаясь, представился: «Полковник Леклер!» Под этим именем он и отправился в Африку бороться против нацистских врагов и французских друзей, конкурентов генерала. Нетрудно догадаться, что при таком скачке через ступени военных званий «компаньоны де Голля» стали очень скоро большими людьми. Как и то, что многие из них, подобно самому генералу, отличались известным авантюризмом. Мне довелось подружиться в Париже с обаятельным «компаньоном де Голля» и кавалером ордена Освобождения Николаем Васильевичем Вырубовым. От него я и услышал рассказы о тех временах, вполне трогательные, но не лишенные иронии. Скажем, рассказы про выскочку Зиновия Пешкова, просто взлетавшего по лестнице званий…
Но может, прославленные «компаньоны» и шли во главе несметного войска освободителей Франции? На это намекают школьные учителя истории, сообщая французским детям заветные имена героев – Леклер, Кифер… «Компаньонов» было около тысячи, a у лейтенента Кифера в отряде было меньше сотни воинов. Кто ж воевал? Ну, были, конечно, американцы, англичане, канадцы, поляки. Их собралось на главном британском острове больше трех миллионов. Они и шли умирать за Францию.
Добравшись от Марокко в Лондон, летчик Роман Кацев стал «компаньоном де Голля». Совершал боевые вылеты. Большинство тогдашних летчиков погибли. Позднее он был ранен и награжден орденом Освобождения. Исцеляясь в Лондоне от боевой раны, Роман женился на талантливой английской журналистке Лесли Бланш и написал роман «Европейское воспитание». О приключениях партизан в литовских лесах. Военных романов тогда еще было немного, так что книга деголлевского героя имела бешеный успех, была переведена на множество языков и напечатана под псевдонимом Ромен Гари-Кацев.
После победы, как все «компаньоны де Голля», Ромен стал большим человеком. Любимый автор «отца нации» де Голля, он занимал дипломатические посты за границей и при этом писал книгу за книгой. Лесли была ему доброй помощницей.
Мама Нина умерла еще в 1940 году. Перед смертью она просила не беспокоить ее мальчика дурным известием и заготовила для отсылки ему письма впрок. Все ее мечты сбывались, но до того дня, когда ее Рома получил Гонкуровскую премию, она не дожила.
Спокойная жизнь и процветание Гари вдруг оказались под угрозой, когда он был французским генеральным консулом в Лос-Анджелесе. Oн тогда был на вершине успеха, пользовался популярностью в Голливуде, известные режиссеры снимали фильмы по его романам. Он сам и Лесли писали сценарии. И вот однажды на приеме у себя в консульстве он увидел в толпе гостей поразившее его лицо. Это была молодая кинозвезда Джин Сиберг, только недавно сыгравшая Жанну д’Арк. Она была лет на двадцать моложе Гари и почти на тридцать моложе Лесли. Ромен Гари развелся с Лесли и женился на Джин. Для полного счастья ему не хватало неослабного внимания критики и газетных рецензентов. И тогда он придумал нового автора, точнее, даже трех новых авторов, но третий из них стал особенно успешным. Он подписал свои новые романы именем Эмиль Ажар. Романы были очень хороши. За второй роман Ажару была присуждена Гонкуровская премия. По французским правилам эту премию автор мог получить только один раз в жизни. Теперь Гари стал прятать Ажара, затевая новые мистификации…
С молодой женой он тоже не нашел ни покоя, ни счастья. Джин активно боролась с расизмом в рядах террористической и вполне расистской (ненавидевшей белую расу) организации «Черные пантеры». Близость актрисы к лидерам боевой организации зашла так далеко, что она забеременела. Гари мотался по свету, писал очерки в лучшие журналы мира, боролся с ФБР, взял на себя ответственность за будущего ребенка. Ребенок родился мертвым. Вскоре и саму Джин нашли мертвой в машине. От чего она умерла, осталось неясным. Она пила и принимала наркотики, но Гари приписывал ее смерть проискам ФБР.
Год спустя Гари покончил с собой. В предсмертном письме он не винил свои перепады настроений, свою депрессию, ибо она и позволила ему успешно писать… Страшная цена. На ее счастье, Нина (или Мина) Овчинская, мать Ромена Гари, не дожила до этой беды. Я заговорил как-то о ней с хозяйкой кафе «Вашингтон» в Ницце. Мадам Нини дружила с Миной Овчинской, отзывалась о ней очень тепло. Один раз мне довелось говорить о романах Ажара с Варварой Сергеевной Оболенской. Она удивилась, узнав от меня, что Ромен Гари был родом из русско-еврейской Вильны. «Хотя по тому, как он пишет, можно было догадаться, что он из русских», – сказала она.
Я так и не понял, было ли это в ее устах комплиментом. Теперь уж и не пойму. Но мне показалось, что второй гонкуровский роман бедного Романа Кацева (написанный под псевдонимом Эмиль Ажар) даже лучше первого его гонкуровского романа… О, эта путаница имен! Где она, мама Нина? Где похоронена? Ни я, ни Иван Грезин, ни сама начальница загса, никто не может найти. Продолжая свой путь по Променаду к западу, выйдем к Замковой горе Ниццы. Может, там она и была зарыта, на Замковом кладбище, тщеславная Нина (Мина Иосифовна Овчинская из местечка Свенцяны), бредившая мировой славой…
Как и во всяком себя уважающем средневековом городе, в приморской Ницце стоял когда-то на холме оборонительный замок, однако со временем, дабы несколько умерить обороноспособность местной власти, власть централизованная, королевская, эти замки разбирала при первой возможности. Пьемонтской администрации в Ницце эта возможность представилась в начале XVIII века. Как бывает в таких случаях, рядовые труженики приняли посильное участие в разрушительных работах, добывая себе даровые стройматериалы. Это, если помните, отметил один сугубо отрицательный персонаж-генерал в стихотворении Н. Некрасова про железную дорогу: «Что ваш народ? Эти термы и бани, чуда искусства он все растаскал…»
Так и в Ницце. Руины были растащены, зато на Замковой горе расцвел пышный сад, и жители Ниццы использовали освобожденную площадь для захоронения близких. Потом на просторном здешнем кладбище стало тесно, и заботливые потомки начали переносить не окончательно забытых предков на более удаленные от курортных променадов новые кладбища. Однако и старые, исконные кладбища не исчезли с Замковой горы – ни христианское, ни иудейское.
Одной из самых знаменитых и посещаемых потомками могил этих кладбищ остается могила русского писателя АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ГЕРЦЕНА (1812–1870). И в позапрошлом, и в прошлом, и даже в нынешнем неспокойном веке к ней совершали почтительное паломничество «дети разных народов», особенно часто те люди, которых во всем мире называют русскими, хотя иные из щепетильности предпочитают называть себя только «русскоговорящими». К этой могиле в одиночку и группами приходили писатели и школьники, участники проходивших на этом комфортабельном берегу международных совещаний и просто грамотные туристы. Многие из них даже слышали кое-что об этом знаменитом русском изгнаннике, одном из ранних диссидентов и эмигрантов, боровшихся с самовластьем, одном из основателей того, что позднее называли «самиздатом» (изданием не разрешенных цензурой книг) и даже «тамиздатом» (попросту печатаньем за границей того, что дома запретит та же цензура). Причем богатый и отчего-то не обобранный после выезда Герцен не нуждался в материальной помощи зарубежных коллег.
Конечно, далеко не все из тех, кто посещали могилу славного соотечественника, русского писателя, философа и борца за свободу, читали прославленную его автобиографическую книгу «Былое и думы», хотя и непременно слышали в школе официальную версию жизни Герцена как предтечи большевиков и Ленина (будущий большевистский вождь тоже посетил эту могилу). Чтение откровенной автобиографической книги Герцена поражает читателя количеством бед и разочарований, которые способна обрушить судьба на голову умного, смелого, здорового и богатого человека (что ж говорить о бедных и убогих!). В изгнании Герцен устроил вольную русскую типографию, издавал журнал «Колокол», всячески язвил монархию. На все ему доставало образования, ума, дерзости, успеха… Чего же ему недоставало для счастья? Об этом без труда догадается паломник на Замковой горе Ниццы, у надгробья Герцена, на котором есть и другие имена и скорбные даты – имена умершей молодою любимой жены Натальи Захарьиной, трехлетних его двойняшек, умерших от дифтерита, и юной дочери, покончившей самоубийством. Поселившись в Ницце в середине века после многих странствий по городам Европы, Герцен высоко оценил удобства этого города («светло, ярко и не холодно»), но несчастья не отступались («от нечистых людей не спасет никакой многоугольник… нового ничего, разве какое личное несчастье доломает грудь, какое-нибудь колесо жизни рассыплется»).
В ту пору беды начались с романтической истории жены Герцена и «лауреата демократии» немецкого поэта Гервега, звавшего народ на баррикады, но не проявившего ожидаемой от него храбрости. Натали Герцен пожалела и приласкала удрученного поэта, долгое время металась между мужем и любовником и только в 1852 году вернулась в семью окончательно. Но еще за год до этого сын Герцена Коля и его матушка Луиза Гааг, возвращаясь на пароходе в Ниццу из Марселя, утонули в результате кораблекрушения близ Йерских островов. Вскоре после этого умерла в родах Натали Герцен, а вслед за ней и ее новорожденный сын. Вторая жена Герцена Наталья Тучкова-Огарева, бывшая жена его друга Огарева, родила ему мальчика и девочку, которые умерли в трехлетнем возрасте, а вскоре и сама она покинула нашу грустную юдоль разочарований и смертей.
Все эти заграничные годы Герцен вел отчаянную борьбу с русским самодержавием и воспитал своими акциями и публицистикой, в частности своим журналом «Колокол», целую плеяду русских революционеров. Может показаться странным, но эта самоотверженная и, казалось бы, успешная деятельность не принесла писателю удовлетворения, а, напротив, вызвала у него в конце жизни (а всей-то жизни ему выпало 58 лет) глубокое разочарование. Герцен не дожил до выхода на мировую арену Ленина (объявлявшего себя учеником и преемником декабристов и Герцена), но зато успел познакомиться с ленинскими кумирами (вроде Нечаева) и ужаснулся эстетической и этической глухоте, невежеству, карьеризму и лживости этих своих наследников. Чуткий Герцен разгадал их раньше, чем его соратники Огарев и Бакунин. Он успел написать о них в своих «Письмах к старому товарищу» все, что думает, но было уже поздно. Они все равно пришли к власти в России. Даром, что ли, еще в годы моей молодости пели русские диссиденты: «декабристы, не будите Герцена».
Герцен умер в Париже в январе 1870-го. Позднее гроб с его прахом перевезли в Ниццу на Замковое кладбище. Позже появилась еще одна строчка на этом надгробье: покончила с собой его юная дочь Лиза…
Многие из былых насельников живописного, но тесного кладбища «Старый замок», что на Замковой горе в Ницце, покидали это место захоронения ради новых, менее тесных, вроде русского Кокада, а то и более отдаленных в Москве или Петербурге.
Думаю, где-то на Замковой горе был захоронен не найденный некрополистами некогда купец первой гильдии и богатый ювелир Аким Соломонович Биск. Странное имя. Так называли суп из дичи и раков. Аким Соломонович родился в Харькове, процветал в Одессе, а умер в Ницце. Сыну Александру дал хорошее коммерческое образование, но сын торговать не стал. Писал и переводил стихи: замечательно перевел стихи Рильке. Женился на прекрасной Берте Туранской, но потом уехал в Нью-Йорк, а Берта с сыном жила в Париже. У сына было красивое имя Анатолий, но он все это отверг, и красивое имя, и фамилию. Стал французским писателем и критиком по имени Алэн Боске. Я с ним несколько раз встречался в гостях у писателя Владимира Максимова. Но он не хотел рассказывать ни о об отце, ни о дедушке. Впрочем, упомянул как-то, что отец часто играл в карты с Керенским и Набоковым.
Потом я потерял его из виду, этого внука Акима Биска. Я читал, что его избрали в Академию, а однажды на книжном развале я даже купил его книжку «Русская мать». На обложке ее была нарисована круглолицая румяная колхозница в пестром платочке. Он писал о матери с большой нежностью… Я не знаю, такой ли была его мама Берта, как на обложке, но понимаю, что, когда рукопись ушла из рук, начинается творчество оформителей, книгопродавцев или даже режиссеров. Я видел оба русских фильма, снятых по роману Шолохова «Тихий Дон». В обоих казачку Аксинью играли завидные еврейские красавицы.
Болье-сюр-Мер
В нескольких километрах к востоку от Ниццы начинается россыпь живописнейших широко известных в Европе и даже за океаном курортных городков, в которых больше столетия тому назад начали селиться и русские изгнанники. Иные из них, закончив здесь свои дни, были похоронены на кладбище в городке Болье-сюр-Мер. Впрочем, большинства имен россиян, захороненных здесь за минувшее столетие, ты уже не сможешь прочитать на надгробиях кладбища, так что расспросами об окончательной судьбе их праха приходится докучать начальнице местного загса мадам Вуайян. О судьбах ее подопечных мы еще поговорим подробнее, а сперва я хотел бы сказать несколько слов о жизни наших соотечественников, упокоившихся в земле Болье-сюр-Мер. Например, о поразительной, загадочной судьбе и столь заметном в нашей культуре творчестве русского драматурга АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА СУХОВО-КОБЫЛИНА.
Он родился в 1812 году недалеко от Москвы в богатейшем имении старой дворянской семьи, получил домашнее образование, потом окончил физико-математическое отделение философского факультета университета, продолжал образование в Гейдельберге, увлекался точными науками и философией, но и литературой, и театром. В этой блестящей семье царил культ литературы, одна из сестер была известной писательницей, а два молодых друга, бывших в их доме нередкими гостями, подтолкнули мысли юноши к Гегелю (судя по намеку, оброненному в разговоре драматурга с навестившим его русским изгнанником Ковалевским, это были Герцен и Огарев). Так он и формировался под влиянием великого немца Гегеля и великого украинца Гоголя. Об одном писал диссертацию, разрабатывая собственную философскую систему, другого боготворил, рассказывал легенду о случайной встрече с этим великим писателем на борту корабля. Мечтал и сам написать водевиль на манер Скриба. При всем том молодой Сухово-Кобылин не чужд был высокого понятия о дворянской чести и хозяйственном долге русского помещика, собирался преобразить имение, а с ним и Россию, использовав преданных рабов и достижения ушедшего далеко вперед Запада. Он был пылкий идеалист, верный патриот России и трона: уже отец его пролил кровь под Лейпцигом… Конечно, пока что юные соблазны и спортивный темперамент отвлекали богатого красавца и щеголя от претворения в жизнь всех его талантов и грандиозных планов – светские удовольствия, путешествия, женщины… Среди них были удивительные дамы из общества, женщины бешеного темперамента, хотя бы вот молодая княгиня Нарышкина, та, что позднее взяла в полон молодого французского драматурга Александра Дюма-сына. В конце концов она увела этого знаменитого француза от всех прочих дам, одарила (при живом еще муже) внебрачными детьми, потом женила на себе и цепко держала его в руках до самой своей смерти. Но дайте срок, пока она еще просто ездила, как и другие светские дамы, в «лечебные поездки» в город любви Париж, где у них с подругами, другими знатными львицами, был таинственный дом на улице Анжу (близ Елисейских Полей). До времени княгиня ревниво не выпускала из когтей красавца Александра Сухово-Кобылина и в конце их связи подарила ему дочь Луизу. Впрочем, до этого произошли страшные, роковые события его жизни.
Во время какой-то своей поездки в Париж пылкий Александр повстречал молодую француженку редкостной красоты. Он совершенно потерял голову от любви к этой божественной Луизе Симон-Диманш и ничтоже сумняшеся привез ее в русский столичный город. Легко представить себе, какое оскорбление нанес он этим темпераментной княгине-любовнице. Но молодой философ и модник словно ничего не хотел замечать. Он был до краев полон своей любовью и любовными хлопотами: нужно было добывать красавице русское подданство, купить ей торговую лавку, пристроить ее к делу. Хлопот полон рот. Но шли месяцы, даже годы, а он все не мог налюбоваться, натешиться… Конечно, у них бывали ссоры, даже скандалы. Характер у нее оказался не ангельский, да у него и самого был нелегкий нрав, но конца этой любви, их невенчанному браку, казалось, не было видно… Как, впрочем, и начатому им на досуге бесконечному водевилю. В духе великого Скриба…
И вдруг он пришел, конец. Страшный конец. Всему его миру конец. Ему было тогда всего 38 лет. Он был в расцвете сил.
Он в тот день вернулся домой, легко взбежал по лестнице, напевая что-то беспечное, распахнул дверь и увидел это… Луиза лежала на полу в луже крови.
Прошло немало времени, пока он, обезумевший от горя, понял, что ее больше нет, что эти незнакомые люди в штатском и в мундирах чего-то хотят от него. Понял, что и он сам, и слуги его, и дом его уже окутаны слухами и легендами. Понял, что его самого обвиняют в убийстве, что он арестован, препровожден, освобожден, допрошен, снова препровожден… Туман рассеивался или сгущался, ему и его крепостным людям грозили новые допросы, каторга и Сибирь. Стало проясняться, что можно, впрочем, за что-то платить, тогда эта пыточная Сибирь отступает на время. Немалые, впрочем, деньги… Суммы эти прояснили его сознание. Сидя взаперти, он стал снова писать свой водевиль, в котором больше не было французского блеска. Было что-то от любимого Гоголя, может, даже от блеска дотошного Островского, но еще больше от романтической обиды Лермонтова, от оскорбленной дворянской чести, от свободы сцены, от спасительной свободы театра… Его снова вызывали, запирали, освобождали, вежливо или нагло брали деньги, все больше денег. Сибирь то подступала, то удалялась в завьюженную даль. Хозяева Сибири обращались с ним, как с холуем. Но он закончил свою «Свадьбу Кречинского», и у него появились новые знакомые, его читатели. Из тех людей, для которых важней всего было написанное слово. То же чувство обиды и возмущения. Не то чтоб он никогда не видел их раньше. Но его коробила их безродность. Один из них, редактор Надеждин, даже хотел жениться на его сестре-писательнице… Разве можно было допустить такое?
Их древний род. Ему и сегодня была непонятна ее неразборчивость.
И все же теперь его интересовали их мысли. Ему льстило их восхищение.