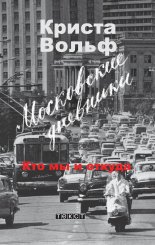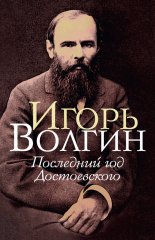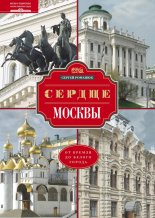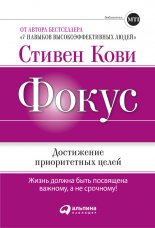Был целый мир – и нет его… Русская летопись Лазурного Берега Носик Борис
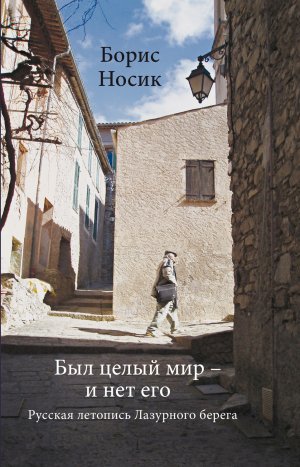
Вена вручила Сербии ультиматум. Сербия в основном приняла его, но австрийцы намерены были действовать решительно. Германия решила поддержать своего австрийского союзника. Роковые дни. Что скажет великая Россия там, в восточных далях? Очень умные люди были нужны, провидцы, гуманисты. Любопытно, что умные люди, горевшие патриотическим духом, у России были. Скажем, тот же Кривошеин… Но и он всей опасности неосторожных решений не понял.
А министр Сазонов, он что? Как скажут. Он всю азбуку знает. Сербы – славянские братья. Лозунг давно в ходу: славянское братство. Славянский мир. Сербы, хорваты, словенцы. Милые братья малороссы, братушки белоруссы. Вот еще и болгары есть. Тоже братья… Министр Сазонов вместе с начальником генштаба Янушкевичем отправился на прием к государю. Сазонов настаивал на объявлении всеобщей мобилизации. Государь колебался. В конце концов Вильгельм II заверял его, что все в порядке. Не чужой человек кайзер, близкий родственник. Сазонов убеждал, настаивал. Пришел его час…
Война спасительна. Франция, Англия с нами, есть секретное соглашение, все проблемы будут решены. И вся Россия встанет на защиту братьев-славян. Будет единство народа и трона.
Государь колебался. Наконец сдался.
Выйдя от государя, Сазонов предлагает Янушкевичу выбросить все телефоны. Вдруг во дворце передумают, начнут звонить об отмене мобилизации. А так, жребий брошен…
Так что всеобщая мобилизация имени Сазонова – это была катастрофа. Но вот, выжил Сазонов. Не свихнулся. Видно, крепок был его патриотический дух. Хотя и государя с семьей подставил, и всю Россию, и всю Европу. Страшная вещь – патриотический дух, малая грамотность при решении геополитических проблем, слабая вера в Бога. А что мобилизацию эту не Сын Божий придумал, в этом я просто уверен. Запах серы пополз по земле… До провинции он еще не успел дойти, а петербургская чернь уже громила витрины немецких лавок в едином патриотическом подъеме, сплотившись вокруг немецкого своего государя, немецкой государын и невинных немецких деток – четырех великих княжон и мальчонки-наследника.
Столица была в счастливом угаре. На заседании Думы все фракции, левые, правые, все заодно, все в экстазе! Суровый Сазонов рыдает от счастья… Кто видел рыдающего Сазонова? Самый счастливый день его жизни… Наш щит будет на вратах Цареграда.
19 июля (1 августа) Германия объявила войну России. Формально Германия объявила войну первой, это маленькая дипломатическая победа Сазонова, но кого этим обманешь? Он ведь уже объявил о всеобщей мобилизации. 21 июля Германия объявила войну Франции. 22 июля Великобритания объявила войну Германии. 16 октября Турция вступила в войну на стороне Германии.
Народное единение вылилось тогда в Петербурге в разгром немецких лавок, переименование «бурга» в «град», потом в революцию, в путч, в убийство царской семьи, в истребление крестьянства и профессионалов всех отраслей, в негативную селекцию общества…
Историки дружно говорят, что виновны в начале войны и кайзер Вильгельм II, и император Франц-Иосиф, и царь Николай II (он расплатился за всех), и президент Мильеран, и министры Бетман-Гольвег, фон Гетсендорф, и Янушкевич, и, конечно, Сергей Сазонов…
Министра Сазонова весть о русской революции застала на пути в Лондон. В 1916 году государь собрался заключить сепаратный мир с немцами, так что Сазонову пришлось уйти в отставку. Вот ему и предложили пост российского посла в Великобритании. Но до посольства в Лондоне он не успел добрался. В Петрограде все переменилось в одночасье. Потом Сазонов предлагал свои услуги профессионального дипломата Колчаку и Деникину, но они обошлись без него. Он осел в Ницце. Писал мемуары. Печатал какие-то статейки в «Иллюстрированной России», где главные полосы занимали красотки и кинозвезды. Жить в общем-то было не на что. Да и незачем. Жена, выбравшись на Запад, не поехала к нему в Ниццу. Да он и не прожил слишком уж долго. Похоронен был, впрочем, солидно, близ генерала Юденича. Разглядев надгробье его могилы, самые любопытные из туристов спрашивают у гида или смотрителя кладбища: «Это что? Тот самый Сазонов, который…» Услышав в ответ, что тот самый, который «способствовал», качают головой: ну и ну…
Документы обитателей Кокада, изданные ученым некрополистом Иваном Грезиным, затрагивают разнообразнейшие проблемы, с которыми сталкивались погребенные соотечественники при жизни. Взять, к примеру, прошение на Высочайшее имя, отправленное еще в 1885 году перезахороненной здесь через сорок лет (точнее, в 1923 году) княгиней ИТАЛИЙСКОЙ, графиней СУВОРОВОЙ-РЫМНИКСКОЙ, урожденной фон ДРЕЙЕР ЕЛИЗАВЕТОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ, сестрой Надежды Александровны фон Дрейер, которая, в свою очередь, была морганатической супругой великого князя Николая Константиновича:
В 1864 году я выходила замуж и только два года из 20-ти лет моего замужества жила в одном доме со своим мужем. Несколько раз я хотела развестись с ним, но желание покойного Государя не тревожить старика Суворова таким скандалом заставило меня покорно повиноваться разойтись с мужем миролюбно. Теперь же прошу Вашего Императорского Величества приказать выдать мне бессрочный вид на жительство в России и за границей. Князь хочет заставить меня жить с ним после 18-ти лет свободы и в противном случае хочет, чтобы я ему дала развод, чтоб жениться на какой-то барышне. Жениться князь не должен, ни лета, ни здоровье не позволяют ему этого, а чтоб мне не быть постоянно под его угрозой, припадаю к стопам Вашим и убедительно прошу исполнить мою просьбу.
Двенадцатого декабря 1885 года государь повелеть соизволил: «выдать отдельный вид на повсеместное в Империи жительство без обозначения срока и с правом на выезд за границу».
Столь же милостивое решение получила в 1904 году княгиня КАНТАКУЗЕН (урожденная НИКОЛАЕВА) ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА (1868–1950), бывшая внебрачной дочерью великого князя Николая Николаевича Старшего, замужем за князем Михаилом Михайловичем Кантакузеном, генерал-лейтенантом, адъютантом ее отца:
…по ходатайству Вел. Кн. Сергея Михайловича последовало соизволение на пожалование ей ежегодного пособия в размере одной тысячи рублей в месяц сроком на 5 лет, из Кабинета Е.И.В.
Похороненный на Кокаде СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ КАНШИН (1863–1944) был российским генеральным консулом в Ницце в 1906–1917 годах. Согласно документу
…окончил курс наук в Императорском Московском университете по юридическому факультету со званием действительного студента, о чем имеет свидетельство от 19.Х1.1887.
10 февраля 1889 г. определен в службу в канцелярию Московского губернатора канцелярским чиновником.
24 ноября 1892 г. назначен секретарем и драгоманом Консульства в Японии.
4 апреля 1896 г. назначен вторым секретарем Миссии в Берне.
С 19 мая по 24 декабря 1904 г. <…> управлял Генеральным консульством в Марокко.
21 июля 1906 г. перемещен консулом в Ниццу.
…награжден орденом Св. Владимира 4 ст. 7 февраля 1917 г.
Письмо Каншина на имя чиновника сербского Министерства иностранных дел Персиани 10.3.1928, Nice, 28, rue Verdi:
В прошлом году я встретился здесь с князем Арсением Александровичем Карагеоргиевичем, с которым у меня уже давно (со времени отбывания нами с ним воинской повинности в Петербурге) установились дружеские отношения. В разговоре с ним я объяснил ему наше (русских) теперь трудное и ненормальное положение в Европе, где мы лишены всякой поддержки и защиты и являемся даже лицами, лишенными советскими властями всякого подданства. Вместе с этим я заявлял ему, что я очень желал бы получить сербское подданство ввиду того обстоятельства, что нация эта является родственной нам по происхождению, культуре и религии. Князь Арсений Александрович обещал мне помочь в этом деле и надеялся, что ему удастся устроить это дело без того, чтобы я обязан был прожить в стране, на месте, известное время…
Письмо длинное и слегка напоминает шуточные стихи петербургского поэта ЛОЛО (Мунштейна), который вместе с женой, актрисой Ильнарской долго жил эмигрантом в Ницце и здесь же умер в 1947 году (об этих супругах мы подробнее расскажем дальше):
- Я жил в Европе вполне культурно
- (Ко мне на помощь друзья пришли).
- Я жил недурно и спорил бурно
- О злых проблемах родной земли.
- …Я думал, сгинут враги лихие!
- Мне луч спасенья сиял вдали…
- Теперь погас он! Прощай, Россия —
- Хочу быть сыном чужой земли!
- … Смеюсь сквозь слезы безумным смехом,
- Кричу: довольно лежать в пыли!
- Хочу быть сербом, хочу быть чехом,
- Хочу быть сыном чужой земли!
Как видите, бывший императорский генеральный консул и бывший любимец петербургских читателей поэт-юморист в равной мере ощутили под солнцем Ривьеры свое эмигрантское бесправие. Кстати, упомянутый в письме Каншина принц Сербский Арсен Карагеоргиевич был в России генерал-майором русской службы. Его сын, князь НИКОЛАЙ КАРАГЕОРГИЕВИЧ (1895–1933) похоронен на Кокаде вместе с супругой своей АВРОРОЙ ПАВЛОВНОЙ, урожденной ДЕМИДОВОЙ, а по второму браку пфальцграфиней ДИ НОГЕРА (1873–1904).
Надо отметить, что бывших дипломатов всех рангов на Кокаде великое множество. Скажем, статский советник ГЕННАДИЙ ГЕННАДИЕВИЧ КАРЦОВ (1869–1947), награжденный всеми возможными орденами и в разные страны командированный, или действительный статский советник КАРЦОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1857–1931), служивший секретарем Генерального консульства в Константинополе, затем в Мосуле и в Ведине, написавший затем воспоминания о внешней политике как стимуле народного хозяйства.
Бурную жизнь прожил ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ КРУПЕНСКИЙ (1868–1945). В 1889 году он с золотой медалью окончил Императорский Александровский лицей, а десять лет спустя, будучи уже вполне зрелым дипломатом, участвовал в обороне российской миссии в Пекине. Уцелев в этой стычке, он был позднее советником в русских посольствах в Китае, в Вашингтоне, в Вене и, наконец (в 1916 году), русским послом в Японии.
Кстати, и бывший русский консул в Японии АР-ТУР-КАРЛ ЮЛЬЕВИЧ ЛАНДЕЗЕН (1874–1935) похоронен в семейном склепе неподалеку от посла. Он закончил китайско-маньчжурско-монгольское отделение восточного факультета Санкт-Петербургского университета и служил воспитателем в пансионе знаменитого частного училища Я. Гуревича (оно и в сегодняшнем Петербурге высоко держит марку). В 1902 году он стал студентом Российской миссии в Пекине, а уже потом консулом в Японии. По всем известным причинам карьера молодого русского дипломата завершилась до срока.
Гораздо реже, чем военачальники, чиновники высокого ранга и дипломаты, встречаются на Кокаде, скажем, астрономы. Но и они есть, к примеру, КЛЕЙБЕР ИОСИФ АНДРЕЕВИЧ (1863–1892), магистр астрономии, приват-доцент Санкт-Петербургского университета, для поступления в который ему, между прочим (возможно, как лютеранину), понадобилось свидетельство о благонадежности. Еще мальчиком будущий астроном выучил три европейских языка, а на математическом отделении университета был удостоен серебряной медали за работу «О методе взаимных поляр», а потом и золотой за сочинение «Астрономическая теория падающих звезд». По окончании Клейбер был оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию. Как сообщает на основе сохранившегося документа И. Грезин,
Министр народного просвещения 31.3.1887 г. допустил магистранта к чтению лекций о приложении математической теории вероятностей к исследованию общественных явлений в качестве приват-доцента (в новом учебном году). Вступительная лекция «Предмет теории вероятностей и ее методы» была назначена на 7.9.1887 г. Министр народного просвещения 18.1.1888, «ввиду полученных Министерством сведений о приват-доценте С.-Петербургского университета Иосифе Клейбере» просит попечителя С.-Петербургского учебного округа сделать распоряжение о прекращении чтения им лекций.
Потом обнаружилось, что не все потеряно, и Клейбер «распоряжением министра от 29.8.1889 допущен к чтению лекций по курсу “Способ наименьших квадратов” с осени 1889 г.». Выяснилось, очевидно, что наименьшее зло все же не в приложении новых теорий, а просто в наименьших квадратах. Умер Клейбер совсем молодым в Ницце, куда приехал лечиться от чахотки.
Но конечно, не все постояльцы Кокада так себя при жизни мучили науками, как астроном Клейбер. Вот полковнику КЛИМОВУ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ (1884–1930) из Уральского казачьего войска и вовсе мало довелось учиться, а воевал казак хорошо, да и в эмиграции не пал духом, сколько народу кормил свежей курочкой…
Родом был Климов из станицы Глининской, вступил совсем молодым в 3-й Уральский казачий полк, ушел рядовым на Первую мировую, а вернулся уже есаулом. В 1918 году он был избран председателем Военного комитета Уральского казачьего войска, занимал в годы Гражданской войны всяческие руководящие должности, а когда казацкие силы были сильно потрепаны, совершил с остатками войска переход от Гурьева до форта Александровск, а оттуда еще дальше, аж в Месопотамию. Летом 1920 года он воевал в казачьей Персидской дивизии, был в ней начальником всей кавалерии. Позднее жил в Чехословакии, потом перебрался во Францию. И вот оказался на Ривьере, под Грассом. Здесь и развернулись его мирные казачьи таланты. Он создал образцовое куроводческое хозяйство и много бы чего еще мог совершить, но судьба судила иначе. Недоглядел за куроводческими хлопотами нагноение старой раны на ноге. Не ходил казак к врачам. Вот знаменитый его сосед по Грассу Иван Бунин никогда б не допустил такого. Всех врачей в округе обходил внимательный к здоровью писатель, самых знаменитых, уже и оставивших практику, вроде Бреза. От всех получал консультацию и успокоение. И денег за консультацию почитающие Толстого и Достоевского французские, русские, еврейские врачи, конечно, не хотели брать… А героический воин и куровод Климов упустил время, умер на больничной койке от гангрены сорока шести лет от роду.
Врачи тоже лежат на Кокаде рядом со своими пациентами. И знатные среди них были специалисты! Вот замечательный хирург, доктор медицины АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ КОЖИН (1870–1931), консультант по хирургии Санкт-Петербургского Николаевского морского госпиталя.
Еще приметное имя – княжна ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА КОЛЬЦОВА-МАСАЛЬСКАЯ (1851–1941). Ольга родилась в петербургской семье князя Н.А. Кольцова-Масальского и его второй жены Е.А. Ноинской. Девушка воспитывалась в Санкт-Петербургском институте благородных девиц ордена Св. Екатерины. Но матушка Ольги умерла, когда ей было 11 лет, и отец женился в третий раз. Ольга замуж не вышла, по слабости здоровья двадцати шести лет уехала в Ниццу и больше в Россию не возвращалась. Писала акварели, жила потихоньку. Ей было уже за сорок, когда в Петербурге умер отец, и все его обширное наследство (большое имение в Калужской области и второе в Псковской) перешли к Ольгиному родному брату Николаю, который был беззаботный кирасир и холостяк и о сестре думал мало, так что ей пришлось трудно. Об этих ее трудностях сироты, лишенной наследства, с сочувствием писал в ответ на какой-то запрос, то ли жалобу русский консул из Ниццы еще в 1904 году, сообщая, что княжна «принуждена зарабатывать средства к жизни уроками и живописью. Сильная конкуренция и собственная болезненность лишали ее часто возможности работать и заставляли неоднократно обращаться в местное Русское Благотворительство, ограниченные средства которого позволяли выдавать ей небольшое пособие».
Со времени написания этого письма княжна прожила в Ницце еще чуть не четыре десятка лет, писала акварели, давала уроки русского языка, а иногда и обедала в столовой удешевленных обедов в красивом зале при русской церкви на рю Лоншан, где нынче размещается читальня приходской библиотеки.
В годы Второй мировой войны в преклонных годах умерла в Ницце МАРИЯ АРСЕНЬЕВНА ЛЕМАН, урожденная КАРАМЫШЕВА (1856–1942). Родилась она в Луге, была воспитанницей Императорского воспитательного общества благородных девиц, училась в Мариинском институте, была инспектрисой сиротского института Императора Николая I и Александровского сиротского женского профессионального училища. В прелестную девятнадцатилетнюю Марусю Карамышеву влюбился молодой поэт Семен Надсон, живший неподалеку от их лужской усадьбы. В ранних его стихах мелькает романтический ее силуэт…
Из многочисленных представителей рода Коцебу, похороненных на Кокаде в семейном склепе и в близлежащих могилах, в памяти поколения остались граф ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ КОЦЕБУ (1884–1966), полковник лейб-гвардии Уланского полка, бывший комендант царскосельского дворца, a также полковник АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ КОЦЕБУ (1876–1945), адъютант великого князя Николая Николаевича, а в 1915 году адъютант главнокомандующего Кавказской армии.
Из похороненных на Кокаде представителей княжеского рода Кочубеев в Ницце особенно часто поминают княгиню ЕЛИЗАВЕТУ ВАСИЛЬЕВНУ КОЧУБЕЙ (1821–1897). Эта «краса черкасских дочерей» по-кочубеевски широким жестом подарила городу Ницце свой роскошный дворец, в котором разместился Музей изящных искусств Жюля Шере. Конечно, чтобы заполнить таких размеров и роскоши музей произведениями искусства, провинциальной Ницце нужна по меньшей мере еще одна столь же богатая и щедрая княгиня, а богатые князья нынче в диковину, Кочубеи тем более…
Представители княжеского рода Кропоткиных, похороненные на Кокаде, были главным образом офицерами, гусарами, драгунами, из Кадетского корпуса выходили в кавалерийские училища, сражались против большевиков, женились на барышнях Гагариных, Бибиковых, Галаховых, Щербатовых… Всех превзошел ротмистр СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КРОПОТКИН (1853–1931), который женился четыре раза, в последний раз на княжне ЕВГЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ ГАГАРИНОЙ (1871–1952), но в мирную эмигрантскую жизнь, пожалуй, удачнее прочих вписался выпускник Пажеского корпуса, полковник лейб-гвардии Уланского полка князь ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ КРОПОТКИН (1878–1943), который по примеру казака Климова занялся на Лазурном Берегу разведением кур.
В истории российской дипломатии видную роль сыграл старинный княжеский род, один из вполне симпатичных представителей которого похоронен на Кокаде. Речь идет о роде князей Куракиных, потомков литовского великого князя Гедимина. Первый из них приехал в Москву в начале XV века и сразу породнился с царем. А соратник и свояк Петра Великого Борис Иванович Куракин, женатый на Лопухиной, был первым настоящим заграничным послом империи. Покоящийся же на Кокаде АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ КУРАКИН (1875–1941) был государственным деятелем, членом Второй думы, церемониймейстером двора, видным землевладельцем Орловской губернии. Родился он в Санкт-Петербурге, учился на юридическом факультете Харьковского университета, служил в лейб-гвардии Преображенском полку, был предводителем дворянства у себя в Малоархангельском уезде Орловской губернии, где имел 5000 десятин земли, и немало хлопотал о проблемах сельскохозяйственной общины. Сблизился с семьей соседа по имению, бывшего французского беженца, ставшего русским генералом (генерал Сергей Олив), и женился на его старшей дочери Софье. Ну а потом были война, в годы которой он был уполномоченным Российского общества Красного Креста, были революция и большевистский переворот. В первый раз его арестовали в 1920-м, выпустили в 1922-м, снова арестовали в 1923-м, он отбывал ссылку в Усть-Сысольске и в Вятке, прожил в Вятке до 1932 года, перебрался ближе к Москве, в Тарусу. Работал старшим бухгалтером женской вышивальной артели. В 1933 году князя А.Б. Куракина снова арестовали.
О дальнейшей судьбе князя мне со слов его дочери рассказала Мария Борисовна Авриль, которая работала с Анной Александровной Куракиной в Национальной библиотеке Франции.
– Ну и что с князем произошло в тридцать третьем году? – спросил я. – Отчего он не был расстрелян?
– Вы представить себе не можете! – В голосе Марии Борисовны звучало несомненное удивление. – Они их всех продали… И Александра Борисовича, и Софью Сергеевну, и дочку, и бабушку. А еще продали одну икону и два портрета Боровиковского. Продали во Францию. Вы можете себе представить?
– Могу, – сказал я уныло. – Гитлер продавал живых евреев. Позднее свободный Вьетнам продавал, свободная Куба… До сих пор террористы торгуют…
Куракины уехали в Ниццу. Родители занимались общественной работой. Дочь выучилась на библиотекаря. Князь давал бедным соотечественникам бесплатные юридические консультации. Он прожил на свободе недолго. Туберкулез его добил.
Одними из немногих лично мне знакомых нынешних обитателей русского Кокада я мог бы назвать двух братьев: ЮРИЯ БОРИСОВИЧА ЛАСКИНА-РОСТОВСКОГО (1909–2000) и Николая Борисовича. Мы впервые разговорились с ними в читальном зале приходской библиотеки в Ницце на рю Лоншан, и мне было очень интересно познакомиться и побеседовать с братьями, так много знавшими и помнившими о былой жизни русской Ниццы. Собственно, беседовал со мной, все мне объяснял и показывал, гуляя по Ницце, Юрий Борисович. Младший брат, как правило, не раскрывал в его присутствии рта и только смотрел на старшего восхищенно. Между тем именно Николай Борисович представился мне как бывший журналист, тогда как Юрий (или Георгий) Борисович был просто торговцем, или, как он говорил, генеральным агентом торговой компании. Жил Юрий Борисович неподалеку от моего дома в Северной Ницце, и, когда мы проходили вместе с ним по улице Малоссена или по «самому русскому» некогда бульвару Гамбетта, Юрий Борисович говорил вполголоса, как бы вспоминая: «Вот здесь был бар князя Вяземского… А тут гараж генерал-майора Апрелева… Собственно, они работали вместе с моим отцом…»
Иногда Юрий Борисович рассказывал мне историю из мифических, легендарных времен, когда у ростовского князя были сыновья и дочери со сказочными именами Лобан, Касатка, Ласка… Вот, мол, и бродят теперь по южному берегу Франции княжеские потомки с именами Лобановых-Ростовских, Касаткиных-Ростовских, Ласкиных-Ростовских. Когда я вернулся в Ниццу, дописав в Шампани свою книгу о Лазурном Береге, Юрий Борисович уже упокоился на Кокаде, в семейной могиле, где были похоронены его отец и мать.
Отец братьев БОРИС ГАВРИЛОВИЧ ЛАСКИН-РОСТОВСКИЙ (1887–1968) родился в Харькове, в семье коллежского советника, учителя русского языка и словесности Гаврилы Александровича Ласкина. Вот откуда, возможно, и у сына его, подпоручика, и у знакомого мне некогда внука было такое поэтическое воображение. Борис Гаврилович закончил перед самою Великой войной юридический факультет Московского университета. Окончив юрфак, Борис Гаврилович стал служить земским начальником Первого участка Порховского уезда Псковской губернии. Но тут разразилась Первая мировая. В 1916 году Борис Гаврилович окончил ускоренные курсы при Пажеском корпусе прапорщиком, был зачислен в гвардейскую артиллерию, но по здоровью на фронт не попал. Еще до окончания университетского курса, не предвидя, как и большинство россиян, будущих крутых перемен, Борис Гаврилович озаботился официальным признанием своего дворянского происхождения. Дворянское звание по заслугам получил некогда его дед, действительный статский советник Александр Яковлевич Ласкин, покинувший наш мир в 1884 году. Услуги дворянина Б.Г. Ласкина сгодились вскоре после революции 1917 года недолговечному Временному правительству, о чем сообщает на основании документов И.И. Грезин: «При Временном правительстве, будучи в чине подпоручика, был прикомандирован к посольству в С.А.С.Ш., где занимался секретной шифровальной работой».
Правительство было свергнуто, ехать с семьей посольскому секретчику и дворянину в пылающую Россию было не только бессмысленно, но и опасно, и они поплыли в теплую Ниццу, где было безопасно, но голодновато. Вот тут и пришлось искать подпоручику способы прокорма семьи, потому что сбережений хватило ненадолго. В пору этих поисков и пришла на ум отцу семейства мысль о поддержке, которую могло бы оказать громкое имя. Великий князь Кирилл Владимирович, кстати, был в то время неподалеку от Ниццы и вполне благорасположен, а он как наследник престола многое мог подтвердить. Тогда-то подпоручик Б.Г. Ласкин и стал, вероятно, Ласкиным-Ростовским, как бы прямым потомком Рюриковичей, и этой перемене имени может только посочувствовать всякий человек, наблюдавший попытки новых эмигрантов сохранить достоинство в условиях отчаянного падения их социального уровня в чужой стране. Автор этих строк впервые наблюдал это забавное явление на русском пляже в заокеанском Массачусетсе, где, представляясь новичку, еще не успевшему в первый раз опробовать ногой температуру воды, кто-нибудь уже протягивал дружелюбно руку, представляясь:
– Бескин… (или Брискин). Из Харькова. Инженер… – А потом вдруг прибавлял, доверительно глядя в глаза: – Главный инженер…
Автор далек от какой-нибудь жестокой насмешки или низкородного злорадства. Вот, скажем, и добродушный владыка митрополит Евлогий любил рассказывать вполне сходную эмигрантскую историю про трех старушек, которые вспоминают своих покойных мужей: «Мой муж был генерал, говорит первая, а мой был адъютант, говорит вторая, а мой был… начинает третья, терзая бедную память, но подруги немедленно ей напоминают, что она таки не была замужем, осталась в девушках…»
Что касается вполне к генеалогической сфере равнодушного автора этой книги, то он бы вообще не стал касаться звания и громкой фамилии спутника былых своих прогулок по Ницце, но добросовестное отношение к трудам знатоков генеалогии и некрополистики (в первую очередь А.А. Шумкова, выступавшего на конференции в Пскове с сообщением «Порховский дворянин Борис Гаврилович Ласкин и его род», и, конечно, исследователя Кокада И.И. Грезина) не позволяет пройти мимо их находок.
Так, И.И. Грезин в своей книге о Кокаде дважды дает сноску к двойной фамилии Ласкин-Ростовский, настаивая на неправомерности ее употребления: «Двойная фамилия – плод мистификации. Настоящая фамилия – Ласкин / Laskine (см. Примечание…)». В примечании же ученый так пишет о поступке Б.Г. Ласкина:
В эмиграции самовольно и без каких-либо исторических оснований стал называть себя «князем Ласкиным-Ростовским», что нашло отражение и в надписях на памятниках. Семья Ласкиных происходит из архангельских купцов, известных с середины XVIII века. Даже если допустить, что они действительно потомки Рюрика и происходят от ростовских князей, то следует отметить, что в Российской Империи за ними никто этого никогда не признавал, и в Правительствующий Сенат за признанием титула никто из них никогда не обращался.
То есть первым дворянство получил Александр Яковлевич Ласкин (1812–1884), a уж его внук обратился за тем же в XX веке. Ну а я гулял с его правнуком по Ницце в последний год треклятого XX века, и он рассказывал мне о скудной их эмигрантской юности в этой некогда великокняжеской Ницце. Помню, мы остановились на авеню Оранж близ бульвара Гамбетта, и Юрий Борисович сказал мне жалобно:
– Вот тут бывали танцы у младороссов. Громкая музыка. Девушки… Но отец не велел нам с братом сюда ходить.
Я похвалил осторожность их батюшки Борис Гаврилыча. Секретчик из посольства, он наверняка догадывался, что на таких балах бывают не только девушки, но и профессиональные сеятели ностальгии, выполнявшие свой долг. Впрочем, куда от них денешься. И куда было деться от взаимных подозрений в униженной оголодавшей межвоенной эмиграции.
Кстати, о голоде…
Братьев Ласкиных я впервые повстречал в приходской библиотеке Ниццы, что на рю Лоншан. Перечитывал эмигрантские воспоминания генерала Масловского, который заведовал этой библиотекой до самого 1963 года. Прочитал про «столовую удешевленных обедов», поднял глаза от рукописи (полвека спустя все еще рукописи!), увидел двух братьев Ласкиных, скучавших над листом «Русской мысли», и спросил, мало надеясь на ответ:
– И где ж она была в Ницце, эта замечательная столовая удешевленных обедов?
Но в ответ старший из братьев, Юрий Борисович, которому было уже лет девяносто, постучал через лист «Русской мысли» по столешнице и сказал с большим одушевлением:
– Вот здесь мы и обедали, за этим самым столом.
Растроганный таким впечатляющим путешествием во времени, я спросил, глядя на братьев, на золоченые корешки книг, на бывший обеденный стол:
– И вкусные были обеды?
– Да, вкусные. Сытные. И суп. И десерт… – с чувством припоминал Юрий Борисович.
– Да еще и удешевленные… И кто же это придумал?
– Маркиз Меронвиль де Сен-Клер, – торжественно сказал Юрий Борисович, и я удивился еще больше:
– Маркиз? Француз?
– Вообще-то он говорил по-русски, – неуверенно сказал Юрий Борисович. – Но жил в Ницце. На бульваре Гюго у него была вилла.
С того дня прошло много лет, и я нашел на Кокаде могилу маркиза Меранвиля де Сен-Клера (почему-то надгробье без дат жизни и смерти). За эти годы и сам Юрий Борисович перебрался к родителям на Кокад, а я узнал кое-какие подробности про Меранвиля и Меранвилей, но история «удешевленных обедов» по-прежнему казалась мне и трогательной, и удивительной, равно связанной с историей Франции и России, где время от времени происходят революции, от которых людям приходится бежать. И всегда находится в небезгрешной человеческой душе (хоть русской, хоть французской, хоть какой) уголок для доброты и энергия для добрых дел.
Так вот, КОНСТАНИН НИКОЛАЕВИЧ МЕРАНВИЛЬ ДЕ СЕН-КЛЕР, бежавший некогда из Архангельска в Ниццу и упокоенный на Кокаде… Начну с того, что самый первый из Меранвилей, появившийся в России, тоже был беженец. Он бежал в Россию от кровавой французской революции и от кумира свободолюбивой французской нации самозванца Буонапарте. Принят он был в России вполне ласково, удостоен в 1813 году русского гражданства и восстановлен в дворянском звании, вскоре вступил в гвардию и пошел воевать против французского супостата, а к 1817 году Андре Меранвиль был произведен в чин поручика. Теперь он смог жениться на майорской дочери, девице Смородинской, в связи с чем теща, майорша Настасья Смородинская, подарила французскому зятю небольшое поместье в Касимове с двумя десятками крепостных, так что стал Меранвиль Андрей Степанович (так он велел себя звать отныне) обычным касимовским помещиком. И ста лет не прошло, как рассеялось меранвиль-сен-клеровское племя по всей необъятной стране, аж до самых дальних восточных берегов России. И все верно служили новой своей родине, главным образом по военной части, даже и на видных постах, хотя иногда, впрочем, и на вполне скромных. Был, к примеру, один из Меранвилей простым железнодорожным кассиром на дальневосточной станции, хотя в тех же краях начальником всей полиции Уссурийской железной дороги был другой Меранвиль, жандармский полковник Андрей Николаевич Меранвиль де Сен-Клер (вся грудь в орденах). Еще дальше пошел по службе родной его брат Константин Николаевич, тоже бывший полковником корпуса жандармов и адъютантом в высочайшей петербургской инстанции. Вот об этом Меранвиле, похороненном на Кокаде, у нас и пойдет главным образом речь. Супруга его Ольга, происходившая из знатной семьи Лопатиных, была не только собой хороша, но и предприимчива, склонна к умножению недвижимости, уже владела домом на Невском проспекте столицы и к тому же двумя квартирами (на Большой Конюшенной и на набережной Мойки), но, поскольку аппетит приходит во время еды, мечтала о новых приобретениях. Супруг ее старался всеми силами этим ее честолюбивым мечтам споспешествовать, даже и не вполне надеясь на свое немалое жалованье, однако горячее это стремление привело к одному весьма печальному (а может, в конечном счете, наоборот, к неожиданно спасительному) вполне уголовному происшествию…
Случилось так, что умер один старый и весьма богатый отставной генерал по фамилии Попов, оставивший после себя весьма внушительное имение, а также двух взрослых сыновей Павла и Юрия, причем Павел успел еще при жизни отца рассердить генерала своевольной своей женитьбой и был по отцовскому завещанию лишен всякого наследства. Однако мягкосердечный Юрий все же не оставил брата нищим, выделил ему немалую толику состояния (150 000 наличными рублями и еще 360 000 рублей заемными письмами), после чего уехал в город Париж, где лечил у французского медика свои слабые нервы. Однако брату Павлу такая доля наследства показалась недостаточной, и задумал он правдами-неправдами выжать из хворого брата хотя бы еще мильон-другой. Для осуществления этого коварного плана понадобилась Павлу помощь какой ни то устрашающей, бесцеремонной фигуры. Именно такой и показалась ему фигура жандармского полковника Константина Меранвиль де Сен-Клера, которому он предложил 60 000 неслабых тогдашних рублей за осуществление хотя и не слишком трудной, но и не вполне чистоплотной операции. Самое печальное было в том, что этот представитель славного французского рода и работник не менее славных силовых органов не устоял перед соблазном, а сразу отправился в Париж, разыскал там бывшего на исцелении Юрия и пригрозил ему якобы назревшими карами (вплоть до конфискации имущества) со стороны жандармерии и Императорской Главной Квартиры за несправедливый якобы раздел наследства. Испуганный Юрий обещал немедленно дать брату еще полмиллиона, а потом еще и еще. К тому и шло, однако каким-то образом слухи о преступном и грязном поступке жандармского полковника просочились наверх, и, как ни была слаба русская юстиция, она взяла да и привлекла Меранвиля к ответу. Судили его весной 1897 года в Петербурге, и, лишенный «всех званий и привилегий», К.Н. Меранвиль отправился в ссылку в город Архангельск. После Петербурга и Парижа северный климат и деревянные тротуары города привели разжалованного жандарма в отчаяние, и решил он бежать. Выпросив у властей отпуск из ссылки для поездки в Киев к больной якобы матушке, многоопытный жандармский полковник подделал чужой паспорт и, прихватив что было, сбежал из Киева во Францию, где и поселился в Ницце. История эта наделала тогда немало шуму в русской печати. Писали о ней все, кому не лень. Один начинающий журналист с юридическим образованием по фамилии Ульянов упрекал тогда в своей заметке русское правосудие в мягкости и беспечности: разве можно так близко ссылать, да чтоб еще и сбежать могли. Конечно, никто тогда не обратил внимания на яростного молодого человека, еще и не имевшего серьезного опыта ни в юстиции, ни в журналистике, а напрасно. Можно сказать, проморгали восходящую звезду, потому что когда этот молодой человек стал во главе всей России, то доказал, что у него репрессии могут быть куда круче, чем при проклятом царском режиме. А эту забытую ничтожную заметку верноподданные Ульянова разыскали и напечатали в шикарном многотомном собрании сочинений…
Однако вернемся к нашему беженцу. Бежал он, скорей всего, не с пустыми карманами, так что поселился на собственной вилле в самой роскошной части Ниццы (на бульваре Виктора Гюго). Помаленьку он окреп, оправился от уголовных невзгод и лет через семь отправил на Высочайшее Имя в Петербург прошение о «помиловании измученному и исстрадавшемуся человеку». Прошение не вдавалось в суть случившегося, но написано было очень трогательно, с упором на сострадание и возвращение кое-какого имущества.
Почти десять лет назад меня постигло величайшее бедствие… я был осужден и приговорен к лишению всех лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и к ссылке на житье в Архангельскую губернию. Ужас постигшего меня приговора, ссылка и пребывание в г. Архангельске в качестве ссыльного уничтожили мое здоровье. Последствием моего болезненного состояния явилось то, что я самовольно покинул отечество…
К прошению жуликоватый полковник приложил старую справку от киевского врача о том, что пребывание в захудалом Архангельске опасно для цветущей жизни молодого полковника.
Министерство юстиции, получив этот эпистолярный шедевр, проявило гуманность к бывшему коллеге. И правда, не повезло человеку, у людей все путем, а он попался. И как столичному человеку в портовом Архангельске, где, как поет Александр Городницкий, «мостовые скрипят как половицы»? А потому предложило Министерство юстиции освободить беднягу «от пребывания в ссылке» (где его уже восемь лет как не было), но «без восстановления в правах имущества».
В общем с имуществом номер не вышел, но здоровье у беженца точно поправилось, опасности для жизни больше не было: полковник прожил еще пятьдесят лет на вилле «Баки» в благодатном ривьерском климате. Но и еще кое-что новое и приятное случилось с бессовестным, казалось, русским жандармом французского происхождения. Прошло лет двадцать, и пришли в Россию революция и большевистский путч, вроде тех, от которых бежал когда-то из Франции в Россию Андре Меранвиль, да что там, еще похлеще. И вот стали появляться в Ницце испуганные, измученные, все потерявшие, кроме жизни, русские беженцы. Да еще из таких, к кому в былые времена полковник не попал бы и в переднюю: министры, гофмейстеры, великие князья, крупные заводчики, фрейлины императрицы… Иных из них даже видел когда-то полковник Меранвиль де Сен-Клер, но издали. И тут что-то дрогнуло в груди стареющего русского француза. Появилось нечто, совсем непохожее на былое жлобство. Стал Константин Николаевич Меранвиль де Сен-Клер одним из самых активных деятелей русской благотворительности, одним из главных энтузиастов взаимопомощи и прокормления русских бедолаг. «Удешевленные обеды» на рю Лоншан были среди его главных забот. Имя его совсем по-новому зазвучало в разговорах, в эмигрантской переписке. О личности его любой мог сказать: светлая. А что раньше было – никто и вспомнить не мог. Да и какое кому дело? Кто ж и при каком режиме не брал в России лишнего…
А вот пожалеть ближнего, это не всякий мог.
И, глядя издали, можем сказать: умер в Ницце уважаемый, оплаканный многими русский маркиз-соотечественник. Из тех же Меранвилей, которые после прихода к власти соратников журналиста Ульянова остались в России, мало кто уцелел. И того, что был революционер-меньшевик, а потом стал большевик и возглавлял народную власть в Белгороде (Леонид Александрович Меранвиль), и того, что был станционный кассир, а потом глубоким стариком прятался в деревне (Сергей Николаевич Меранвиль), и разных прочих потомков Андре Меранвиля – всех почти поставили к стенке во имя негативной селекции населения и усиления народного испуга.
Говоря о служителях муз из числа покойных русских эмигрантов всех «волн», можно заметить, что они и в «старое доброе время» во множестве посещали волшебный этот берег, даже подолгу на нем жили, но умирать уезжали обычно поближе к семье, к друзьям, к привычному окружению – кто в Москву и Петербург, а позднее – в Париж, в Берлин, в Прагу, a кто и в Нью-Йорк. Впрочем, были среди них и такие, кто нашел упокоение на живописном Кокаде. Вот, скажем, ЛУКОМСКИЙ ГЕОРГИЙ КРЕСКЕНТЬЕВИЧ (1884–1952). Замечательный был художник – акварелист, график, художественный критик и знаток архитектуры, историк, краевед, плодовитый журналист и писатель… Родился он в обедневшей дворянской семье в Калуге, чуть не с девяти лет учился рисованию, а с девятнадцати изучал архитектуру в Казани и в Санкт-Петербургской Академии художеств и получил звание архитектора. Однако он не прекращал учиться, занимался классической литературой в Румянцевской библиотеке, историей в Историческом музее, прикладным искусством в Строгановском училище. И конечно, странствовал без устали по старинным городам России, Германии, Франции, Испании, Швейцарии, где оживали под его пером, резцом и кистью старинные шедевры архитектуры. Он рано сблизился с «Миром искусства» и с журналом «Аполлон», в 1909 году в салоне Маковского прошла его первая выставка, потом уж их было много, и в России, и за границей.
Старинная архитектура, старые города Европы были его страстью, он создавал серии пастелей, акварелей, рисунков, а позднее издал двадцать две книги про церкви, жилища, синагоги («Старый Париж», «Старая Казань», «Старая Варшава», «Старый Киев»…). Он не чурался службы, работал в комиссиях по сбережению художественного наследия. Начинал эту работу в Петербурге, продолжал в 1918 году в Киеве, но с приходом Добровольческой армии, опасаясь подвергнуться репрессиям как «советский служащий», уехал дальше на юг, потом в Константинополь, потом в Берлин, а с 1925 года до конца своих дней (больше четверти века) жил во Франции. При этом он много раз выставлялся дома (еще и в 1928 году его выставляли в Казани), получил несколько высоких французских наград, очень много писал, печатался в русских эмигрантских изданиях, а часто и во французских художественных журналах. Работы его найдешь и во французских музеях. Такой вот замечательный был художник, историк искусства, знаток архитектуры, писатель-труженик.
Другой, пожалуй, еще более известный русский художник, похороненный на Кокаде, – ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ МАЛЯВИН (1869–1940). Удивительный живописец, и жизнь у него была удивительной… До самой преждевременной (семидесяти с небольшим лет) его смерти казалось: вот счастливчик, баловень судьбы. Родился он в уральской глуши, в селе Казанка, по сравнению с которым и Бузулук, и Тоцкое Оренбургской области были маяки просвещения. Когда юный крестьянский сын Филипп Малявин запросил из Петербурга у сельского схода разрешение поступить «в учебное заведение по науке живописи», 169 односельчан поставили на «временном увольнительном договоре» свою корявую подпись, но из них 162 не умели читать. Учебным заведением, куда он поступал, была не больше не меньше как Санкт-Петербургская Академия художеств, но еще до нее побывал сельский паренек на берегу Эгейского моря… Впрочем, начну по порядку.
Родился Филипп в многодетной крестьянской семье, так что неотступная детская мечта была, понятное дело, наесться досыта. Однажды, в зрелые годы, приехав в шведский город для устройства выставки своих картин, вспомнил художник за столом гостиничного ресторана «Савой» былое деревенское застолье, вспомнил и записал: «…когда ешь хлеб, нельзя крошки терять – грех! Говорить нельзя – грех, а смеяться и подавно, иначе по лбу получишь ложкой!»
Вторая была с детства мечта – рисовать. Откуда берется у ребенка такая мечта? Между прочим, на другом конце Российской империи, в польско-еврейском местечке Смиловичи, у соседей моей бабушки, многодетных и нищих Сутиных, был такой же вот сын-подросток: только б ему рисовать весь день (и тоже, между прочим, стал звездою Парижа, и тоже умер под немцем в военный год).
Юный Филипп Малявин рисовал чем попало и где попало, а когда было ему шестнадцать, приехал к ним в Казанку один русский монах из монастыря на греческом Афоне. От него Филипп и услышал об иконописном занятии, отпросился у отца в дальнюю дорогу. С тем монахом и уехал. Как кормились дорогой, понятное дело: пели, просили подаяния. А все же добрались, увидели теплое Эгейское море. Из двадцати монастырей Афона монастырь Святого Пантелеймона, под сень которого вступил юный Филипп, был к концу XIX века и «самым русским» (с 1875 года и службы велись в нем на русском, и настоятель был русским), и одним из самых многолюдных (до тысячи монахов). Обучение иконописи у юноши шло быстро, но копировать годами одни и те же иконы на продажу было ему скучновато. Иногда, впрочем, писал Филипп для себя морские пейзажи, а иногда и в его копиях икон прорывались не поощряемые оригинальность, размах, красочное буйство.
Режим в монастыре Святого Пантелеймона был строгим, но молодому иноку повезло с наставником. Отец Гавриил был добр к нему, не позволял зачахнуть его здоровью в келье. А потом и вовсе случилось чудо. Вытребовал к себе инока в Бузулук воинский начальник, потому что пришел срок Филиппу служить в армии. Посмотрел бузулукский воинский начальник на странного призывника Малявина, спросил у него, чем он, длинноволосый инок, там, в Греции, занимается, и всего-то попросил… намалевать для его супружеской спальни на полотне почтовую тройку, ну и отпустил волосатого юношу обратно за границу, едва просохла «почтовая тройка» на полотне. Бывали же на Руси такие бескорыстные чудаки…
А на седьмом году иноческого послушания произошло с Малявиным на этом знаменитом чудесами Афоне новое чудо. Приехал туда поработать знаменитый в ту пору в России скульптор Владимир Беклемишев, академик, ректор Академии художеств, не то чтоб впечатляющий скульптор, но, что для нашей с вами истории важнее, человек хороший, добрый, отзывчивый и с чутьем настоящим. Попал он в монастыре Святого Пантелеймона в цех, где писали иконы на продажу, увидел малявинские ни на кого не похожие копии (потом еще показал ему инок маленький морской пейзаж), и понял петербургский гость: талант не спрячешь! Забрал этот влиятельный и богатый скульптор Малявина с собой в Петербург, поселил у себя дома и стал готовить его к поступлению в академию. Инок во всем благодетеля слушался, но неглупый хозяин дома заметил, что послушание у афонского инока «наружное», что склонен он к задумчивости, «до всего доходит сам», своим умом, а учиться очень хочет, хоть никогда еще толком и не учился. Позднее он так и написал о своем постояльце: «Все жадно его интересовало, и особенно поражало все то, что он узнавал из области науки».
Наконец пришел из далекой Казанки «Временный увольнительный приговор…» общины, и двадцатитрехлетний иконописец смог поступить в Академию художеств. Учился у Верещагина, у Чистякова, у Венига, а через два года пришел в академию И.Е. Репин и взял Малявина к себе. Учился Филипп вместе с Грабарем, Сомовым, Остроумовой-Лебедевой и написал всех троих соучеников портреты, которые и купил для своей галереи знаменитый Третьяков. Портреты Малявин и впрямь написал прекрасные, однако близко ни с кем из однокашников не сходился и вообще производил в студенческой толпе странное впечатление. Вот как рассказывала об этом острая умом Анна Остроумова-Лебедева:
Мое внимание было зацеплено странной фигурой. Юноша в необычной одежде. Похоже на монашеский подрясник. На голове шапочка, вроде скуфейки. Низко надвинутая на глаза. Из-под нее висят длинные волосы до плеч. <…> Простецкое лицо. <…> Перед началом занятий он, ни с кем не здороваясь, с опущенными глазами, прошел к своему месту и тихонько стал развертывать свои рисунки. Потом, оглянувшись кругом, он торопливо перекрестился, что-то бормоча про себя, перекрестил рисунок и принялся за работу.
Так что кое-кого и удивило, что знаменитый Репин выбрал это чудище себе в ученики (как удивляло многих тогда на парижской окраине, что «тосканский принц» Модильяни выбрал из толпы местечковой молодежи это пугало Сутина и взял его себе в собутыльники).
Замечено было, что и темы картин у этой деревенщины были странными и однообразными. Сперва – крестьянские девушки, потом, когда девушки созрели, пошли бабы: «Баба» (1904), «Две бабы» (1905), дальше «Три бабы» и, в порядке уточнения, «Две девки»… Известность к странному художнику пришла совсем скоро. Уже и критика отмечала в его картинах «звучный цвет», монументальность, стихийность характеров, декоративность… Позднее «малявинские бабы» и вообще вошли в искусствоведческий и разговорный обиход.
Конкурсная (на звание художника) картина Малявина «Смех» наделала шума. Академическая комиссия пришла в ужас, студенту грозил провал. Репин, который отстоял своего ученика, так рассказывал об этом:
По поводу академических выпусков теперь была у нас бурная баталия из-за Малявина. Этот неукротимый, блестящий талант совсем ослепил наших академиков. Старички потеряли последние крохи зрения, а вместе с этим и последние крохи своего авторитета у молодежи.
И художественная молодежь, и пресса поддержали малявинское буйство красок, хотя влиятельный Стасов крыл этот «Смех» почем зря. Но уже было кому вступиться за молодого художника и кроме Репина. В отчете о новой художественной выставке журналист-искусствовед (из первых в России) Александр Бенуа лихо написал в газетном обзоре: «Самое главное явление на выставке <…> картина г. Малявина. Слава Богу, на ней можно вздохнуть, вот наконец талант…»
А когда повезли «Смех» в Париж на выставку, он там получил золотую медаль. Теперь много что приходило в Париж из рвавшейся вперед культурной России, где грянул «серебряный век». Малявин стал одной из звезд на его небосклоне.
На выставке «Мира искусств» Малявин показал картину «Вихрь». Тут уж пришла слава. Вдобавок репутация провидца. В воздухе пахло вихрями, бурей и тревожным (то ли праздничным) разливом крови на портретах победоносных малявинских пейзанок.
Тридцати семи лет от роду не сильно грамотный Малявин был избран в Академию художеств и отправлен за ее счет в трехлетнее заграничное путешествие. Щедрость тогдашней растущей России была неповторима и несравненна…
Правда, новая долгожданная картина Малявина («Семейный портрет») большого успеха не имела, но критика привычно отметила растущее умение художника.
Малявин уехал с семьей в Рязань, работал сосредоточенно, размышлял над смыслом происходившего, а когда переехал в Москву, чтобы подготовить свою выставку, в России уже водворилась новая власть. Поскольку он принял ее спокойно и задумчиво, она встретила этого как бы певца трудового крестьянства благосклонно. Малявину разрешили ходить в Кремль и даже в квартиру самого труженика Ленина, чтобы подвигнуть знаменитого портретиста на сотворение его образа, что Малявин и осуществил. Впрочем, задумчивость не покинула недавнего инока. В 1922 году этот признанный благонадежным крестьянский сын уехал с семьей для организации своей выставки в Париже, да там и остался, подтвердив наблюдение Беклемишева, что завезенный им некогда в столицу инок человек думающий, себе на уме.
Во Франции Малявин ухитрялся живописью кормить семью, конечно, часто повторялся, писал ожидаемых от него «малявинских баб» и новые портреты знаменитостей (балерины Балашовой, певицы-патриотки, агента НКВД Надежды Плевицкой), устраивал новые выставки в различных европейских столицах, а постоянно жил в Ницце. Картины его больше не поражали русскую публику, а кое-кто из былых его русских поклонников (например, певец Шаляпин) даже поговаривал, что краски его потускнели, словно бы полиняли. Однако художник продолжал работать, и картины его продавались неплохо. Но вот к постаревшему русскому мастеру из Ниццы подкралась беда. Семидесятилетие застало его в Брюсселе, где он готовил свою новую выставку. Когда немцы пришли в Бельгию, бдительные нацистские силовики схватили старика, который ничего не мог им объяснить не только по-немецки, но и ни на каком из языков, кроме подозрительного русского. Позднее приехало более грамотное начальство и знаменитого художника, во всем разобравшись, выпустили из кутузки. Он был болен, испуган и, ни с кем не советуясь, упрямо пошел пешком в Ниццу. Добравшись до Лазурного Берега, он слег почти сразу и больше уже не встал…
В одной могиле с великим отцом лежит дочь художника ЗОЯ ФИЛИППОВНА МАЛЯВИНА. Она была замужем за художником Леонардом Бенатовым (Леоном Буниатяном, уроженцем нынешней турецкой Армении), который поселился в Париже, близ Монпарнаса, по соседству со знаменитыми русскими художниками Юрием Анненковым, Зинаидой Серебряковой и Павлом Мансуровым. Бенатов гордился дружбой с универсальным гением Юрием Анненковым, но больше всего, судя по мемуарным записям последнего, он гордился своей редкой коллекцией работ Филиппа Малявина, оставшейся ему от его первого брака.
Вообще, как вы, может, заметили, семейная жизнь художников редко складывается просто, о чем неоспоримо свидетельствуют, в частности, документы, собранные И.И. Грезиным. Взгляните хотя бы на документы о жизни ЮЛИИ ПАВЛОВНЫ МАКОВСКОЙ, урожденной ЛЕТКОВОЙ (1858–1954). Вот выписка из метрической книги, из которой явствует, что «11.11.1866 года повенчаны были классный художник Константин Егоров Маковский и артистка Императорских С.-Петербургских театров драматической труппы девица Елена Тимофеевна Черкасова…». Семь лет спустя Елена Маковская-Черкасова умерла в Египте в возрасте 25 лет и была похоронена на кладбище греческого прихода Александрии. Овдовевший художник через два года вступил в брак с семнадцатилетней Юлией Павловной Летковой и состоял в этом браке довольно долго, но, как следует из утвержденного Св. Синодом 10.6.1898 за № 3317 «определение епархиального начальства»: «брак коллежского советника профессора живописи Императорской Академии художеств Константина Георгиева Маковского с женою его Юлией Павловной Маковской <…> по причине нарушения Константином Георгиевым Маковским супружеской верности расторгнут с дозволением истице, как первобрачной и имеющей еще не старые годы, согласно ее желанию, вступить в новый брак с другим беспрепятственным к тому лицом, и с осуждением ответчика, Константина Маковского, на всегдашнее безбрачие».
Легко догадаться, что не старый еще (59 лет) ответчик запрета не послушался и не далее как в июле 1898 года «вступил в третий брак и был повенчан в церкви Рождества Христова Чесменской военной богадельни Императора Николая I с дочерью статского советника девицей Марией Алексеевной Матафиной», имевшей от роду 29 лет, но в брак вступавшей впервые. В архиве нашелся и документ, объяснявший столь мирное разрешение конфликта художника с «епархиальным начальством» и Синодом: «31.1.1900 г. последовало Высочайшее повеление о том, чтобы дело о браке Маковского в Синоде было секретно приостановлено».
В утешение Юлии Павловне Маковской, дожившей в Ницце до 96 лет, можно напомнить, что рожденная в браке дочь ее Елизавета стала вполне знаменитой художницей, а сын стал поэтом, издателем, искусствоведом, историком русского «серебряного века».
Как же нам, не задержавшись, пройти мимо могилы художника, кавказского князя, правнука абхазского правителя Чачбы, друга Максимиллиана Волошина и всего «Мира искусства», всех дягилевцев и всего Коктебеля, всего «Аполлона», всего театрального Петербурга в «серебряном веке»… Ему выпала долгая жизнь, сто лет, чуть не сорок тысяч дней прожил он в нашем лучшем из миров, но до дня одного нелегкого свидания не хватило ему всего пяти дней… Князь Шервашидзе-Чачба был первым профессиональным художником небольшого (всего их тысяч двести во всем мире, абхазов) народа, живущего на столь завидном прибрежье Черного моря, что редкий из нас, москвичей, помнится, не стремился в эти упоительные субтропики погреться на солнце, поплескаться в теплом море. Итак, мы у могилы князя АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВИЧА ШЕРВАШИДЗЕ (1867–1968), рожденного в Феодосии, а последние десятилетия своей долгой жизни жившего в Каннах и Монако. Иногда его фамилию пишут просто как Шервашидзе, иногда с учетом великокняжеских корней – Шервашидзе-Чачба… Прадед художника великий князь Чачба был правителем гордой маленькой Абхазии.
Уже и в начале прошлого века появление столь экзотического потомка черноморского правителя в среде начинающих русских художников на захолустном бретонском берегу производило странное впечатление. Вспоминаются рассказы Александра Николаевича Бенуа об их жизни в деревне Примель, что в Финистере. Бенуа с молодой женой и племянником добрался туда поработать на пленэре, и в эту бретонскую глушь приезжали погостить знаменитейшие персонажи русского «серебряного века» – Дягилев, Бальмонт, Рябушинский, Кругликова… Вот как писал об этом А.Н. Бенуа в своей мемуарной книге:
…из самых первых, кто последовал за нами в Примель, был наш новый знакомый, необычайно милый и прелестный человек – художник, князь Александр Константинович Шервашидзе. <…> Предки его были, как говорят, даже царями Абхазии, но Александр Константинович, хоть и был очень породист с виду, обладал весьма скудными средствами, вел жизнь более чем скромную. Он был женат на особе прекрасных качеств, умной и образованной <…> и он и она были настоящими бедняками. Относился он, во всяком случае, к Екатерине Васильевне, если без каких-либо особых проявлений нежности, то все же с обязательной вежливостью.
Все подметил Бенуа – и доброту, и чудаковатость князя, и его вежливость с порядочной, очень образованной, но не слишком любимой женой, и нервность («он был очень добр, но в то же время нелепо вспыльчив»). Но главное, что удивило и насмешило работящего художника Бенуа из итало-немецко-французско-русской семьи, было то, что кавказский аристократ, по мнению Бенуа, был «классически ленив»:
Из всех моих знакомых художников он был, несмотря на подлинную даровитость, наименее продуктивным <…> и не слишком борющимся со своей трудно одолимой склонностью к «far niente», к ничегонеделанию.
По признанию Бенуа, эта непостижимая леность не мешала князю «быть всегда опрятно одетым, отличаться большой воздержанностью в пище и питье». Воздержанность эта в значительной мере была связана с бедностью. В бретонском Примеле он снял для своей семьи убогую пристроечку, где, по свидетельству того же Бенуа, «пол был из битой земли, а обстановка состояла всего только из деревянной кровати и из рукомойника, висевшего на веревочке…». Молодая супруга Бенуа огорчалась, что князь так скудно питается, но он уклонялся от всех приглашений на обед «из какой-то преувеличенной деликатности и гордости».
Мы с вами не усмотрим в деликатности князя никакого преувеличения. В конце концов, одним обедом всю семью ему было не прокормить, а честная и высокообразованная супруга его Екатерина была, как и он сам, сирота и не имела заработка. Ее воспитал кузен знаменитого Саввы Мамонтова. Видя блестящие способности сиротки, супруги Мамонтовы долго учили ее в различных русских школах, потом она занималась в парижской Сорбонне и для заработка позировала художникам. Учившийся тогда живописи молодой Шервашидзе так долго и внимательно писал портрет Екатерины («Портрет Екатерины Падалка», 1906 г.), что кончилось это венчанием в Петербурге. Первым у супругов Шервашидзе родился сынок Мишенька, но он умер маленьким. Потом родились сынок Костя, а в 1911 году и дочка Русудана, но в тот самый год в семье и произошли крупные перемены. Во-первых, как истинный кавказец князь предпочитал сыновей дочерям, во-вторых, к этому времени ученая жена успела наскучить столичному сценографу и портретисту, каким сделался к тому времени князь Александр Шервашидзе, и, в-третьих, после оформления спектакля в Старинном театре князь все дальше углублялся в свой роман с яркой актрисой Натальей Бутковской, которая не только играла на сцене, но была и неплохим режиссером и вообще театральным деятелем. Активным деятелем и престижным театральным художником стал к тому времени и сам Шервашидзе, так что остроумное наблюдение о лености князя, сделанное в Бретани А.Н. Бенуа, вряд ли поможет нам понять, как за десяток лет в Петербурге Шервашидзе успел оформить четыре десятка спектаклей для императорских театров (таких, как «Фауст», «Тристан и Изольда», «Гамлет», «Ромео и Джульетта» и пр.). При этом он успевал руководить одной из художественно-декоративных мастерских, участвовать в конкурсе юбилейных медалей (и победить), многократно выставлять свои эскизы и портреты в салонах, писать обзоры и рецензии для лучших художественных журналов России… Классической леностью тут не пахло. Новая супруга была ему сотрудницей, зачастую руководительницей (режиссером спектаклей), прежнюю он отправил с детьми в свою родную Феодосию…
Весной 1917 года Шервашидзе стал главным художником государственных театров, на театральных афишах столицы бесконечно повторялось его имя, но уже в начале 1918 года он благоразумно переехал в Сухуми, где они с женой открыли художественную школу для детей, втянулись в культурное строительство. Он хлопотал о создании письменности для абхазского народа, но хлопотал недолго. Он и здесь вовремя учуял запах кровопролития и решил уехать. Провожали его по-хорошему. Сам миниатюрный и глухой лидер абхазских большевиков Лакоба проводил его в путь, пока не слишком далекий. Шерваршидзе уехал с женой к другу Максу Волошину в Коктебель. Там он виделся в последний раз с собственными детьми, жившими в Феодосии. Дальше путь лежал в Варшаву, в Лондон и, наконец, в Париж. Остаток своей долгой жизни он провел во Франции и Монако. Работал много, писал декорации для русского балета, преподавал в Театральной школе и в Русском институте теории искусств, возглавлял всякие объединения, в том числе общество «Мир искусства», работал у Дягилева и в других балетных театрах, оформлял книги, выставлял свою живопись, а с 1940 года поселился в Монте-Карло. Жил полновесной творческой жизнью в этом сравнительно мирном уголке Европы. Иногда, не слишком регулярно, доходили вести с черноморского побережья. С трудом выжили его первая жена и дети в Гражданскую войну. Потом семью сослали в деревню под Вологдой. Позднее они смогли вернуться на юг. Сын Костя осуществил свою мечту, стал помощником капитана на судне, женился, но в 1938 году был (как и сотни тысяч других строителей коммунизма) на всякий случай расстрелян. В 1936 году выдвиженец глухого Лакобы товарищ Берия пригласил благодетеля на дружеский ужин и до досыта накормил цианистым калием. Потом в России была война, в которой гениальный Сталин победил, завалив нацистскую армию русскими трупами (в пропорции семь русских к одному немцу). Весь мир был восхищен этими гениями самопожертвования, Сталиным, Жуковым… Конечно, детали сталинского национального строительства не доходили до Французской Ривьеры. Ну кто мог там знать, что на избежавшем военных разрушений берегу близ Сухуми, как и повсюду на Кавказе, депортируют малые народы, показавшиеся Москве подозрительными, что из Абхазии в ходе операции «Волна» (1949 год) десятками тысяч выселяют мирных греков, в числе которых оказались и молодые родственники Шервашидзе…
В 1948 году художника настигла беда. Александр Шервашидзе потерял свою верную жену и соратницу Наталью Бутковскую. Они прожили вместе чуть не сорок лет. Когда она умерла, ему был 81 год, он оставался в добром здравии, хотя работать ему становилось все труднее. Последней его работой стал балет «Шахерезада».
Художник, остро ощущая одиночество, стал искать новую жену. Свободных невест после войны было много. И.И. Грезин напечатал документ 1951 года, свидетельствующий о подготовке Александра Шервашидзе к женитьбе на девице Беатрисе Бюрк. Брак этот отчего-то сорвался. Поиски невесты продолжались до середины 50-x годов (он был уже на середине девятого десятка), когда художник встретил в Монте-Карло недавно вернувшуюся из США молодую русскую эмигрантку Анну Степановну Сорину. Должен признаться, стоя над ее могилкой, что мы знаем о ее жизни совсем немного, гораздо меньше, чем о ее муже, знаменитом художнике Савелии Сорине, которого она только что похоронила в Нью-Йорке. Он был намного старше ее, влюблен, осчастливлен, трогательно добр… Но прожили они в браке только пять лет. Он умер в 1953 году. Анна продала их нью-йоркский особняк и улетела в Монако. Там она купила виллу, которая носила вполне грузинское имя «Сулико», и взяла к себе в дом князя Александра Шервашидзе. Об этом мы можем догадаться, несмотря на уклончивые недомолвки посетившей Монте-Карло в 1968 году дочери художника и на все небрежные описания конца его жизни, оставленные искусствоведами. Известно лишь то, что по каким-то причинам художник А. Шервашидзе удочерил милую русскую вдову, поселившуюся в Монте-Карло на своей вилле. Может закрасться мысль, что у нее были без этого удочерения какие-то трудности с оформлением дома. Франция вполне бюрократическая страна… Но уточним, что вдова поселилась не во Франции и что у нее уже были какие-то отношения с принцессой Монако Грейс Келли.
Я думаю, что князь Шервашидзе (иные из потомков писали свое имя Шарвашидзе) просто предпринял удочерение вместо брачной волокиты. Или он стеснялся объявить о новом, позднем браке. Или просто ревновал ее к удачливому портретисту, первому мужу Анны, и хотел, чтобы она во что бы то ни стало приняла его славное княжеское имя. Все это лишь гипотезы. Мы ведь и сейчас мало знаем о том, что происходило в Монте-Карло в те далекие пятидесятые годы, когда на вилле «Сулико» поселился почти всеми забытый на родине абхазский князь Александр Шервашидзе. Но вот в 1956 году кое-что новое произошло… Ветер «оттепели» долетел до прекрасного города Тбилиси, и кое-что изменилось в культурной жизни. Например, страшное слово «эмигрант» уже можно было произносить без оскорбительных эпитетов. Это привело к тому, что в Тбилиси вышел новый грузинский журнал, в котором местный искусствовед Пиринишвили написал о художнике Александре Шервашидзе: был вот у нас такой человек, первый профессиональный художник Абхазии, потомок князей Чачба, который писал портреты и театральные декорации, да только сгинул где-то на чужбине и так будет со всяким, кто оставит родину… Года через два какими-то путями, может через парижскую племянницу Александра Шервашидзе, этот номер журнала дошел до Лазурного Берега и привел девяностолетнего героя очерка в немалое возбуждение. Это была весть из другого, уже мало знакомого мира, и в ней было признание его места, его заслуг, его ценности и каких-то необорванных связей, незаконченного пути. Девяностолетний мастер взбодрился и написал грузинскому искусствоведу вполне молодое, не лишенное юмора письмо, в котором не только благодарил за высокое признание своего творчества, но и вносил как бы незначительную поправку в биографические сведения, содержавшиеся в очерке: «Исправляю небольшую неточность. Я еще жив, к моему удивлению, не болею и живу совершенно один… Все, что имею, готов отдать для музея в Тбилиси и Сухуми…»
Конечно, это было сенсационное сообщение для всего Тбилиси, всей Абхазии, всех знатоков искусства и художников, этакое чудо воскресения из мертвых. Но из всех людей по ту сторону границы самое большое потрясение пережила при этой новости молодая красивая женщина по имени Русудан. Она считала себя круглой сиротой: двадцать лет назад погиб в застенке ее милый брат Константин, уже три года как умерла ее матушка, почти сорок лет прошло с ee последних счастливых встреч с отцом на коктебельском пляже близ дома русского поэта Волошина… С ее знаменитым отцом! Так он жив, он где-то во Франции, в мифических Каннах, но все же на этом свете, на котором им с мамой так трудно было выжить, брошенным, а милый брат Костя и вовсе… Она думала об отце так часто, особенно в эти последние годы круглого сиротства, и вот произошло чудо. В ее жизни появилась великая цель: она должна увидеть отца. Завязалась переписка, произошли события необычайной важности: отец прислал пятьсот работ для Сухумской картинной галереи и Тбилисского государственного музея искусств. Отец просил не обидеть при дележе абхазский Сухуми, и Сухуми не был вовсе уж обойден. Конечно, как всегда, десяток работ затерли где-то между адресами, они прилипли к чьим-то загребущим рукам, но оставшиеся все же попали в музеи. Шервашидзе писал теперь письма на родину, отвечал на письма дочери. Да, конечно, он хотел бы приехать в Сухуми. Он неплохо себя чувствует. Но он одинок. Ни с кем не общается. К кисти давно не прикасался… А на историческую родину прилететь ему хочется. Только лететь он хотел бы не через Париж, не через Тбилиси, а прямо в Сухуми. Не надо никаких торжеств, утомительных приемов. Полет он выдержит: здоровье у него абхазское. Вот только визу бы кто-нибудь сделал. Да и чертовски дорого стоит. Вот это большое письмо к ней он отправил по телеграфу, стоило тыщу франков… Почему по телеграфу? И как может быть беден человек, отсылающий задаром полтысячи бесценных работ?
Шервашидзе написал вскоре, что в 1959 году ему пришлось выехать из Канн, его приютили какие-то друзья из Монте-Карло. Но ведь не было никаких друзей… Да, была «удочеренная» Анна Степановна Шервашидзе. У нее и живет…
Русудана билась как рыба об лед. Было за что. Щель в «железном занавесе», отделявшем советскую империю от несоветского мира, становилась шире. Иным счастливчикам уже удавалось выезжать на Запад «по приглашению». Бедная дочь художника собирала бумаги, пытаясь поехать во Францию к родному отцу. Она мечтала когда-то стать художницей, не потянула сирота, выучилась на чертежницу.
На переписку с отцом и хлопоты ушло десять лет. За это время он разок все же полежал в больнице, а когда вышел, ему было уже девяносто девять. Где он жил? Пишут искусствоведы, что в каком-то якобы «пансионе принцессы Грейс Келли». А может, слово «пансион» легкомысленно переведено из более поздних переговоров Анны Степановны с принцем Монако о пенсии… Думаю, что жил старый художник в своей комнате на вилле Анны Степановны. И думаю, что предстоящая встреча с брошенной дочерью его тревожила. В старости многих угнетает чувство своей вины, реальной или придуманной. Шервашидзе как-то написал дочери, что он вот жил, ничего не замечая в мире, кроме своего искусства, кроме театра и декораций. То есть ничего, стало быть, не знал о муках жены и детей, оставленных в России, о своем расстрелянном сыне, об истребленных петербургских друзьях, об убитых Тициане Табидзе, Паоло Яшвили, Важе Пшавеле, о Несторе Лакобе…
Князь Шервашидзе был умный, осторожный человек. В 1946 году, когда просоветским эмигрантам щедро давали советские паспорта, князь отказался, предпочел остаться эмигрантом. Об этом он напомнил французским властям в 1951 году, овдовев и собираясь вступитъ в брак с девицей Бюрк.
Русудана добралась до Парижа по приглашению родственников 25 августа 1968 года. По молчанию встречавших ее на Северном вокзале родных она догадалась, что отца уже нет. Он умер 20 августа ста с лишним лет от роду.
Она постояла на Кокаде, на его могилке, посидела в его комнате в Монте-Карло и уехала домой. Написала отчет о своей поездке. Все как положено. Ничего лишнего. Да, он был патриот. Любил свою маленькую родину больше всего на свете. Любил сына…
Через пять лет после смерти Александра Шервашидзе Анне Степановне удалось поговорить лично с министром культуры СССР Екатериной Фурцевой. Сообщают, что встретила вдова Сорина эту полномочную даму на каком-то приеме, то ли в советском посольстве, то ли на выставке, то ли на концерте, встретила и даже успела рассказать о том, что ее покойный муж Савелий Сорин был большой патриот, любил Россию всем сердцем, хотел подарить родине большую коллекцию бесценных портретов своей кисти и даже оговорил это в своем завещании.
Иногда историю этого знакомства излагают даже более легко и светски. Скажем, в Интернете можно найти такой рассказ дочери покойной Е.А. Фурцевой Светланы:
Маме моей близка была Анна Степановна Сорина, знаток музыки, очень образованная изысканная дама, вдова Савелия Сорина, знаменитого на Западе художника, уехавшего из России в 1919. Она жила в Монако, летала на все концерты Большого в Европе, описывала их маме в письмах. Они познакомились в Милане, на гастролях Большого, и мама пригласила ее в Москву, а потом купила ей путевку в Дом актера, то ли в Сочи, то ли еще куда, Анна говорила, что после смерти Сорина никто о ней так не заботился.
В 1973 году Анна Степановна привезла в Москву двадцать знаменитейших соринских портретов (в том числе портреты Шаляпина, Сомова, Судейкина, Бенуа, Фокина, Баланчина). Еще через год она передала в дар Музею искусств Грузии соринские портреты знаменитых грузинских красавиц (Мелиты Чолокашвили, Элисо Дадиани и других). Впрочем, портрет славной красавицы Мери Эристовой-Шервашидзе Анна Степановна все же оставила у себя. О красоте этой девушки ходило немало романтических историй. Передавали, например, как император однажды строго выговаривал юной фрейлине за опоздание на дворцовую панихиду: «Грешно, мадемуазель, быть такой… красивой».
Надо сказать, принц Монако Ренье III был не в восторге от щедрости, проявленной госпожой Сориной, точнее, уже княгиней Шервашидзе. А нрав у принца был крутой. В конце концов, объяснял он, произведения искусства должны оставаться в стране, которая тебя приютила. Княгиня возразила, что эти произведения написаны были мужем еще в Америке и во Франции, то есть за границей четырехкилометрового княжества, и покойный муж завещал их своей социалистической родине. Но в общем-то ссориться с великой родиной Сорина крошечному Монако было не к лицу. К тому же вдовая княгиня находилась под особым покровительством принцессы Грейс Келли. Короче, удалось в княжеском дворце договориться, что княгиня Шервашидзе будет получать пансион до самой своей смерти, но оставшиеся портреты славного Сорина более не будет раздавать без удержу. Портрет блистательной красавицы Мери Эристовой (угасшей в парижском старческом доме 97 лет от роду и чуть не до самой смерти боготворимой былыми поклонниками) в конце концов перекочевал во дворец принца Ренье. Если верить легенде, портрет висел в спальной комнате Грейс Келли, и, просыпаясь, принцесса долго-долго на него смотрела. Потом садилась к зеркалу: что не так? Пока все так…
А между тем пришло время Стране Советов собирать «разбросанные камни». Их, эти живые драгоценности, разбрасывали по свету полными сил и таланта, но собирали уже символически, в виде праха и старых гробов. Свозили их со всех концов света, в том числе из привычной Ниццы. Увезли Герцена, а в 1985 году дошла очередь и до потомка великого князя Келешбея Чачбы, художника Александра Шервашидзе-Чачбы, которого еще при его недолгой жизни в Сухуми (в 1918-м) самые убежденные из абхазских монархистов прочили в правители Абхазии. Инициатива перезахоронения, похоже, исходила от дочери художника Русуданы, упоминавшей в своем рассказе о поездке в Монте-Карло и мимолетный свой визит к «вдове Сорина».
Проблемы, которые возникают даже при самых патриотических проектах, вроде переноса покойников, оказались и на сей раз материальными, и Русудана обратилась за помощью в Монако, к той же «чужой вдове». На одно из ответных писем Анны Степановны в Абхазию я наткнулся совсем недавно, читая удивительные «Семейные мемуары фрейлины императрицы Бобо Мейендорф». В предисловии к этим мемуарам некто Г.Д. Шарвашидзе цитирует письмо, присланное из Монако в Сухуми в январе 1979 года А.С. Сориной-Шервашидзе и затрагивающее историю смерти художника, визит его дочери и проблемы предстоящего перемещения праха:
Александр Шарвашидзе жил у меня, болел у меня, я за ним ухаживала и похоронила его на русском кладбище, купив ему могилу – его дочь приехала ко мне, чтобы поехать на могилу своего отца. Я ее приняла как родную, она забрала все оставшиеся вещи и рисунки, не дав мне даже маленького рисунка на память. Ее проживание у меня ей ничего не стоило, и она была принята как родная. Уехав, она меня даже не поблагодарила. Теперь же она захотела перевезти его прах на его родину, но хотела это мне поручить. Он похоронен на русском кладбище, но могила его куплена мною, а переносить его прах – это уже дело ее или же Вашего правительства.
В конце концов правительство маленькой курортной, столь любимой некогда всеми нами Абхазии наскребло денег, увезло князя-художника в Сухуми, перезахоронило близ Национального музея. А еще через пяток лет привезли сюда, в пустую кокадскую могилу, под памятник, поставленный русскими земляками, АННУ СТЕПАНОВУ СОРИНУ-ШЕРВАШИДЗЕ (ах, как хороша она была в Нью-Йорке в 1943-м и потом уже навечно, на портрете Сорина). Надпись на памятнике сообщает, что была она ветераном медицинской службы США и почетной гражданкой Франции, что умерла она в Монако в 1991 году, что была приемной дочерью князя Александра Константиновича Шервашидзе, а также, что в первом браке была замужем за художником Савелием Абрамовичем Сориным (1878–1953), а во втором браке – за сыном художника Александра Константиновича Шервашидзе. Что там был за сын у князя в середине пятидесятых, разве не расстреляли его в 1938-м? Такая вот лукавая посмертная шутка. Добросовестный Иван Грезин, не желая брать лишнего на душу, отсылает нас в своей постраничной сноске к замечательному биографическому словарю «Художники русского зарубежья» (авторы Либкин, Махров и Северюхин). Там же сказано, между прочим, и про старческий дом, где художник якобы доживал последние годы жизни. Хотел я свериться у милейшего Кирилла Васильевича Махрова, который никогда мне в консультации не отказывал, позвонил и узнал, что кавалер многих орденов, добрый Кирилл Васильевич недавно умер, чуть не дожив до девяноста лет.
Неужели так и останется эта могила одной из самых загадочных могил Кокада с таинственной одинокой вдовой?
Не надо думать, что с отбытием праха знаменитого князя-художника на свою беспокойную родину вовсе оскудела талантами кладбищенская земля райского Кокада. По-прежнему покоится в своей могиле профессор живописи, создатель исторических полотен ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ ЯКОБИ (1836–1902). В свое время весьма популярны были в России такие его картины, как «Ледяной дом», «Костюмированное утро при дворе императрицы Анны Иоанновны», «Привал арестантов». Всероссийской популярности его «костюмных» картин немало способствовала инициатива журнала «Нива», придумавшего высылать всякому новому своему подписчику в качестве подарка репродукцию с картины знаменитого Якоби. Было и второе обстоятельство, вдруг напомнившее имя художника Якоби многочисленным поклонникам писателя Антона Чехова. В 1900 году Антон Павлович грелся в зимней Ницце на солнышке, жил в русском пансионе на рю Гуно, ездил в Болье в гости к историку Максиму Ковалевскому. От заграничной курортной скуки спасали его беседы с тем же Ковалевским и, конечно, с Якоби, доживавшим свои сорок лет добровольного изгнания. Чехов во всех письмах поминает язвительного остроумца Якоби, с которым виделся чуть не каждый день. С чеховскими упоминаниями легче войти в историю, чем с любым «Привалом арестантов» на стене Третьяковки.
На Кокаде покоится дама, чья жизненная история вполне может стать сюжетом романтической повести о славе и бедствиях художников. Звали ее ЖОЗЕФИНА ИОСИФОВНА ФРИЧЕРО, урожденная КОБЕРВЕЙН (1825–1893).
Родилась она на Украине, и кoe-какие из обстоятельств ее рождения я изложу чуть позже, не настаивая, впрочем, на их стопроцентной надежности, но пока – два слова о знаменитом носителе этого славного имени – Фричеро. Сравнительно недавно одну из центральных улиц Ниццы переименовали из Вашингтонской в улицу Фричеро (Фрисеро). Чем не угодил Ницце Вашингтон и чем угодил Фричеро? Угадать просто. Во-первых, американских названий в Ницце хватает. Но, как всякому европейцу известно, недотепы американцы только на то и годятся, чтоб над ними подшучивать. Француз пошутит над вкусом американца, потом с аппетитом съест гамбургер в «Макдоналдсе» и пойдет в кино на американский фильм… Так вот, жил в позапрошлом веке в небольшой и мало кому на свете известной, принадлежавшей тогда Сардинии, Ницце молодой живописец и гравер Жозеф Фричеро. Писал портреты и пользовался скромным успехом. Во всяком случае, на хлеб, сыр, оливки и вино кое-как зарабатывал. Привели раз к Жозефу заказчика, молодого русского князя. Позировать для портрета. Русских было тогда в Ницце еще мало, куда меньше, чем англичан. Но конечно, попадались русские князья. Симпатичный художник очень быстро и не утомив модель сляпал портрет молодого князя. В процессе позирования князь рассказал художнику петербургский анекдот, а художник князю – свой, провинциальный, про кюре и служанку. Богатый русский князь и веселый художник друг другу понравились. А главное, князь сам себе на портрете понравился. Спросил, сколько должен за работу, и обещал обязательно заплатить. Как только деньги придут: он здесь уже всему берегу должен. Что-то они все не идут, деньги. В ходе дружеской беседы князя с молодым художником некая внехудожественная деталь княжеского рассказа о петербургской жизни дала новый поворот не только разговору, но и самой судьбе артиста. Князь удивился, что Жозеф с таким талантом в этой захудалой Ницце работает за гроши. Да за такое творчество в городе на Неве, где он, между прочим, вхож в царский дворец, кучу денег отвалить могут.
После этого, вертя в руках кисть, стал молодой Жозеф более критически оценивать свое здешнее положение и после волнительных раздумий двинулся в дальнее странствие, через Стамбул, Одессу, Киев, Москву в сказочный Санкт-Петербург, город твердого рубля и благочестивой монархии. Прием Жозефу в Петербурге оказали сказочный. Чуть не в самом Зимнем дворце отвели ему комнатку для студии и потекли к нему позировать при дворе обитавшие господа, дамы и юные женские существа, чтоб увидеть свое отражение в мировом искусстве. А он что вдобавок придумал, пылкий итальянец: уроки рисования при дворе. Тут-то и пришли к нему учиться юные, до изумленья прелестные существа женского пола. И он со своею молодой южной наружностью и колонковой кистью в руке царил среди них, как романтический принц. Шепот, легкое дыханье, трели соловья! Дальше, как можно без труда догадаться, появилась и принцесса-ученица с кисточкой в тонких пальцах и влюбленностью в блестящих голубых глазах. Звали ее Юзия Кобервейн. Известно было, что ее отец имеет отношение к тайной полиции, но, с другой стороны, поговаривали, что на самом деле девочку эту внебрачно произвела на свет придворная дама шведского Карла IV фрекен Анна Мария Шарлотта де Рутенскьельд. Романтическая дружба этой шведки с молодым русским наследником долго служила пищей для разговоров в обществе, но столь важное событие, как рождение внебрачного ребенка от сами знаете кого, не могло быть пущено на самотек, так что шведская гражданка была поспешно и интимно выдана замуж за надежного служилого человека: «Кто у нас там в тайном наблюдении еще неженатый? Осип Васильич? Да нет, по форме пишите – Кобервейн Иосиф Венцеславович. Полячишка, что ли?» Для важных родов брюхатую шведку-фрейлину повезли в Киевскую губернию, в Белую Церковь, где в огромном имении обреталась прославленная графиня Браницкая, матушка уже хорошо известной нам графини Елизаветы Воронцовой, в прошлом близкая подруга и наперсница самой императрицы Екатерины Великой. Нетрудно догадаться, что рождение и устройство придворных внебрачных младенцев (побочных или, как уважительно говорят французы, «натуральных») – уж это она умела организовать как никто другой. Смиренно признавая, что к случаю с разродившейся в Белой Церкви шведской фрейлиной, выданной наспех за сыщика, причастен будущий император Николай I, историки скромно уточняют, что случилось это все же до декабря 1825 года, а значит, в пору своего легкомысленного увлечения шведской дамой Их Величество были всего только Их Высочеством. Но они не могут отрицать, что великий князь был счастливо женат на прусской принцессе аж с 1817 года, и супруги имели уже не каких-то «натуральных», а в браке зачатых детей. Остается добавить, что «натуральная» дочка произрастала при дворе и была, по всеобщему мнению, очаровательна. Некоторые знатоки творчества Л.Н. Толстого полагают, что именно рассказами об этой ee романтической прелести (а может, и о дальнейших трудностях ее судьбы) навеяны иные из женских образов великого писателя. Я, признаться, и сам наткнулся недавно на рассказ Льва Николаевича («За что?») о синеглазой худенькой польской девочке, влюбившейся в молодого участника польского восстания и уехавшей к нему в Сибирь. Кончается рассказ довольно неожиданным упоминанием о том самом императоре, который имел отношение к нашей Юзе Фричеро:
Николай же Павлович радовался тому, что задавил гидру революции не только в Польше, но и во всей Европе <…> И люди в звездах и в золоченых мундирах так восхваляли его за это, что он искренно верил, что он великий человек и что жизнь его была великим благом для человечества и особенно для русских людей, на развращение и одурение которых были бессознательно направлены все его силы.
Однако вернемся к нашему романтическому сардинскому художнику. Последовало брачное предложение. Его, конечно, обсудили при дворе и, скорее всего, в смом дворце. И художник получил согласие. Увез гравер и портретист Жозеф Фричеро нашу Юзечку в Европу. Дорогой, аккурат под Новый год (1849-й), обвенчались в Марселе. Поселились в Ницце. Государь разрешил жить в казенном российском помещении. Жилье, известное дело, самая дорогая вещь. А вино да фрукты-овощи на базаре в Ницце и сейчас не дороги, а тогда полкопейки. И все же за расходами на семью поспевать кисти художника было трудно. Поступали, конечно, деньги из Петербурга, но никак семья не укладывалась. А когда в 1855 году помер Николай Павлович, а год спустя Юзина матушка Шарлотта Рутенскьельд, то и помещение казенное попросили освободить.
В 1856 году, по осени вдовая и хворая уже государыня императрица Александра Федоровна решила посетить в целях лечения благодатную Ниццу, и мадам Фричеро, жена художника, стала ей присматривать виллу близ моря. Лучшая вилла там была, по общему мнению, у господина Авигдора, финансиста и главы еврейской общины города. В октябре приплыла государыня в Вильфранш на сардинском корабле и в сопровождении сардинской гвардии приехала на виллу, где на террасе виллы была освящена домашняя церковь. В декабре государыня, Юзя с семьей и другие члены русских семей Ниццы (их тогда было всего три десятка) отслужили службу по покойному императору, можно сказать, Юзиному царственному папе. Прогуливаясь с Александрой Федоровной по будущему бульвару Императрицы к морю (позднее переименованному в Сталинградский бульвар), смогла Юзечка поговорить о здоровье и прочих жизненных тяготах. Тогда и заложила государыня первый камень в постройку русской православной церкви на улице Лоншан. После отбытия высокой гостьи мадам Фричеро уехала в Париж, где теперь учились ее дети, а в мае 1860 года, как сообщает документ, разысканный И.И.Грезиным, «последовало Высочайшее повеление производить жене художника Жозефине Фричеро из Кабинета Его Величества ежегодно 350 рублей серебром на воспитание сыновей ее Александра и Николая по месту жительства в Ницце». Когда Александр поступил в Российскую морскую службу и был принят юнкером на фрегат «Генерал-адмирал», «госпожа Фричеро обратилась вследствие сего с Верноподданнейшей просьбой о Всемилостивейшем оставлении ей означенного пособия на воспитание, вместо Александра, другого ее сына, Михаила Фричеро. <…> Государь Император на сию просьбу Высочайше соизволил». И далее все в таком стиле. А детей все больше, и художник творит не покладая рук: «с 1850 по 1856 г. включительно, куплено у художника Фричеро с Высочайшего разрешения, разных картин и рисунков, всего на сумму 4300 рублей».
Давно помер государь Николай I, а кабинет все платит да платит за грехи молодости… И то правда, если нa одно искусство надеяться, сколько детей удастся прокормить карандашом и кистью?
А вот и могилы второго, третьего и четвертого поколения внуков, правнуков и праправнуков Жозефа и Жозефины: Александр, Эммануил, Николай, снова Николай, Эммануил Николаевич, он же Эдуард-Франсуа-Ксавьер. Этот последний мне лично знаком по его душераздирающей переписке с его приемным сыном Никола. Инженер-строитель ЭММАНУИЛ НИКОЛАЕВИЧ ФРИЧЕРО (1880–1959) родился в Ницце, позднее жил в Петербурге, имел русское подданство, учиться уезжал в Лондон, где и женился на доброй девушке Шарлотте, с которой и приехал в Петербург. Но тут грянула революция. На счастье, вовремя бежали в Брюссель, где русскому инженеру-эмигранту Н.Фричеро удалось устроиться в бельгийскую компанию, со временем возглавить строительную контору и купить для семьи просторный дом в престижном районе Брюсселя. Он был солидный инженер, знал языки, хорошо говорил по-русски, был русским патриотом и болел душой за русские беды. Он помогал русским беженцам находить работу в своей компании, а когда погиб за границей генерал Врангель, инженер Фричеро взял к себе в семью осиротевших детей генерала. А вскоре с супругами Фричеро связалась из Варшавы княгиня Любимова, посвятившая себя помощи русским беженцам, и рассказала об одной из новых трагедий русского изгнания. После долгого подполья сумел бежать с семьей из Петрограда последний комендант Петропавловской крепости барон Сталь фон Гольштейн и, добравшись до Вильны, умер от всех тягот и унижений бегства, а вскоре умерла и совсем еще молодая жена, близкая подруга княгини. Остались со стареющей русской няней трое сирот без средств к существованию. Инженер Фричеро горячо откликнулся на призыв о помощи, и вскоре две малолетних дочки покойного барона и пятилетний Никола влились в многодетную брюссельскую семью. Никола стал любимцем инженера, он успешно учился в художественной школе и в архитектурной академии. Но сыном он оказался строптивым, трудновоспитуемым. Честному, работящему, жертвенному отцу-подвижнику было нелегко понять и принять артистические и нравственные искания сына, человеческую его ненадежность… Из кошмара преследований Никола вышел с глубокой детской травмой – кто мог разгадать его обиды на вдруг бросивших его маяться в этом мире родителей, на всех взрослых?
Прошел десяток лет скитаний художника по странам Северной Африки и Европы, терзаний, нужды и загулов, прежде чем Никола вдруг начал писать (уже в разгаре войны, в Ницце и Париже) мрачные и непостижимые для его семьи абстракции. Через десять лет напряженного труда Никола, так и не понятый полузабытым любящим отцом, покончил с собой, бросившись с крыши прибрежного дома в Антибе. Он был совсем еще молодой.
А через четыре года после этой леденящей душу истории умер в родной своей Ницце его бедный отец… А теперь человеку, который захотел бы купить хоть небольшую абстракцию Никола де Сталя фон Гольштейна, пришлось бы четверть века откладывать все свои деньги на такую покупку.
Под алтарем кладбищенской церкви на Кокаде погребен митрофорный протоиерей, настоятель Русской церкви в Ницце с 1887 по 1918 год СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВИЧ ЛЮБИМОВ (1851–1918). Родился он в Ораниенбауме, окончил курс Петербургской Духовной академии со степенью кандидата богословия, начинал как законоучитель в лицее родного города, потом был диаконом в придворной церкви и законоучителем в Штутгарте, духовником императрицы Марии Федоровны, хлопотал о сооружении собора в Ницце и был его первым настоятелем. Опубликовано любопытное прошение о. Сергия Любимова (написанное в июне 1906 года) о дополнительном содержании, где есть сведения о печальных переменах, которые принес райской Ницце прошлый век:
В последнее время Ницца приняла вид большого города, что в связи с уничтожением прежде украшавших ее садов отвлекает наиболее достаточных приезжих <…> в окрестности, расположенные за пределами прихода, а среди прихожан является ежегодно значительно больше в сравнении с прежним временем бедных, больных и нуждающихся в помощи. <…> Вследствие же большого наплыва лиц неимущих я вынужден как настоятель церкви ежегодно издерживать на устройство больных, лечение их и на пособия бедным значительные суммы из собственных средств…
Можно добавить, что уничтожение садов продолжалось в Ницце в течение прошлого века, пока все не вырубили.
На Кокаде похоронен и рожденный в Штутгарте сын о. Сергия Любимова ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ЛЮБИМОВ (1879–1956), окончивший в Петербурге Императорское училище правоведения, живший в Ницце с 1919 года, в 1926 году принявший сан священника, а в 1950 году бывший уже митрофорным протоиереем, до самой смерти своей исполнявший обязанности настоятеля собора в Ницце.
Иные из русских изгнанников, похороненных на Кокаде, доживали на Лазурном Берегу после долгих странствий по свету, практически в результате нового изгнания. Нашли здесь последний приют супруги Люцерновы. ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ ЛЮЦЕРНОВ (1898–1976) родился в Петербурге, учился в Институте инженеров путей сообщения, кончил школу прапорщиков по Адмиралтейству, участвовал в Первой мировой войне, потом и в Гражданской: командовал судном, вместе с русской эскадрой эвакуировался в Бизерту, жил под Тунисом, работал землемером. Участвовал Петр Дмитриевич и во Второй мировой войне в рядах французской армии. A в 1967-м пришлось переехать в Ниццу. Вместе с мужем-моряком странствовала его супруга ЛЮЦЕРНОВА (урожденная КРАСНОПОЛЬСКАЯ) ВЕРА МИХАЙЛОВНА (1896–1981). Она была врач и работала во время войны в госпитале в Севастополе. Поселившись в пригороде Туниса Мегрине, супруги Люцерновы много времени отдавали общественной работе в русской колонии. Бывший моряк и землемер входил в Союз взаимопомощи русских эмигрантов, устраивал благотворительные вечера и концерты, детские спектакли. Его супруга преподавала в приходской Четверговой школе, входила в Дамский комитет при церкви, устраивала благотворительные распродажи, пожертвовала свои сбережения на строительство церкви Воскресения Христова в Тунисе.
Неподалеку oт супругов Люцерновых покоится рядом со своей супругой избежавший всех смертей на войне георгиевский кавалер контр-адмирал НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ МАКСИМОВ (1880–1961). Окончив Морской корпус, он воевал на Русско-японской войне: участвовал в отражении минных атак, был командиром батареи и командиром десантной роты на эскадренном миноносце «Пересвет», участвовал в тушении пожара в Порт-Артуре под огнем японских батарей. Был награжден орденом Св. Анны (точнее, двумя) с надписью «За храбрость». Немало было эпизодов его храбрости, немало и орденов. А 20 декабря 1904 года он «был Императорской японской армией взят в плен в Порт-Артуре при его капитуляции. Находился в плену до 4.2.1905».
Потом была новая война. В 1914-м он командовал эскадренным миноносцем «Бдительный». Снова был награжден «за самоотвержение, мужество, а также за усиленные труды в обстановке военного времени». Так до самой отставки в 1917 году.
Во Франции служил сторожем на вилле. Встречался с боевыми друзьями в Кают-компании… Кто там считал его ордена и раны?
Между прочим, председательствовал в Кают-компании в Ницце бывший морской министр России, бывший начальник Николаевской морской академии, бывший директор Морского корпуса, бывший член Государственного совета адмирал СТЕПАН АРКАДЬЕВИЧ ВОЕВОДСКИЙ (1859–1937), вдобавок ко всем прочим званиям и бывшим должностям имевший самые разнообразные ордена, в том числе и французский орден Почетного легиона. Он умер в Виши, но был привезен на Кокад, чтобы лечь рядом с почившей ранее супругой АННОЙ МИХАЙЛОВНОЙ ВОЕВОДСКОЙ, урожденной АРАПОВОЙ (1869–1923). Восемнадцати лет от роду она была повенчана с лейтенантом флота Степаном (тогда еще Стефаном) Воеводским и прожила с ним до конца свой недолгой жизни.
В семейном склепе финского рода фон Маннергеймов захоронены граф КАРЛ ЭРИК ФОН МАННЕРГЕЙМ (1898–1995). Граф носил имя своего знаменитого предка. В XX веке стал очень знаменит Густав Маннергейм, маршал и президент Финляндии (а может, и ее спаситель). До революции он был генерал-лейтенантом русской армии. Бывшая (до 1919 г.) жена Густава Маннергейма Анастасия Николаевна Арапова и его дочери довольно скоро поселились отдельно от деятельного финского родителя в Париже и в Ницце, и жена была похоронена позднее на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем.
На Кокаде похоронены и потомки знаменитого полководца XIX века, маршала Франции Иоахима Мюрата, сподвижника Наполеона, участвовавшего во всех наполеоновских походах и заработавшего этой ратной службой звания принца, короля Неаполя, великого герцога и еще и еще (в том числе и руку сестры императора Каролины). В 1815 году Иоахим Мюрат был арестован и расстрелян при попытке вернуть себе власть в Неаполе, а потомки его рассеялись по Франции и России, но иные из них упокоились на Кокаде. Скажем, принцесса АНТУАНЕТТА КАРОЛИНА ЕКАТЕРИНА МЮРАТ (1879–1954), которая родилась в том же самом менгрельском городке Гори (и в том же самом году), что и сын сапожника Сосо Джугашвили. Ее родителями были Его Высочество принц Ахилл Мюрат и Ее Высочество Саломея Мюрат (урожденная княжна Дадиани). Здесь же похоронены и родной брат принцессы Мюрат генерал-майор русской армии (был ранен на Русско-японской войне) принц НАПОЛЕОН АХИЛЛОВИЧ МЮРАТ (1872–1943). Похоронен здесь и бывший офицер русского флота Его Высочество принц ЛУИ-НАПОЛЕОН МЮРАТ (1851–1912), сочетавшийся браком в Одессе с похороненной ныне здесь же принцессой ЕВДОКИЕЙ МЮРАТ (урожденной Евдокией Михайловной Сомовой). Их сын, принц МИШЕЛЬ ШАРЛЬ АНН ИОАХИМ (по-русски просто МИХАИЛ ЛЮДВИГОВИЧ МЮРАТ (1887–1941), родившийся в Александровке, умер в оккупированном Париже и был перевезен на Кокад.
Понятно, что скопление принцев и принцесс Мюрат на окраине Ниццы не может не заинтересовать французских посетителей кладбища, и все же одной из наиболее посещаемых могил на Кокаде является могила баронессы АДЫ (АННЫ) ФЕДОРОВНЫ ФОН МАНТЕЙФЕЛЬ, урожденной АПРАКСИНОЙ (1849–1914). Она жила в Ницце и основала в городе школу для глухонемых. С самого 1914 года ее могилу и посещают ученицы этой школы, которые вовсе не глухи к голосу памяти и благодарности.
Неподалеку от баронессы похоронен полковник лейб-гвардии Конной артиллерии барон ЮРИЙ РИЧАРДОВИЧ ФОН МЕВЕС (1891–1927). Он был сыном генерал-лейтенанта, воспитывался в Пажеском корпусе, выпущен был в лейб-гвардии Конную артиллерию, воевал на фронтах Первой мировой войны, потом одним из первых записался в Добровольческую армию. А умер в эмиграции, в Ницце молодым еще человеком.
Среди семи десятков генералов, похороненных на Кокаде, отметим генерала от инфантерии АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА МЕЛЛЕР-ЗАКОМЕЛЬСКОГО (1844–1928), который, едва выйдя в 1862 году из Николаевского кавалерийского училища, принимал участие в военных кампаниях 1863, 1864, 1870, 1871, 1873, 1875–1878 годов, занимая при этом должности то командира батальона, то командира полка. С 1880 года он был уже командиром бригады, потом командиром пехотной дивизии, наконец, командиром корпуса. Доводилось ему также побывать прибалтийским генерал-губернатором и членом Государственного совета. В 1912 году, в Высочайшем рескрипте, обращенном императором к генералу в связи с пятидесятилетним юбилеем его офицерской службы, были перечислены многочисленные воинские заслуги:
Участвуя в усмирении Польского мятежа 1863 года, в военных действиях в Средней Азии и в Восточной войне 1876–1877 гг., Вы оказали ряд боевых отличий…
Далее, после описания всех войн и подвигов генерала, государь так обращается к верному слуге отечества:
Высоко ценя верность долгу, проявленную Вами как на войне, так и при борьбе со смутою и кровью запечатленную, Я в сегодняшний день пятидесятилетия Вашей доблестной службы пожаловал Вам препровождаемые при сем бриллиантовые знаки ордена Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского.
Пребываю вам неизменно благосклонный…
А вот могила генерал-майора ИЛЬИ МИХАЙЛОВИЧА МИКЛАШЕВСКОГО (1877–1961). Вступив на военную службу по окончании Императорского Александровского лицея, он за два года Русско-японской войны награжден был шестью орденами, потом сражался на Первой мировой войне в Кавалергардском полку, в Добровольческой армии, командовал отдельной кавалерийской бригадой, был ранен, эвакуирован…
Как мы видели, далеко не всем похороненным на Кокаде изгнанникам пришлось сражаться на поле брани или довелось возноситься в высокие дворцовые сферы. Иные занимались вещами более приземленными и тоже вполне полезными для родины. К примеру, ПЕТР ПЕТРОВИЧ МИГУЛИН (1870–1948) был всего-навсего статским советником, ординарным профессором Петербургского университета по кафедре финансового права, то есть экономистом и юристом, а российская экономика, надо напомнить, переживала на рубеже позапрошлого и прошлого столетий дотоле не слыханное бурное развитие. При этом теория финансового права, которой посвятил себя профессор Мигулин, была мало разработана и даже не выделена как особая дисциплина. Этим занялся профессор Мигулин.
Родился он в Харькове, окончил юридический факультет Харьковского университета, был оставлен при университете, занимался финансовым правом и был уже двадцати семи лет от роду допущен к чтению лекций по кафедре торгового права. В тридцать лет от роду защитил он диссертацию в Казани и получил ученую степень магистра финансового права. Еще через год после публичной защиты диссертации «Русский государственный кредит» он утвержден был в докторской степени. Теория финансового права более была разработана на Западе, чем у нас, и профессор Мигулин неоднократно выезжал в страны Европы, чаще всего во Францию. В конце 1911 года ученый стал ординарным профессором в Петербургском университете, однако вступительная его лекция «была сорвана криками и шумом многочисленных студентов», которых, вероятно, в ту пору меньше интересовали научный анализ доходов и расходов государства, финансовые правовые акты и базовые правовые категории, чем политические страсти, кипевшие в стране. Обескураженный профессор уехал в отпуск к родителям в Харьков, но и вернувшись в столицу, лекций читать не стал. Именным высочайшим указом он был назначен членом Совета министра финансов, а в университете теперь заведовал Статистическим кабинетом. На 1917 год он предложил университету курс на тему «Война и финансы», но вскоре он был уволен согласно собственному прошению. Он еще издавал какое-то время на родине журнал «Новый экономист», но в 1920 году оказался в Париже. Здесь он вошел во Франко-бельгийскую ассоциацию профессоров-экономистов, выступал с докладами в Ницце, одно время был директором русской гимназии, изучал экономическое развитие России. Кстати, издали, из Парижа оно и было виднее. После массового истребления в Советской России самого трудолюбивого и успешного русского, украинского и прочего многонационального крестьянства профессор Мигулин, возглавлявший одно из отделений в эмигрантском кружке «К познанию России», активно работавший также в «Русской академической группе» и других эмигрантских объединениях, подвел итоги сталинской экономической политики в научном исследовании «Русская аграрная проблема и сельскохозяйственная катастрофа в Советской России». Со времени написания профессором-изгнанником этого труда прошло всего сто лет, и вот совсем недавно (в 2014 году) мне довелось читать, что проблемы эти уже поставлены у нас на повестку дня… Ваш голос услышан, почтенный профессор!
Судя по документам, собранным И.Грезиным, в 1929 году где-то на развалинах недобитого еще сельского хозяйства (в Кашарском совхозе Белгородской области) метался в поисках справки о своем социальном происхождении родной сын профессора Михаил Петрович Мигулин. Без такой справки он не мог наравне с другими членами совхоза вывозить навоз на поля, а справку о прошлой службе отца тогдашний ректор Ленинградского государственного университета не хотел давать сыну без отцовской доверенности, и бедный М.П. Мигулин тщетно выпрашивал у ректора эту справку, объясняя тяготы своего бесправного положения: «Эта справка нужна мне как сыну такового в подтверждение соцпроисхождения». Ректор был неумолим, и совхозный труженик снова и снова писал в отчаянье: «…мой отец находится в бегах за границей, и при всем желании доверенности от него я представить не могу, т. к. переписки с ним никакой не веду».
Если попросят меня показать могилу менее знаменитых и блистательных насельников кладбища, чем полководцы, принцы и придворные, я остановлюсь, быть может, у могилы, где похоронены супруги Мясниковы. МЯСНИКОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ (1879–1949) родился в волжском городе Симбирске. Он окончил пехотное юнкерское училище, повоевал на Русско-японской войне, окончил Николаевскую академию Генштаба, повоевал на Первой мировой, а потом и на Гражданской, где был начальником штаба Донской стрелковой бригады, потом послужил в штабе Севастопольской крепости, эвакуировался в Югославию и только оттуда перебрался с женой в Ниццу. Закончил он свой трудовой путь псаломщиком православного собора в Ницце. Супруга его МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА МЯСНИКОВА (1890–1977) много лет трудилась в атмосфере страданий и крови: сперва медицинской сестрой в Крестовоздвиженской общине Санкт-Петербурга, в Первую мировую войну в лазарете великого князя Дмитрия Константиновича, затем фронтовой сестрой милосердия в Персии, в Гражданскую войну была старшей сестрой Кубанского дивизионного лазарета. В эмиграции, в Ницце, снова была сестрой милосердия в клинике доктора Голузевского. Вечной была труженицей жена (а в последние 30 лет жизни вдова) полковника и псаломщика П.С. Мясникова.
НИНА СЕМЕНОВНА МЕТЕЛЕВА (урожденная ПРОКОПОВИЧ, 1876–1954), похороненная рядом с мужем своим, статским советником НИКОЛАЕМ САВЕЛЬЕВИЧЕМ МЕТЕЛЕВЫМ (1857–1837), была москвичка, скрипачка, профессор Московской консерватории. После Октябрьского переворота супруги Метелевы двинулись на юг, а потом дальше, за границу. В приморском Сухуми Нина Метелева дала свой последний концерт на родине. Корреспондент местной газеты писал тогда в сухумской газете:
Концерт <…> прощальный перед отъездом за границу явился грустно-праздничным подведением артистических итогов. В этом <…> заключительном аккорде Н.С. Метелева обнаружила <…> уравновешенную массивность звука, выразительную рельефную фразировку.
Критик писал о «подлинной артистической трепетности» скрипачки…
Потом была Ницца. Вместе с пианистом, композитором, педагогом, бывшим дирижером Московского камерного театра Евгением Гунстом Нина Семеновна открыла в Ницце курсы скрипки и фортепиано, преподавала, давала сольные концерты, играла на благотворительных концертах Общества помощи русским учащим и учащимся.
Всякий, кто знакомится с прожившими бурный век насельниками Кокада, нисколько не удивится, что многих из них в поздние годы жизни тянуло к писательству. Одним груз пережитого давил на плечи, другим хотелось заново пережить чудные мгновения былой жизни, третьи чувствовали свой долг перед новыми поколеньями. В общем мемуаристов насчитаешь на Кокаде великое множество. Несколько особняком в этой толпе пишущих стоит фигура однофамильца самого знаменитого из рожденных русской эмиграцией авторов, действительного статского советника МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА НАБОКОВА (1849–1914). Он написал произведение хотя и не вовсе редкостное в российской культуре, но все же особого рода, сочинение, не оставшееся незамеченным. Великий русский писатель А.П. Чехов шутил, что ему доводилось писать во всех жанрах, за исключением доноса. Так вот как раз в этом жанре и творил действительный статский советник М.В. Набоков, похороненный на Кокаде. До самых любопытных из потомков дошло главное сочинение М.В. Набокова, которое называется «Докладная записка о распространении в Петербурге гомосексуалистов со сведениями о лицах из высшего общества, 1880-е г.г. – нач. XX в.».
Труд этот, хранящийся в архиве, попал на глаза не только И.И. Грезину: вероятно, именно на это произведение так часто ссылается в своей замечательной книге «Другой Петербург» К.К. Ротиков (псевдоним писателя и некрополиста Ю.М. Пирютко), когда говорит об «уникальном источнике, характеризующем состояние “голубого” Петербурга в начале 1889 года».
Так или иначе, творение М.В. Набокова дошло до потомков в те трудные для родины дни, когда затронутая кокадским автором тема заполонила страницы российской прессы. Жаль, конечно, что писательские заслуги наименее известного из пишущих Набоковых никак не отмечены в надписи на его надгробном памятнике.
Похороненный на Кокаде АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ НАПРАВНИК (1866–1938) был сыном известного дирижера и композитора Эдуарда Направника (опера «Дубровский» и другие), который пришел в Мариинский театр в 1863 году, женился на русской певице Ольге Шредер в 1865-м, а в 1874 году получил русское гражданство для себя и своих четырех детей. Его сын Александр тоже работал в театре.
На Кокаде похоронен видный государственный и общественный деятель России АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ НАУМОВ (1867–1950). Он родился в Симбирске, закончил юридический факультет Московского университета, а в годы Первой мировой войны уже был членом Государственного совета и министром земледелия, активно участвовал в работе Красного Креста. Общественной деятельностью и благотворительностью он продолжал активно заниматься и в годы французской эмиграции, состоял в нескольких организациях помощи бедным и учащейся молодежи. Когда я впервые приехал в Ниццу, о Наумове еще вспоминали старые русские эмигранты, но по-настоящему напоминал о деятельности Наумова его собственный мемуарный двухтомник «Уцелевшие воспоминания». Это был еще один плодовитый эмигрантский писатель-мемуарист. Менее, впрочем, плодовитый, чем бывший тайный советник, камергер двора, профессиональный дипломат и последний добольшевистский русский посол в Испании АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ НЕКЛЮДОВ (1856–1943), покоящийся рядом с супругой своей ВЕРОЙ ВАСИЛЬЕВНОЙ НЕКЛЮДОВОЙ, урожденной БЕЗОБРАЗОВОЙ (1862–1935) и дочкой актрисой ЕЛИЗАВЕТОЙ АНАТОЛЬЕВНОЙ НЕКЛЮДОВОЙ (1899–1982). Будущий дипломат уже и родился за границей, в Афинах. Окончил он юридический факультет Петербургского университета и перед Первой мировой войной был русским послом в Болгарии, а к 1914 году полномочным министром России и чрезвычайным посланником в Швеции, где вел очень важные переговоры об отношениях России и Швеции в ходе войны. Позднее он состоял на дипломатической службе в Германии и во Франции, потом отправлен был послом в Испанию, где вскоре и завершилась его карьера дипломата, о чем он рассказывал супругам Буниным, навестившим его уже в эмиграции. Дом Неклюдовых понравился супруге писателя В.Н. Буниной, да и рассказ бывшего посла она записала по памяти:
Живут очень поэтично. Огромная липа в саду, напоминает деревню нашу. <…> Неклюдов рассказывал, что он отказался от звания посла при Временном правительстве. <…> «…Я предсказал большевиков. Ошибся на 8 дней только. В день, когда я получил извещение о войне, я почувствовал, что все пропало».
Кстати, об этом своем предчувствии Неклюдов написал в очерке «Предсказание русской революции», напечатанном в Берлине в 1922 году. А еще года через три-четыре он напечатал по-французски в Париже свои «Дипломатические мемуары».
Иван Бунин познакомился с Неклюдовым в Париже сразу по приезде, потом общался с ним в гостях у адмирала Пилкина, где были вдова адмирала Колчака и его сын. Бунин не нашел тогда с Неклюдовым общего языка и записал о нем в дневнике: «Совершенно не слушает собеседника». Позднее, на Лазурном Берегу, отношения Бунина с Неклюдовым наладились, а Вера Николаевна Бунина, с трудом, как и сам Бунин, привыкавшая к изменениям в материальном положении, с удивлением записала в свой дневник после бесед с женой Неклюдова и совместной прогулки с хозяевами:
Она урожденная Безобразова, у ее матери были имения в Тамбовский губернии. <…> Возвращались по проселочной дороге, по воздушному мосту, который почти весь сгнил <…> останавливались и рвали ежевику на компот. Они не могут позволить себе покупать фрукты на компот! Они, по-видимому, добрые люди и продолжают до сих пор давать взаймы…
Это было верное наблюдение. А.В. Неклюдов по старой привычке занимался благотворительностью (как позднее и его дочь-актриса), активно участвовал в работе Общества помощи русским учащимся в Ницце.
Месяц спустя после визита супругов Буниных бывший посол и активный общественный деятель эмигрантской Ривьеры А.В. Неклюдов нанес ответный визит своему знаменитому соседу-писателю. Вера Николаевна Бунина с молодой иронией (ей было тогда чуть больше сорока) записала в дневник: «У нас завтрак со старичками: барон Будберг, Ларионов и Неклюдов. <…> Все любят поговорить…»
На самом деле Вера Николаевна и сама любила поговорить с Неклюдовым, послушать его рассказы о русских дипломатах. А он действительно любил рассказывать, и при этом присутствие самого надменного Бунина для него было вовсе не обязательным. Вот дневниковая запись Веры Николаевны за один из самых тяжких для нее июльских дней 1929 года (молодая Галина Кузнецова окончательно выжила ее из мужниной спальни, о чем известно было всему русскому Грассу):
24 июля. <…> Звонок по телефону. Неклюдов, – Можно ли зайти? – Пожалуйста, очень рада, только я одна дома.
Пришел <…> Он знал Тютчевых и Анну Федоровну, и Китти-красавицу. Знал и отца их, рассказал, почему его дипломатическая карьера была окончена…
В пересказе Веры Николаевны история тютчевской отставки звучит до странности сдержанно и малопонятно. В рукописном дневнике Веры Николаевны попадаются и другие ссылки на рассказы Неклюдова (руководившего чуть не до самой своей смерти Кружком по изучению русской культуры и Русским историческим обществом в Ницце). Вот коротенькая запись о нынешнем Доме писателей на Поварской:
…много интересного рассказывал А.В. [Неклюдов] о доме Соллогуба-Бодэ-Колычева, что на Поварской, дом, где якобы жили Ростовы в «Войне и мире». Он в этом доме бывал еще гимназистом, знает все его закоулки…
Писатель-академик И.А.Бунин за истекшее десятилетие соседства в Грассе тоже успел оценить рассказы и знания соседа, и, когда Неклюдов закончил свою огромную мемуарную книгу («Старые портреты: семейная летопись») и даже подготовил ее в 1933 году с помощью милой дочери Елизаветы к изданию, Иван Алексеевич согласился написать к этому великолепному двухтомнику вполне восторженное предисловие:
Повествование А.В. Неклюдова обладает качествами, присущими характеру самого автора, живостью, непосредственностью, изящной простотой, подчас тонким остроумием, одушевлено сердечной, хотя и не слепой любовью к русскому прошлому, изложено отличным и несколько своеобразным языком, который как бы невольно приноравливается к описываемой эпохе и к тем лицам, которых выводит автор.
И в последующее десятилетие жизни А.В. Неклюдов немало писал на темы истории, печатался как в русских периодических эмигрантских изданиях, так и в разнообразных французских. Это Неклюдов по просьбе Бунина познакомил его в июне 1940 года с жившей в Ницце (и похороненной на Кокаде) внучкой А.С. Пушкина баронессой ЕЛЕНОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ ФОН РОЗЕН-МЕЙЕР (урожденной ПУШКИНОЙ, 1890–1943). Знакомство это произвело на писателя большое впечатление. Он записал в своем дневнике за 1940 год:
…6-го был в Ницце у Неклюдовых для знакомства с Еленой Александр. Розен-Мейер, родной внучкой Пушкина – крепкая, невысокая женщина, на вид не больше 45, лицо, его костяк, овал – что-то напоминающее пушкинскую посмертную маску.
Елена Александровна Бунину понравилась: она была молодая (на двадцать лет его моложе), крепкая («крепкая», «крепенькая» – любимые бунинские комплименты), она знала иностранные языки (как записала супруга Бунина со слов мужа, у которого с языками было туго, «в совершенстве английский, конечно, французский, арабский, персидский»), она жила за границей, ее покойный муж был посольским переводчиком (драгоманом), а что до сравнения симпатичного лица живой женщины с посмертной маской, то ведь тут все дело в том, с чьей маской.
В общем, она была интересная женщина и «родная внучка Пушкина». Бунин пригласил Елену Александровну в гости на виллу «Жанетта», и все обитатели виллы ждали ее с нетерпением. Именно дневники Бунина и его жены донесли до нас печальную историю Елены Розен-Мейер…
Год спустя после визита Лены Пушкиной в Грасс супруга писателя отметила, что мировоззрение у гостьи было «чисто ниццское», ненависть к большевикам и евреям, да ведь и сам Бунин, как большинство эмигрантов, надеялся, что теперь, под напором немцев большевикам придет конец.
Бунин несколько раз ездил в Ниццу, приглашал Елену Александровну в ресторан, а иногда в Грассе ломал голову над тем, как удается выжить внучке Пушкина. Она жила близ рынка Бюффа, таскала тяжелые сумки, что-то скупала, перепродавала на базаре, нищенский заработок. Был слух, что ее даже видели ночью у ресторана Негреско, где собирались приотельные девицы… Все эти слухи волновали писателя. Но роман с внучкой Пушкина у знаменитого писателя не удался. Сказывался уже возраст. Таяла былая решительность. К тому же, выпив одну-две рюмки коньяку, Иван Алексеевич не мог остановиться. Наутро всякий раз сожалел, записывал в дневник после ночных страхов: «Надо мне меньше пить».
В начале апреля 1942 года последняя возлюбленная писателя Галина окончательно ушла от Буниных. Бунин решился и назначил последнее свидание Елене Александровне в кафе близ ее дома, на рю Бюффа. Все пошло по тому же сценарию… Коньяк, еще коньяк. Бунин записал про эту последнюю их встречу в дневнике:
10. IV.42. Был в Ницце. Бюффа. Пушкина. Неприятно было, что сказала, что в ней «упрямая немецкая кровь». Ее жадность к моему портсигару, воровское и нищенское существование. Завтрак – 250 фр.! У Полонских. Дама в картузе. Вел себя хмельно, глупо.