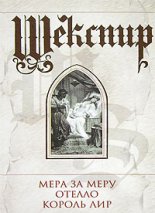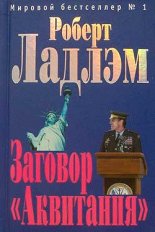Синие стрекозы Вавилона Хаецкая Елена
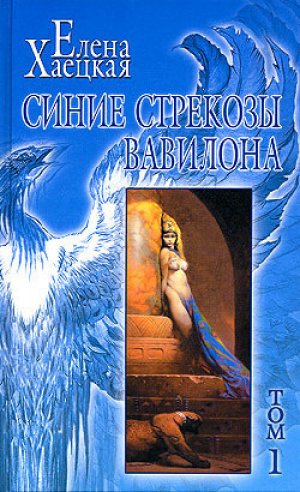
А Манефа вышла вперед и помогла сестре дотащить гроб. Задыхаясь и кашляя, вся потная, вынырнула Асенефа из повапленного гроба, повалила его на землю и сама рядом бухнулась. Мария налила и ей самогона.
— На-ко, выпей, вдовица, — сказала она дружески.
Асенефа жадно глотнула, поперхнулась, сердито кашлянула.
— Что ж вы, сучки, без гроба хоронить его надумали?
Впятером аккуратно перевернули гроб, привели в порядок сбитые покрывала и подушечку, уложили туда Белзу, устроили поуютнее. И каждая старалась что-нибудь поправить, чтобы удобнее было Белзе спать, ибо знали, что спать нетленному праху вечным сном очень-очень долго.
Поставили на простыни. Поднатужились, взяли. Опустили в могилу. И забросали землей.
Потом посидели еще немного, допили мариин самогон, доели помидорчики, огурчики и хлебушек, выдернули из земли лопату, чтобы вернуть ее служке у выхода, да и побрели прочь с кладбища, через воротца низенькие, крестиком увенчанные, по раскисшей дороге, через казнилище, сквозь гвалт вороний и чавканье собственных ног по грязи, к городской черте, к жизни, к людям, к Вавилону.
И пошла у них жизнь своим чередом. Марта ходила на работу и с работы, таскала полные сумки, воспитывала сына-балбеса, безотцовщину и хулигана, (уже дважды звонили из школы, просили зайти, но не было сил у Марты учительские бредни слушать).
Мария на подоконнике сидела, в окно смотрела, стихи писать забросила, на монотонные причитания матери отзываться перестала — тосковала, стало быть.
Актерка — та в театре своем работала (ее после Оракула без всякого Театрального института взяли в авангардную труппу и сразу на главные роли). То упоенно предавалась творчеству, то впадала в депрессии и запои, что, впрочем, подразумевалось с самого начала.
Манефа получала высшее образование на деньги сестры; жила у Асенефы в доме, хозяйничала и сдавала экзамены два раза в год.
Асенефа же неожиданно выказала большой вкус ко вдовству. Из черного облачения не вылезала, ходила по Вавилону вороной. И каждое воскресенье непременно посещала могилу Белзы. С тех пор, как в первый раз сумела договорить до конца молитву (прежде всегда получалось так, что и до середины не добиралась, все мешало что-то), молиться приучилась истово и подолгу.
Избавилась, кстати, от многочисленных женских хворей, постигших ее после неудачного аборта. Исцеление же свое приписало частому посещению могилы и общему благочестию. И часто, сидя под большим крестом, из чугунных труб сваренным, провожала глазами людей — то убитых горем, то деловитых и безразличных, думала: а скажи им, что там, под землей, уже год, как не тлеет прах, не поверят, усомнятся. А между тем, на могиле действительно происходили исцеления.
В этом убедилась также и Актерка, которую покойный Белза спас от мигрени — а болесть сия донимала Актерку уже долгие годы.
Актерка рассказала Манефе. Та долго отнекивалась, не хотелось ей грязь месить, топать за семь верст на христианское кладбище, бередить воспоминания, но все же поддалась на уговоры — пришла. И поскольку у нее ничего не болела, она просто попросила у Белзы немножко счастья. И сессию сдала на повышенную стипендию, так что смогла построить себе на следующую зиму хорошую шубу, из натурального меха.
Марта, сомневаясь и отчасти даже сердясь на самое себя — зачем поверила эдакой-то глупости! — тоже, таясь от остальных, пришла. Посидела, погрустила. Повздыхала, повспоминала. Выпила, закусила, служку по старой памяти угостила. А тот, на что был пьян в день белзиных похорон, Марту вспомнил, полез на могилу — «компанию составить», поговорил о жизни, посетовал на молодежь. Потом ушел, унес с собой запах носков и перегара. И Марта смущенно попросила Белзу избавить ее сынка от вредных привычек, отвадить от курения и еще — пусть бы учился немного получше, а то ведь совершенно времени нет с ним заниматься. Но по части педагогических проблем чудотворец оказался слабоват, так что Марта в нем разочаровалась.
В годовщину кончины наставника Белзы, как ни странно, ни одна из четырех его подруг не пришла на кладбище. Забыли. Вспомнили через день, ужаснулись — да поздно. А Мария — та вообще только через неделю опомнилась.
Одна только Асенефа помнила. Ждала этого дня, готовилась. Накупила красных роз, белых гвоздик, поминальных птичек из черного теста. И поехала.
Особенная тишина царит здесь, на бедном кладбище. И вороний крик не помеха этой тишине.
И еще безлюдье. Ах, как целит душу это отсутствие людей! Двое свежеповешенных (кстати, опять в дорогих костюмах — недавно было громкое дело по растратам в какой-то финансовой корпорации, настолько громкое, что даже асенефиных ушей коснулось) да лопоухий солдатик, охраняющий их, — не в счет.
Нежнейшими словами разговаривает с Белзой его законная супруга. Знает Асенефа — слушает ее из-под земли нетленный прах. И оттого тепло разливается по Асенефиной душе.
— Удобно тебе спать в повапленном гробу, — лепетала она, раскладывая на могиле красные розы и белые гвоздики крестом, чередуя кровавое и снежное на белом снегу. — Хорошие сны тебе снятся, дорогой мой. Ах, как славно похоронили мы тебя. Ведь ты понимаешь, мое сердце, что не могла я везти тебя на кладбище и предавать земле прежде, чем довершу молитву. И до чего же тяжелое это оказалось дело — молиться Господу Богу!
Сразу же после похорон, когда возвращались в Вавилон, Манефа задумчиво сказала:
— Какое удивительное погребение. Какое… архетипичное.
Асенефа покосилась на сестру неодобрительно. Умничать девочка начинает. В ту же дуду дудит, что и Мария — а по Марии уже сейчас видать, что хорошо баба не кончит.
И Мария, разумеется, подхватила.
— Знаешь, Манефа, — сказала она, — любое погребение, каким бы оно ни было, в принципе своем архетипично.
Во как. Марта с Асенефой ничего не поняли, да и хрен с ним.
— Гляди, как красиво украсила я холм твой, — разливалась Асенефа, точно мать над колыбелью.
И тут в ее монотонное нежное лепетание ворвалось чье-то визгливое причитание. Асенефа поморщилась: нарушают благолепие, вторгаются в тишину, в безголосье, в безлюдье.
По кладбищу, путаясь в длинной не по росту шинели, брел давешний лопоухий солдатик из караула. И за версту несло от него кирзовыми сапогами. Шел он слепо, пошатываясь, точно пьяный, руками за голову держался и выл.
Асенефа встала, величавая в черных одеждах, сурово оглядела его.
— Рехнулся? — рявкнула.
И солдатик подавился, замолчал, уставился на нее перепуганными вытаращенными глазами. Башка коротко, чуть не наголо стриженая, глаза мутные, как у щенка, губы пухлые, пушок под носом какой-то пакостный растет, как пакля. По щекам, где тоже некоторая щетина пробивается, щедро разбросаны багровые прыщи.
— Простите, хозяйка, — вымолвил, наконец, солдатик. И замолчал.
Из глаз настоящие слезы покатились.
Асенефе вдруг стало его жаль. Никогда таких не жалела, но видно, стареть начала, сострадание закралось в ее одинокое сердце.
— На, выпей, — сказала она и протянула ему бутыль с водкой, для поминания Белзы приготовленную. — Почни.
Солдатик, как во сне, бутыль взял, крышку свинтил, влил в себя несколько глотков, побагровел. Асенефа ему огурец сунула, он поспешно зажевал.
— Сядь, — повелела она.
Сел, да так послушно, что слеза наворачивается. Шинелку примял, кирзачами неловко в самую могилу уперся — неуклюжи сапоги, а солдат и того больше.
— Чего ревел? — спросила Асенефа. Совсем по-матерински.
Он только головой своей стриженой помотал.
— Смертушка мне, хозяйка, — прошептал солдатик. — Куда ни глянь. Все одно, смерть.
— Ты вроде как в карауле стоял, — заметила Асенефа. — Или это не ты был, а такой же?
— Не, я… — Всхлипнул, длинно потянул носом сопли.
Асенефа снова дала ему бутылку, он вновь приник к голышку. Выдохнул, рыгнул, покраснел еще гуще.
— Так чего из караула ушел? Поблажить захотелось?
— Погибель мне, хозяйка… И идти некуда…
И ткнулся неожиданно прыщавым, мокрым от слез лицом, Асенефе в колени. Она и это стерпела. Превозмогла себя настолько, что коснулась рукой жесткого ежика волос на затылке. И ощутив неожиданную эту ласку, солдатик заревел совсем по-детски, безутешно, содрогаясь всем телом.
Дождавшись терпеливо, чтобы он затих, Асенефа спросила:
— Что натворил-то?
— Поссать отошел я, хозяйка… На минуту только и отлучился, невмоготу уж стоять было… — начал рассказывать солдатик и засмущался пуще прежнего. — Извините…
— Хер с тобой, — великодушно простила его Асенефа. — Давай дальше. Кто наебал-то?
— Откуда ж знать? — Он поднял лицо, и она увидела, что отчаяние паренька неподдельно, что страх его не на пустом месте. И впрямь смерть наступает ему на пятки, иначе откуда у такого молоденького такая безнадежность в глазах? — Ох, откуда же мне знать, хозяйка… Велено было стеречь повешенного, ну, того, что главнее… «Без надлежащего погребения»… А они, бандюги эти, они же все горой друг за друга. Закон у них такой бандитский. Порешили, видать, босса своего похоронить как положено и все тут. В этих караулах один страх: не отдашь казненного сообщникам — тебя бандиты порежут, отдашь — государство вздернет… — Он судорожно перевел дыхание и высморкался двумя перстами, отряхнув их за спиной на землю. — А у нас в караульной службе как? Ежели караульный упустил, так караульному и отвечать. В уставе писано: «…отвечает головой…» Вот и отвечать мне, не сегодня, так завтра.
— Дезертируй, — предложила Асенефа. — Я тебе денег на дорогу дам.
Солдат помотал головой.
— За доброту спасибо, хозяйка, только лишнее это. Все одно словят.
Шальная мысль прокралась в голову безутешной вдове. И сказала солдату:
— Вот еще хлеб и колбаса у меня есть. Покушай пока.
Доверившись вполне материнским заботам Асенефы, солдат взял денег и отправился разыскивать служку. Платить служке не понадобилось — спал мертвым сном, упившись вдребезги. Лопату отыскал солдат в подсобке, у самой двери стояла и по голове его стукнула, как дверью дернул.
Асенефа, полная решимости, стояла, выпрямившись во весь рост у креста.
Указала пареньку на холм, под которым Белза спал.
— Копай!
Солдат ошалело взглянул на нее. Но вдова не шутила.
— Делай, что говорят.
Ах, какие знакомые слова, каким покоем от них веет. И сунул солдатик лопату прямо в середину креста, выложенного цветами, кровавыми и снежными. Отвалил черной земли на снег. Потом еще. И еще.
Показался гроб.
Солдатик в нерешительности поглядел на Асенефу. Но она кивнула: дело делаешь, парень, дело!
Полез в могилу, снял крышку.
Асенефа нависла над гробом. И снова увидела безмятежное лицо Белзы, даже не тронутое тлением, его ласковые губы, две морщинки возле рта, его светлые ресницы, загнутые вверх, редкие золотистые волосы над высоким лбом.
— Вынимай покойника, — распорядилась Асенефа.
Солдат подчинился. Подлез под Белзу, поставил его на ноги. Асенефа ухватила прах под мышки и выволокла из ямы. Потом и солдатик вылез, забросал могилу землей, после натаскал свежего снега, чтобы не так бросалось в глаза, что могилу недавно вскрывали.
Белза же, холодный, окоченевший, стоял, как бы опираясь на верную свою подругу. И Асенефа с удовольствием ощущала прикосновение его кожи, такое знакомое. Как не хватало ей этого прикосновения весь этот год!
— Дай-ка лопату, — сказала Асенефа солдату. — Я в подсобку верну, чтобы этот пьянчуга не заметил. А ты прах бери.
И пошли: впереди, метя черным подолом снег, вдова с лопатой в руке; за ней, сгибаясь под тяжестью праха, на согбенную шею положенного, подобно древесному стволу, солдатик юный, от бреда происходящего совсем потерявший голову.
И вздернули нетленный чудотворный прах на виселицу вместо украденного бандитского трупа — высоко и коротко…
Когда спустя неделю на кладбище прибежали Мария с Мартой да Манефа с Актеркой — Асенефа им только через неделю все рассказала — нетленный прах уже совершенно был расклеван воронами.
Судья неподкупный
Если выпало в Империи родиться,
лучше жить в глухой провинции у моря.
Иосиф Бродский
Аткаль был рабом Хаммаку. Так, во всяком случае, значилось по таблицам.
Ибо официальные документы составлялись на глиняных таблицах, как повелось исстари. Только потом уже данные передавались в компьютерную службу городской информации.
Но компьютер компьютером, а богов гневить незачем. Скучные, неизобретательные люди — граждане Сиппара. Консервативные. Да и службу-то информационную завели в городе на пятнадцать лет позже, чем появилась она в Вавилоне. Все артачились отцы города, берегли городскую казну, и без того сильно разворованную.
По этим самым таблицам выходило, что Аткаль учтен был по долговым обязательствам его родителей; тогда же была определена цена ему — 25 сиклей немаркированного серебра. Таким-то образом и перешел малолетний Аткаль в собственность госпожи Китинну, матери Хаммаку.
Госпожа Китинну, в свою очередь, преподнесла мальчика своему сыну — подарок сделала на день рождения. Хаммаку, по малолетству, о том не ведал; несколько лет прошло, прежде чем понимать начал, что к чему. А тогда был Хаммаку таким же несмышленышем, как его раб; они и выросли, можно сказать, вместе.
Так что на самом деле вместо брата был Аткаль своему молодому господину.
Где один, там и другой.
Пойдет, например, молодой Хаммаку к воротам Думуку. До ночи не смолкает там буйное торжище. Есть, на что поглядеть, что послушать, обо что кулаки размять. Там-то непременно найдет себе занятие Хаммаку — обязательно сыщется кто-нибудь, кто ему не угодит, не ценой на товар, так рожей, не рожей, так мятыми бумажными деньгами, а то просто пена в пивной кружке подозрительно жидкой покажется. Аткаль тут как тут: стоит за спиной господина своего, поддакивает, вставляет словцо-другое.
А то понесет обоих в кабак к чернокожей Мелании. Сколько раз уж напивался там Хаммаку до положения риз. И Аткаль, бывало, не отстает от господина своего: тоже лыка не вяжет. Так вдвоем, друг за друга хватаясь, идут по улице, песни горланят: господин в лес, а раб по дрова.
Возвращаясь домой пьяным, не упустит Хаммаку случая пошалить: то по витрине камнем ахнет, чтобы поглядеть, как весело брызнут стекла. То к девкам начнет приставать. И здесь не в стороне Аткаль: битое стекло каблуком, каблуком; девке строптивой по шее, по шее: не ломайся, когда благороднорожденный волю свою изъявляет. Сказано: ложись, значит, ложись, хоть на траву, хоть на мостовую, хоть в сточную канаву. А после Хаммаку, глядишь, и сам к той же девке сунется. Иная быстро смекнет, которому из двоих отказать нельзя, а кто перетопчется. А другая, глядишь, и Аткалю даст. Но Аткаль в любом случае не в обиде. Нрав-то у него незлой.
Кроме того, замечено было, что Аткаль всегда оставался трезвее хозяина. Не было еще случая, чтобы не довел кровинушку до дома. И госпожа Китинну ценила молодого раба. Смотрела сквозь пальцы даже на мелкие кражи в доме (а такой грешок за Аткалем по незрелости лет водился). Сумел убедить ее раб в полезности своей, потому терпели его в хозяйстве. И даже пороли реже, чем следовало бы.
А следовало бы.
Хоть как брат был Аткаль для Хаммаку, а по глиняным таблицам все же числился его рабом.
Жили они в городе Сиппаре, в двух переходах от Вавилона. Невелик и скучен Сиппар.
Но и Сиппара достигает душное дыхание вавилонье, где все смешалось: тяжелые женские благовония и дымы кадильниц на многочисленных алтарях (ибо кому только не поклоняются в Вавилоне!), кисловатый дух человеческого пота и сытный чад от готовящихся блюд (ибо сытнее и вкуснее, чем в иных местах Земли, едят в Вавилоне)…
Каждый вдох, каждый выдох огромного города жадно ловит Хаммаку. Точно голодный на запах хлеба, тянется к любому слушку из столицы. И коростой от испарений Вавилона покрылась душа Хаммаку.
Все это видела мать, госпожа Китинну, хозяйка дома. Каждый вечер возносила она горячие молитвы, обратясь лицом туда, где в громаде черных садов высились стены храма Эбаббарры.
И слушало обитавшее там божество.
— О Шамаш, Солнце Небес Вавилонии! — говорила старая женщина, и тяжелые золотые серьги качались среди черных с проседью, густых ее волос речи в такт. — Каждый день проходишь ты от Востока к Закату. Держишь путь от пределов Шаду, где поднимаешься с ложа твоего, до пределов Амурру, где ждет тебя новое ложе. Видишь с небес все, чинимое людьми, и нет ничего, что не было бы доступно божественному твоему взору. Потому назван ты богом Справедливости, Судьей Неподкупным.
Почтив такими словами божество, переходила мать Хаммаку к заботам, что тяжким камнем лежали у нее на сердце.
— Нынче же, в воскресенье, в день твой, принесу тебе еще одного ягненка, сосущего мать, и пусть кровь его прольется в твою честь на золотом алтаре. Убереги моего сына Хаммаку, удержи от бесчинств. Пусть бы поменьше таскался по девкам, не мотал бы деньги по кабакам. Полно тревоги сердце мое. Что будет, когда не станет рядом с ним матери? Кто позаботится о том, чтобы хватало ему и хлеба, и кефира, и сладких булочек с маком?
Не напрасны были тревоги госпожи Китинну. Скончалась в самом начале лета и похоронена была в семейном склепе, о котором сама же заранее и позаботилась, ибо слишком хорошо знала беспечный нрав своего сына.
К началу месяца арахсамну завершился траур по матери.
Унылое время простерлось над Сиппаром. Листья с деревьев облетели, снег выпал и тут же растаял. Под утро подмораживало.
Как раз наутро и гнал Хаммаку раба своего за пивом, либо за кефиром, смотря по тому, какой напиток употреблялся накануне. На гололедье, да с похмелья поскользнулся и грянул головой об асфальт несчастный Аткаль. И так умом не крепок, а тут совсем дурачком сделался. Пил себе пиво да улыбался под нос. Как будто ведомо ему что-то стало. Будто тайну ему какую-то доверили, и болтается эта тайна у него во рту, в зубы стучится — на волю просится.
Хаммаку разозлился, два раза по морде ему съездил — не помогло; он и отступился. Не до улыбочек аткалевых, у самого голова трещит.
Тут кстати и день рождения молодого господина подоспел — 11 арахсамну [6 ноября]. Двадцать семь лет назад появился на свет младенец, зачатый в законном браке от благородных и благороднорожденных родителей; отделен был от последа, погребенного надлежащим образом и при соблюдении всех обрядов; обмыт, запеленут и закутан ради предохранения от сквозняков — и в таком виде поднесен к материнской груди.
С тех самых пор ничего, кроме тревог и неприятностей, не видела от него госпожа Китинну. Но рука у хозяйки дома была твердая: крепко держала она в узде своего неистового отпрыска. Умела приструнить, когда надо. Могла и денежного содержания на неделю-другую лишить. А истерики Хаммаку были для нее как свист ветра в трубе.
И вот мать умерла. Как с цепи сорвался Хаммаку. Поначалу еще вел себя более-менее смирно. Будто пробовал: а что будет, если из материнского приданого, для будущей жены Хаммаку сберегаемого, взять золотые серьги да пропить их?
Попробовал. Пропил.
И ничего ему не было. Ни от богов, ни от людей.
Напротив. Весело было. Девки — те даже целовали ему руки и ноги. Заодно и верному Аткалю перепало. Пока господин шалил с девицами, раб сзади стоял, дергал его за полу, знаки делал, рожи корчил. И снизошел Хаммаку — отцепил от себя самую щуплую из девиц, наделил раба своего: пользуйся, Аткаль. А девке строго наказал: «С ним пойдешь». И пошла, не посмела перечить.
Хаммаку это очень понравилось.
Да и Аткалю понравилось.
Вот напьется Хаммаку, двинется по знакомым кабакам куролесить; Аткаль за ним тенью. Встретит знакомого, позовет с собой. Тот хоть и понимает, из чьего кармана деньги на угощение, а благодарность испытывает все-таки к Аткалю: кабы не позвал Аткаль, ничего бы и не было — ни веселья, ни даровой выпивки, ни баб.
На свой день рождения пышный пир устроил молодой господин Хаммаку. Полон дом гостей назвал.
Пришли к нему сыновья богачей. Многие уже тишком ощупывали деревянную облицовку стен, шарили глазами по комнатам — удобно ли расположены; понимали — недалек день, когда Хаммаку заложит, а то и продаст дом свой.
Явились и гости поплоше, попроще. Их Аткаль втихомолку наприглашал, о чем Хаммаку не то чтобы не знал, а как-то не задумывался.
Аткалевы гости тоже глазами по сторонам зыркали, однако же воровать ничего не смели. С самого начала предостерег их насчет этого Аткаль: «Чтоб рук не распускали. Замечу — выдам властям. И не местному бэл-пахату, а ордынцам, когда за данью приедут. Брошусь в ноги и будь что будет».
Угроза подействовала. И хоть знали все, что голос Аткаля не может звучать громко в Сиппаре, да и нигде не земле — виданное ли дело, чтобы голос раба где-нибудь звучал громко? — а кто их знает, ордынцев, могут ведь и услышать.
Под Ордой жили вавилонские города тридцать шестой год. С той поры, как поросло травой забвения Великое Кровопролитие, жили, можно сказать, не тужили. Орда напоминала о себе нечасто. В Сиппар два раза в год наведывался на косматой лошадке низкорослый кривоногий человек с узкими глазами на плоском лице; с ним еще десяток таких же узкоглазых. Бэл-пахату, городской голова, с нижайшими поклонами выносил дань — большой холщовый мешок, набитый серебряными слитками, каждое клейменое, лучшего качества. Ордынец даже в здание мэрии зайти не всегда соизволит, только в мешок заглянет, проверит, точно ли серебро. Навьючит на лошадь; с тем и уедет. Ни здрасьте, ни до свиданья.
В самом начале ордынского владычества, на втором или третьем году Великого Кровопролития, мэр города Аррапха решил подшутить над косоглазым: вынес ему в мешке вместо серебра столько же по весу булыжников, из мостовой выломанных. Ордынец мешок с данью взял, не проверив, да так и уехал в степи.
Неделю Аррапха за живот держалась, чтобы пояс не лопнул от смеха. Целую неделю поносила невежд-завоевателей. Косыми глазами своими не отличают серебро от камней! Драгоценностью предстало варварам то, что топчут ногами благородные граждане — вот каковы эти варвары!
На десятый день смеха вернулись ордынцы. Было их больше тысячи. Вошли в город на рассвете вместе с большим торговым караваном. Разговаривать не стали — вырезали все население, не пощадив ни женщин, ни детей. Заодно и пришлых купцов из каравана истребили, хотя вот уж кто был решительно не при чем.
Больше с данью никто шутить не решался.
В местные дела ордынцы носа не совали. Под солнцем их безразличия процветали торговля и храмы, сельское хозяйство и ремесла обширной Империи. Кто разберет темные души косоглазых — странный они народ, непостижимый для цивилизованного человека.
Маячили ордынцы где-то в степях к северу от Вавилона, далеко от стен городских. Каким богам молились, чем там, в своих степях, занимались? Охота еще думать об этом…
Иной раз, случалось, испытывали ордынцы потребность в людской силе. Однажды в Сиппар нагрянули — было это года через два после рождения Хаммаку. От серебра на сей раз отказались, вынь да положь им двести молодых мужчин.
Покуда отцы города думу думали, списки ворошили, рвали друг у друга бороды, разбираясь, кто и сколько задолжал казне и с кого, следовательно, надлежит снять большее количество молодых рабов, ордынцы решили вопрос по-своему. Не стали дожидаться. Прошлись по улице, захватили столько человек, сколько им требовалось, и, связав веревкой, угнали в степи.
Таким образом угодили в рабство несколько благороднорожденных. Потом в Орду ездили родители знатных юношей, валялись у грязных сапог косоглазого владыки, молили отпустить сынков, деньги трясущимися руками совали. Ордынцы на деньги и не поглядели. Владыка же сказал отцам сиппарским, над горем их посмеявшись: «Всего вашего серебра не хватит, чтобы заставить нас в сиппарском полоне копаться, искать для вас сыновей. Все вы на одно лицо, и противное это лицо». И ушли ни с чем отцы сиппарские.
Но это было давно, года через два после того, как глаз Шамаша впервые упал на Хаммаку.
Что же увидел глаз Шамаша в день нынешний, 11 арахсамну 36-го года?
Увидел он пиршественные столы, загромоздившие столовую покойной госпожи Китинну. Не хватило одного стола рассадить всех гостей Хаммаку. Пришлось нести еще два. Один взяли из кухни, другой у соседей заняли. Заодно и самих соседей в гости зазвали. Аткаль постарался. Юлой вертелся, у всех на виду, у всех на слуху: как можно без Аткаля?
Никак не можно.
Противно Шамашу.
Да и кому бы понравилось: стол весь в объедках, в винных лужах, морды у гостей пьяные, распухшие, речи ведутся бессвязные.
Но вот поднял голову и вскричал Хаммаку, вспомнив неожиданно о брате своем названном:
— Где Аткаль? Хочу видеть Аткаля!
Тотчас услышал его Аткаль, подбежал, мокрый рот растянул в счастливой улыбке — дурачок дурачком с тех пор, как об асфальт стукнулся.
— Раб! — обратился к нему Хаммаку. И глубоко задумался.
Аткаль ждал с терпением. И любовь светилась во взгляде его темных, слезливых от выпитой водки глаз.
И исторг Хаммаку такой приказ:
— Свечек желаю именинных числом двадцать семь!
Аткаль искренне огорчился:
— Да где ж я их возьму?
— Не знаю, — немилостиво произнес Хаммаку. — Ищи где хочешь, но чтобы через пять минут были.
И ушел с пиршества озадаченный Аткаль — свечи именинные господину своему искать. Где бродил и долго ли отсутствовал — того не понял никто, включая и самого Аткаля, ибо все были чудовищно пьяны. Но свечки числом ровно двадцать семь добыл. На вопрос, откуда добро (не похитил ли, а то отвечай потом за дурака), только улыбался улыбочкой своей, таинственной и глупой.
И Хаммаку рукой махнул: и впрямь, не все ли равно. Главное — вот они, свечечки. А то какой день рождения без именинных огней? Мама — та всегда пирог большой заказывала в пекарне. И приносили пирог маленькому Хаммаку — огромный, как тележное колесо…
Не стало мамы, и наперекосяк все пошло. Вот и пирога нет, не побеспокоился никто.
Повелел Хаммаку рабу своему стать на колени. Аткаль приказу подчинился, на колени стал, лицо к брату названному поднял, улыбнулся. Чуял, задумал что-то Хаммаку. Какую-то знатную шалость.
— Голову ровно держи! — прикрикнул на него Хаммаку.
И начал привязывать свечки к волосам Аткаля — одну за другой. Тщательно привязывал — не хотел раба своего подпалить. Да и в доме пожар совершенно лишнее дело.
Привязывал и приговаривал: «Подарок ты мой ко дню рождения…»
Потом зажигалку вынул из кармана.
Гости, смекнув, в чем забава, смеяться начали. И Аткаль смеялся, хотя горячий воск стекал ему на голову, больно обжигал. Хорошую шутку отмочил Хаммаку, с фантазией человек. Далеко пойдет, если не прирежут его по пьяной лавочке.
Только когда свечи почти до самых волос аткалевых догорели, соблаговолил господин Хаммаку — дунул. С третьего раза все загасил под общий хохот и гром аплодисментов. Пнул Аткаля ногой — иди, не нужен больше.
Поднялся Аткаль и вышел на улицу. Волосы слиплись от воска, на левом виске обгорели немного, лицо в потеках сажи, хмель из головы выветрился. Шел и давился слезами, а отчего так ломило в груди, и сам понять не мог.
Но всему приходит конец, и хорошему — скорее, чем плохому. Закончилось материнское приданое. Все пропил Хаммаку на радостях, что нет за ним больше глаза. Уплыли за полцены в жадные руки торговцев платья, выкрашенные синей и пурпурной краской, драгоценности, особенно же — диадема с зелеными камнями в трех зубцах. Даже кое-какую мебель продали.
Вокруг Хаммаку уже торговцы недвижимостью виться начали. Отпихивали друг друга, вели с молодым хозяином липкие, многозначительные разговоры. И впрямь, дошло уже до того, что начал прикидывать Хаммаку, не заложить ли ему дом свой.
А потом неожиданно одумался. На удивление всем встряхнулся. И в пропасть, для него заботливо приготовленную, так и не шагнул.
Друзьям Хаммаку это, понятное дело, не понравилось.
До того даже дошло, что то один, то другой тащил Аткаля в кабак, угощал там за свой счет, а после жадно выспрашивал у него, пьяненького: «Что это с молодым господином приключилось?»
Аткаль даровую выпивку принимал с охотой и, по обыкновению своему, еще дружков приводил — пусть и тем перепадет немного радости. Приятели Аткаля сплошь были дрянь и голодранцы, но дом Хаммаку стоил того — терпели стервятники и Аткаля, и дружков его.
Однако только то и сумели из раба вытянуть, что ударился он головой об асфальт, что господин Хаммаку далеко пойдет, поскольку фантазия у него богатейшая, и что, возможно, откроет господин Хаммаку свое дело.
«Да какое дело-то?» — допытывались у Аткаля. Тот не отвечал, поскольку и сам ничего не знал. Только так, догадывался.
Но так или иначе, а в деньгах Хаммаку нужду испытывал. И долго бы ломать ему голову, к раздумьям не слишком привычную, если бы не счастливый случай.
В начале зимы прибыл в Сиппар приказчик вавилонского банкира. Звали приказчика Рихети.
Случай свел его с Хаммаку у торговых ворот, где приказчик привязал своего осла, поручив пареньку из лавочки за небольшую плату стеречь животину и ее поклажу. Сам же отправился по своим делам, устроив ослика, как думал по наивности, наилучшим образом.
И вот выясняется, что и паренек-то к лавочке никакого отношения не имеет, и что за такие деньги не то что осла — ослиный помет стеречь никто не станет, а главное — ни осла, ни паренька, ни денег своих господину Рихети не видать уже никогда.
Настроение господина Рихети было не из лучших. Ибо нравы провинциальные оказались грубы, а народишко куда как неотесанный.
Тут-то и подвернулся ему Хаммаку.
На самом деле Хаммаку давно околачивался поблизости — любопытствовал. Выждал момент и объявился: вот он я. Вы из столицы, господин? Оно и видно. Сразу заметно, что вы из Вавилона. И выговор чистый. И одежда пошита исключительно. Да и парикмахер, по всему видать, у вас отменно опытный…
— А толку-то? — Господин Рихети сердито оборвал цветистую речь молодого сиппарца. И с досадой махнул рукой. Пухлой такой ручкой, с женскими почти ямочками у каждого пальца.
Был этот господин Рихети такой кругленький, толстенький, с лоснящимся лицом. Имел крупную глянцевитую лысину, по которой так и тянуло пощелкать ногтем, и густые черные брови, приподнятые как бы в вечном удивлении.
И глядя на огорчение почтенного этого господина, все больше проникался Хаммаку искренним желанием облегчить ему тяжкую ношу неприятностей. Сгладить неприятное впечатление, произведенное Сиппаром. Воистину, это не более чем недоразумение. И если господин соблаговолит…
Словом, Хаммаку пригласил вавилонца к себе в дом — это совсем недалеко отсюда, господин! — на стаканчик доброй домашней наливки. Чисто символически. Не на улице же разговаривать.
Рихети согласился.
Несмотря на опустошения, произведенные кутежами Хаммаку в домашней казне, жилище его все еще хранило память о госпоже Китинну и выглядело вполне благопристойно. Разрушить дом — на это тоже время требуется.
Когда вошли, спугнули трех жуликоватых с виду бездельников, собравшихся вокруг бутылки. Щедр был Аткаль, когда заходила речь о хозяйских запасах. Одного Хаммаку кое-как знал — раб из соседского дома, помогал Аткалю столы таскать на памятный тот день рождения. Остальных впервые видел.
— Брысь, — в спину им сказал Хаммаку.
Господин Рихети проводил их глазами, подумал о чем-то, едва вслух не высказался, но смолчал. До поры.
Позволил усадить себя в кресло, принял из рук молодого хозяина стаканчик, наполненный красным сладким вином, густым — хоть в пирог вместо начинки клади. Поговорили о пустяках. Потом спросил Рихети, не трудно ли по нынешним временам содержать такое количество рабской прислуги. В три горла кушать не будешь, а использовать рабов в услужении — не приносит никакой прибыли.
Хаммаку пожал плечами.
— Да я бы и продал одного-двух, да где покупателя сыщешь? В Сиппаре состоятельных людей мало.
— Об этом-то я и хотел бы с вами поговорить, — уронил Рихети.
И еще раз огляделся в доме. Хороший дом, доверие внушает. Чувствуется здесь крепкая хозяйская рука.
Хаммаку неожиданно напрягся. Ему хотели предложить какую-то сделку. Он встал, налил еще вина, себе и гостю. Пожаловался на сиппарский климат. Вроде бы, недалеко от Вавилона, а насколько хуже здесь погода. Зимой мокро, летом ни жары тебе настоящей, ни дождей, для сельского хозяйства столь необходимых. Да, в Сиппаре жить — здоровье терять.
Гость вежливо позволил себе не согласиться. С точки зрения климата Вавилон, конечно, благоприятнее. Однако воздух вавилонский… Выхлопные газы… Одна только труба химкомбината чего стоит!.. Нечестивцы, воистину нечестивцы. Построили ее выше башни Этеменанки, хотя издревле запрещено в Вавилоне возводить что-либо выше башни Этеменанки. Того и гляди разгневаются боги. Впрочем, городским властям нет до того никакого дела. На взятках жиреют…
Хаммаку ни в малейшей степени не трогало оскорбление, нанесенное химкомбинатом священной башне Этеменанки. Однако же он покивал и похмурил брови. Ужасно, когда не соблюдаются традиции. Чудовищно. В голове не укладывается.
Провинция все же чище, продолжал господин Рихети. И старину чтит. И, главное, нет этого отвратительного смога.
Хаммаку позволил себе напомнить собеседнику, что для молодого предприимчивого человека Вавилон представляется обширным полем деятельности, в то время как Сиппар — сущая дыра и захолустье, только для ссылки и пригодное.
Рихети пожал плечами. Многое зависит от того, как повести дело. В Вавилоне чрезвычайно жесткая конкуренция. А здесь, в провинциальной глуши, многое еще предстоит сделать впервые. И тот, кому это удастся, может — при наличии известной ловкости — неплохо подняться.
— В любом случае, я ничего не могу начать без хорошего кредита, — сказал Хаммаку. Более молодой и нетерпеливый, он первым заговорил без обиняков.
— Я не уполномочен фирмой выдавать кредиты, — так же прямо ответил Рихети.
Но таким тоном было это сказано, что Хаммаку не успел ощутить даже мимолетного укола разочарования. Ясно было, сейчас последует предложение. И неплохое предложение. Выгодное. Может быть, даже очень выгодное.
Рихети попросил еще вина. И, если можно, какого-нибудь печенья. Хаммаку поспешно обслужил своего гостя.
Стоял, глядел, как пьет Рихети. Солнечный блик плясал на лысине приказчика. Хилый солнечный лучик чудом пробился сквозь толщу зимних облаков — и все для чего? Только лизнуть череп пожилого вавилонца и тут же исчезнуть.
Наконец Рихети отставил стакан. Вздохнул.
— Все не могу успокоиться из-за этого проклятого осла.