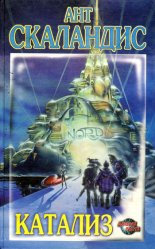Узница Шато-Гайара Дрюон Морис

С минуту Мариньи молча глядел на сына. «Наш король Эдуард, – подумал он, – большой знаток мужской красоты. Может быть, он не останется равнодушным к внешности посланца».
– Возьмите с собой только двух конюших и сколько положено слуг. В пределах французской земли ведите себя поскромнее, не разыгрывайте сиятельного вильможу. И скажите, чтобы вам из моей казны выдали две сотни ливров, нет, одну, и этого вполне хватит.
В дверь постучали сначала раз, потом другой.
– Мессир Алэн де Парейль явился по вашему приказанию, – доложил жезлоносец.
– Пусть войдет. Прощайте, Луи, желаю вам счастливого пути.
Ангерран де Мариньи обнял сына, что случалось с ним не так-то часто. Потом, обернувшись к вошедшему Алэну де Парейлю, взял его под руку и повел к креслу, стоявшему возле камина.
– Погрейся сначала, Парейль, на дворе неслыханный холод...
Некогда черные волосы капитана лучников уже начали серебриться, время и ратные труды оставили свой след на его лице, а глаза видели столько битв, столько поединков, пыток и казней, что разучились удивляться. Трупы повешенных на Монфоконе стали для него привычным зрелищем. Только в течение одного последнего года проводил он Великого магистра ордена тамплиеров на костер, братьев д'Онэ на четвертование и принцесс-прелюбодеек в узилище. Но ведь он отвечал, помимо того, и за целую армию лучников, и за все гарнизоны, расположенные во всех крепостях Франции, и тем самым на нем лежала обязанность поддерживать порядок во всем государстве. Мариньи, который не обращался на «ты» ни к одному из членов своей семьи, говорил «ты» старому своему товарищу, безупречному и безотказному исполнителю его воли.
– Послушай-ка, Алэн, я хочу дать тебе два поручения, оба требуется выполнить незамедлительно, – начал Мариньи. – Ты сам отправишься в Шато-Гайар и хорошенько потормошишь ее коменданта, как бишь зовут этого осла?
– Берсюме, Робер Берсюме, – ответил Парейль.
– Скажешь этому самому Берсюме, чтобы он придерживался приказов, данных мною ранее с согласия и одобрения короля Филиппа. Мне стало известно, что граф Артуа туда ездил. А это явный обход приказов. Уж ежели хотели послать туда его или кого-нибудь другого, пусть бы согласовали со мной. Только один король имеет право войти в темницу – впрочем, вряд ли этого следует опасаться. Никого не пускать к королеве Маргарите, не передавать ей ни единого письма! Пусть этот осел знает, что, если он выйдет из моей воли, ему отсекут оба уха.
– Как вы намереваетесь поступить с королевой Маргаритой?
– Пока она нужна мне в качестве заложницы. Итак, ей запрещено всякое общение с кем бы то ни было, но пусть зорко следят за ее безопасностью. Я хочу, чтобы она жила, и жила как можно дольше. Если теперешний режим вреден для ее здоровья, пусть улучшит условия ее содержания... Слушай второй мой приказ: вернувшись из Нормандии, ты тут же повернешь на юг. Вышлешь вперед триста лучников из резервов парижского гарнизона, с тем чтобы они ждали тебя на дороге в Оранж, там ты возглавишь их и расквартируешь в форте Вильнёв, что против Авиньона. И постарайся произвести как можно больше шума. Вели твоим лучникам продефилировать перед укреплениями шесть раз подряд, чтобы с того берега реки казалось, будто их две тысячи, не меньше. Пускай кардиналы попотеют от страха в своих мантиях, ибо наш маскарад предназначен для них – это будет второе действие комедии, которую я с ними намерен разыграть. Заняв крепость, оставишь там своих людей, а сам вернешься в Париж.
– Что ж, мессир Ангерран, это, ей-богу, по мне, – отозвался Алэн де Парейль. – Подрезать уши ослу и нагнать страху на пурпурных гусаков куда забавнее, чем проверять посты в Париже, где сейчас...
Он замолк, видимо, не зная, стоит ли продолжать, но наконец решился излить своему слушателю все, что накипело у него на сердце.
– ...где сейчас, если уж говорить начистоту, Ангерран, дует ветер, который никак мне не подходит. – И он печально тряхнул своей отливающей сталью шевелюрой.
– Однако тебе следует быть здесь, – ответил Мариньи. – Боюсь, что верным слугам короля Филиппа придется немало вынести в ближайшее время... Но ты должен остаться командиром лучников – это мне необходимо. О передвижении войск не обязательно предупреждать коннетабля – я сам с ним поговорю. Прощай, Алэн!
Закончив разговор с Алэном, Мариньи прошел в соседнюю комнату, где его ожидали вызванные легисты, а также кое-кто из близких друзей, как, например, Бриансон и Бурдене, которые явились по своему почину разузнать последние новости. При появлении коадъютора шум голосов разом стих.
Вдоль стен комнаты стояли пюпитры, отделенные друг от друга резными деревянными переборками и снабженные всем необходимым для письма: рожками для чернил, прикрепленными к подлокотникам, табличками с грузом, чтобы не морщился пергамент. На вращающихся конторках, похожих на аналои, лежали документы и реестры. Все это придавало комнате сходство с часовней или с монастырской библиотекой.
– Мессиры, – начал Ангерран де Мариньи, обведя своих соратников взволнованным взглядом, – вас не удостоили чести позвать на Совет, где присутствовал я нынче утром. Так давайте же проведем Совет в самом узком составе...
– Нам будет недоставать только одного короля Филиппа, – подхватил Рауль де Прель, грустно улыбнувшись.
– Помолимся же, чтобы душа его была сейчас с нами. Он-то нам верил, – ответил Мариньи.
Потом во внезапном приступе ярости воскликнул:
– Мессиры, меня попросили представить для проверки все счета и отстранили от управления казной! Так вот, я хочу передать им все счета в полном порядке. Дайте приказ сенешалям и бальи, пусть расплатятся со всеми долгами, вплоть до самых скромных кредиторов. Пусть уладят дела с поставками, с подрядами – словом, со всем, что было заказано короной. Пусть выплатят все до последнего су, не дожидаясь срока.
Присутствующие разгадали намерение коадъютора. Ангерран нервно хрустнул суставами пальцев, словно собираясь схватить кого-то за глотку.
– Император Константинопольский желает завладеть казной? – сказал он. – Что ж, час добрый! Только пусть для своих интриг Карл Валуа поищет денег где-нибудь на стороне.
Глава III
Карл Валуа
Если на левом берегу Сены, в особняке Мариньи, бушевала гроза, то на правом берегу реки, во дворце графа Валуа, напротив того, царило ликование.
На всех лицах застыла спесивая улыбка. Любой конюший из свиты графа Валуа чувствовал себя чуть ли не министром и распекал челядь; женщины распоряжались еще более властно, чем обычно; и еще более визгливо, чем накануне, пищали младенцы.
Каждый знал или делал вид, что знает о событиях последних дней, и каждый, как мог, старался проявить себя. В залах не смолкал шум хвастливых голосов, за каждой дверью затевались комплоты, кто бессовестно льстил, домогаясь жирного куска, кто старался устроить свои делишки; словом, клан баронов праздновал победу.
При виде множества людей, прибывавших сюда после знаменательного Совета и толпившихся в графских покоях с единственной целью показать свое единомыслие с восторжествовавшей партией, можно было подумать, что королевский двор покинул дворец в Ситэ и перенес свое местопребывание в отель Валуа.
Впрочем, отель Валуа с полным основанием можно было назвать королевским дворцом! Здесь не было ни одной потолочной балки, не украшенной затейливой резьбой, не было ни одной каминной трубы, с которой величественно не глядели бы гербы Франции и Константинополя. Половицы исчезали под пышными восточными коврами, а стены были сплошь затянуты кипрскими шелками, затканными золотом. На буфетах и на поставцах среди чеканной серебряной и позолоченной посуды поблескивали эмали и драгоценные каменья.
Камергеры с важным видом передавали друг другу графские приказания, и даже самый заштатный писец и тот, перебирая бумаги, сановито хмурился.
Придворные дамы графини Валуа щебетали вокруг каноника Этьена де Морнэ, ставшего вторым героем дня после первого – его высочества Карла Константинопольского. Целая орда «клиентов», лихорадочно возбужденных, радостно взволнованных и лукавых, входила, выходила, собиралась кучками у оконных амбразур и высказывала свое суждение о государственных делах. Каждый держался так, будто его лично пригласили для совета во дворец, ибо его высочество Валуа, запершись в кабинете, и впрямь непрерывно совещался.
Сюда явился даже призрак минувшего века, знаменитый сир де Жуанвилль, поддерживаемый седобородым конюшим: высохший от старости и согбенный годами старец под любопытные взгляды собравшихся проследовал в хозяйские покои. Все знали этого бывшего сенешаля Шампани, который в 1248 году сопровождал Людовика Святого в крестовый поход, потом был главным свидетелем на процедуре канонизации покойного государя, а в последнее время диктовал писцам свои «Мемории», хотя теперь, когда сиру шел девяносто второй год, память его заметно начинала сдавать. Этот полуслепой старик, с вечно слезящимися глазами и трясущимися руками, с трудом передвигавший непокорные ноги, дорожил малейшими знаками уважения, выказываемыми его персоне, и, хотя сир почти окончательно выжил из ума, присутствие его здесь в такую минуту как бы олицетворяло моральную поддержку былого рыцарства и старого феодального мира.
Запах власти пополз по всей столице, и каждому хотелось всласть надышаться им.
Но за этим внушительным фасадом скрывалась язва, превратившаяся с годами в подлинный недуг, – отсутствие денег, вечная охота за деньгами, которую упорно вел Карл Валуа. В силу своего темперамента он желал всегда и везде быть и казаться первым, жил не по средствам, увязал в долгах и с трудом уплачивал только проценты.
Роскошь, без которой он не мог обходиться, стоила слишком дорого. А главное, графа Валуа разоряла его многочисленная и страшная в своей беспечности семья. Его третья супруга, Маго де Шатийон, обожала самые богатые ткани и не перенесла бы, если бы какая-нибудь дама посмела перещеголять ее в нарядах. Филипп, любимый сын Карла, с тех пор как его посвятили в рыцари, стал скупать воинские доспехи: в Англии – легкие и тонкие кольчуги, в Кордове – сапоги из знаменитой тамошней кожи, с севера ему привозили деревянные копья, а из германских земель – мечи.
Его высочество Валуа – плодовитый отец – прижил от трех жен тринадцать дочерей. Те, которые уже вышли замуж, ввели Карла в лишние долги, так как каждая принцесса, вступая в брак, желала быть достойной своих родичей из королевских домов. Надо было также позаботиться о приданом для тех, что еще сидели в девицах, дабы они могли найти приличествующие их положению партии.
А толпа камергеров, конюших, домоправителей и слуг была не только излишне многочисленна, но и непомерно жадна. Попробуй помешай такой своре расточать хозяйские деньги... да еще столько, если не больше, прикарманивать. Для прокормления всей этой челяди мясо привозили во дворец целыми тушами, а овощи и пряности – целыми повозками.
В свое время, играя чуть не в вольнодумца и отпустив крестьян на волю, как того потребовал покойный король Филипп, Валуа собрал солидный выкуп и сумел уплатить часть давно просроченных долгов. Но ведь во второй раз тех же самых рабов не освободишь! И если по случаю воцарения нового короля любезный его дядюшка старался прибрать к рукам все государственные дела, то действовал он не только ради того, чтобы утолить жажду власти, но и ради того, чтобы поддержать свой пошатнувшийся кредит.
Бывают такие битвы, когда победителю приходится не легче побежденного. Его высочеству Валуа удалось добраться до государственной казны, но казна оказалась безнадежно пуста.
И пока в нижнем этаже дворца целая толпа незваных гостей грелась у каминов и пила в свое удовольствие за графский счет, сам Валуа, запершись в своих покоях, принимал одного посетителя за другим, изыскивая средства пополнить не только свои сундуки, но и государеву казну.
Проводив до лестничной площадки грозного графа де Дрё, с которым хозяин имел беседу о положении превотств к западу от Парижа, Карл вдруг услыхал внизу рокот голосов, прерываемый возгласами удивления.
Оказалось, что это Робер Артуа в кругу своих почитателей сгибал руками лошадиную подкову. Кто-то сказал при нем, что в молодости покойный король мог-де гнуть подковы, и наш великан тут же решил доказать, что этот талант со смертью Филиппа не угас в их роду. От усилий на висках его вздулись вены, но подкова послушно гнулась в его руках, мужчины уважительно покачивали головой, а дамы испускали негромкие, но достаточно пронзительные истерические крики.
Его высочество Валуа показался на хорах, возвышавшихся над залом. И тут же все присутствующие как по команде задрали вверх головы, точно выводок проголодавшихся птенцов, ожидающих корма.
– Артуа! – окликнул Карл. – Подымитесь ко мне, я хочу с вами побеседовать.
– К вашим услугам, кузен, – отозвался великан. Небрежно швырнув скрученную подкову конюшему, который только тем и спасся от неминуемой гибели, что успел поймать ее на лету, Робер поспешил на зов Карла.
Личные покои Карла не уступали по размерам кафедральному собору. На свисавших по стенам с потолка до самого пола затканных серебром и золотом тканях были изображены сцены отплытия крестоносцев в поход. Статуи из слоновой кости, картины с открытыми резными створками, кубки, усыпанные драгоценными каменьями, – все это убранство затмевало роскошью остальное графское жилище. Его высочество Валуа имел слабость к различным редкостным вещам. На маленьком столике красовалась шахматная доска из нефрита и яшмы, инкрустированная серебром и драгоценными каменьями, а сами шахматные фигурки были вырезаны одни из яшмы, другие из горного хрусталя.
– Что же это такое? – воскликнул Валуа. – Когда же, в конце концов, явится ваш человек? По-моему, он слишком долго заставляет себя ждать.
Грузный, массивный, розовощекий, величественный, даже чуть-чуть вульгарный в своем театральном величии, Карл, нахмурившись, шагал среди несчетных сокровищ, большинство которых было еще не оплачено.
– Да помилуйте, кузен, он придет, непременно придет! – ответил Артуа. – Я и сам, поверьте, жду его с не меньшим нетерпением, ибо в зависимости от его ответа намерен обратиться к вам с просьбой.
– С какой?
– Сейчас, когда вы распоряжаетесь королевской казной, не могли бы вы дать мне хоть немножко? Ведь казна передо мной в долгу.
Валуа воздел к небесам обе руки.
– Эх, кузен, кузен, – продолжал Артуа, – вы же отлично знаете, что вот уже целых семь лет мне не выплачивают пять тысяч ливров доходов от моего графства Бомон, которое мне дали – мое-то собственное графство! – якобы в возмещение за потерю Артуа. Сочтите-ка сами! Мне должны тридцать пять тысяч ливров! На что же мне прикажете жить, а?
Валуа положил руку на плечо Робера своим обычным покровительственно-величавым жестом.
– Кузен, – начал он, – сейчас самое главное – найти нужные средства, дабы отправить Бувилля, потому что король прожужжал мне все уши этой поездкой. Обещаю вам, что, как только они уедут, я первым долгом займусь вашими делами.
Но тут же лицо его омрачилось. Скольким людям за последние сутки дал он точно такие же обещания?
– Поверьте мне, Мариньи больше не удастся сыграть с нами такую шутку – осмелился подсунуть нам пустую казну, ведь только ради этого он и расплатился со всеми кредиторами! – заорал он. – Я его повешу, слышите, Робер, повешу! Куда, как вы думаете, пошли доходы от вашего графства? В его карман, дражайший кузен, в его карман, я вам говорю!
С той минуты, когда Карлу Валуа удалось нанести первый удар правителю королевства, он, что называется, закусил удила и, послушный голосу ярости, открывал в Мариньи все новые и новые пороки.
В его глазах ответственность за все и всяческие ошибки и преступления лежала только на Мариньи. Произошла в Париже кража? Повинен в ней Мариньи: зачем распустил сыск, и неизвестно еще, не поделился ли с ним злоумышленник своей добычей. Вынес парламент решение не в пользу какого-нибудь знатного вельможи? И в этом повинен Мариньи, подсказавший такое решение. Узнал муж о легкомысленном поведении своей супруги? Опять-таки вина Мариньи, потому что во время его правления произошло неслыханное падение нравов. Еще неизвестно, не Мариньи ли подстрекал королевских невесток к нарушению супружеской верности, и вряд ли не по его вине отдал богу душу Филипп Красивый.
– А ваш сиенец согласится? – вдруг спросил Валуа.
– Ну да, конечно. Попросит, правда, залог, но непременно согласится, вот увидите.
Робер Артуа как завороженный слушал разглагольствования Карла и счастливо улыбался. Карл Валуа был в его представлении подлинно «великим человеком», единственным существом на свете, в чьей шкуре Робер был бы не прочь очутиться сам. Этот великан, обративший на одного себя всю отпущенную ему природой силу любви, был все же способен испытывать по отношению к Валуа даже нечто вроде преданности.
И впрямь, его высочество Валуа мог вполне очаровать человека одного с ним пошиба, и наблюдать его жизнь было весьма любопытно. Удивительное существо был этот вельможа, ибо в нем сочетались самые, казалось бы, противоположные качества: нетерпение и упорство, пылкость и хитрость, физическое мужество и полная неспособность противостоять лести и, сверх того, непомерное честолюбие, которое не могли утолить ни почести, ни привилегии!
Другой чувствовал бы себя на верху блаженства, будучи графом Валуа, пэром Франции, графом Алансонским, Шартрским, Першским, Анжуйским и Мэнским, а следовательно, первым бароном государства Французского. Но только не Карл: его терзало желание стать королем. В тринадцатилетнем возрасте он получил корону Арагона и мог претендовать на арагонский престол в качестве прямого потомка Иакова Завоевателя, но не сумел ее сохранить. В двадцать семь лет, командуя по назначению брата Филиппа Красивого французскими войсками, он опустошил Гиень. В возрасте тридцати одного года, когда тесть Карла, король Неаполитанский, призвал его, дабы усмирить Тоскану, где вели междуусобные войны гвельфы и гибеллины, Валуа сумел добиться от папы индульгенции на крестовые походы, а для себя лично – титула главного викария христианского мира и графа Романьского. Одновременно он получил от флорентийцев, обобранных им до нитки, двести тысяч флоринов за то, что оказал им снисхождение – удалился с их земель и прекратил грабежи.
Оставшись вдовцом после смерти своей супруги Маргариты Анжу-Сицилийской, он вскоре женился на некой Куртенэ, в которую вдруг страстно влюбился, узнав, что в качестве приданого она принесет ему почти легендарный титул императора Константинопольского. Увы! И тут ему не удалось поцарствовать, ибо оба Палеолога, облаченные в пурпур, прочно сидели на византийском троне, и если у них и были заботы по управлению страной, то меньше всего их беспокоил этот одержимый, который с другого конца Европы вдруг заговорил так, будто он владыка Вселенной.
Наконец, в 1308 году Валуа с помощью бесконечных интриг выставил свою кандидатуру на корону Священной Римской империи, но на выборах не получил ни одного голоса. Стоило только в любом уголке мира освободиться любому трону, как он тут же жадно тянул к нему руку.
И теперь, достигнув сорока четырех лет, он все еще не исцелился от своих византийских мечтаний, равно как и от своих германских грез. Отходя ко сну, он подсчитывал все короны мира, каковые мог бы с успехом возложить на свое чело, и даже прибавлял к ним корону Франции. Для ее получения требовались сущие пустяки: чтобы у Филиппа Красивого не было детей или чтобы они умирали еще в колыбели...
И если Валуа иной раз восклицал: «Жизнь прошла зря! Судьба всегда была ко мне несправедлива!» – то восклицал не случайно: ему казалось, что именно он призван восстановить под своей эгидой Римскую империю такой, какой она была тысячу лет назад, во времена императора Константина, простираясь от Испании до Босфора.
Этот вельможа не только страдал манией величия, но был к тому же наделен темпераментом авантюриста, всеми повадками выскочки и верил, что именно он станет основателем династии. Тринадцать королей из дома Валуа, которые в течение двухсот пятидесяти лет сидели на французском престоле, были его прямыми потомками и вместе с его кровью унаследовали его безумие (за исключением, пожалуй, одного Карла V). Но, видно, ему самому суждено было терпеть неудачи во всех своих начинаниях: и действительно, он умер за четыре года до того, как освободился французский трон и королем Франции стал его собственный сын...
– Видите, кузен, до чего меня довели! – воскликнул он, театрально разводя руками. – Приходится зависеть от капризов какого-то сиенского банкира. Легко ли мне сознавать, что без него в нашем государстве порядка не наведешь!
Глава IV
Кто же правит Францией?
Наконец слуга доложил о приходе того, кого с таким нетерпением поджидал Карл, и Артуа с самым любезным видом поднялся навстречу мессиру Спинелло Толомеи.
– Дружище банкир, – завопил он, подходя к нему с распростертыми объятиями, – я вам много должен и не раз обещал, что тут же расплачусь со всеми долгами, как только мне улыбнется фортуна.
– Благая весть, ваша светлость, – ответил банкир.
– Ну так вот! Для начала из чистой благодарности – а я вам искренне благодарен – хочу рекомендовать вас клиенту королевского рода.
Толомеи приветствовал Валуа почтительным наклоном головы.
– Кто же не знает его высочества, хотя бы в лицо или по слухам... Он оставил в Сиене после себя незабываемую память.
Память ту же, что и во Флоренции, только в Сиене, территория которой была много меньше, он взял за «умиротворение» всего тысячу семьсот флоринов.
Смуглолицый, с отвислыми щеками, с плотно зажмуренным левым глазом (утверждали, что банкир открывает его только в тех случаях, когда говорит правду, а это случалось столь редко, что никто не знал, какого же цвета этот закрытый глаз), с седыми, тщательно расчесанными волосами, падавшими на воротник темно-зеленого камзола, мессир Толомеи молча ждал, когда ему предложат сесть, что и соизволил сделать его высочество Валуа, смерив посетителя быстрым взглядом.
Со времени кончины старика Бокканегры, Толомеи, как и следовало ожидать, был избран своими собратьями банкирами главным капитаном ломбардских компаний, обосновавшихся в Париже, и хотя этот громкий титул не имел никакого отношения к войнам и битвам, зато давал его носителю власть куда более полную, нежели та, которой располагает коннетабль. В его функции входил тайный контроль за третьей частью всех банковских операций, происходивших на территории Франции, а, как известно, тот, кто имеет касательство к трети, имеет касательство и к целому.
– Большие перемены произошли за это время во Франции, дружище банкир, – произнес Робер Артуа. – Мессир де Мариньи, который, хочу надеяться, больше вам не друг, как он не друг и нам, находится в весьма щекотливом положении...
– Знаю... – пробормотал Толомеи.
– Вот поэтому-то я и сказал его высочеству Валуа, – продолжал Артуа, – коль скоро ему необходимо было посоветоваться с человеком, причастным к финансовому миру, что лучше всего ему адресоваться к вам, чье умение вести дела, равно как и преданность, я могу засвидетельствовать с полным основанием.
Толомеи ответил на эту тираду вежливой полуулыбкой, но про себя недоверчиво подумал: «Если бы они хотели поручить мне казну, не стали бы они зря рассыпаться в комплиментах».
– Чем могу служить, ваше высочество? – спросил Толомеи, повернувшись к Валуа.
– Чем же может служить банкир, мессир Толомеи! – ответил Валуа с той поистине великолепной дерзостью, к которой он прибегал всякий раз, собираясь просить денег.
– Это можно понимать двояко, – возразил сиенец. – Может быть, у вас есть какие-нибудь капиталы, которые вы желаете поместить на выгодных условиях, например удвоить их ценность за полгода? Или, может быть, вы хотите вложить свои деньги в морскую торговлю, которая в данное время развивается весьма и весьма успешно, ибо вы знаете, сколь многое приходится ввозить из заморских стран.
– Нет, дело сейчас не в этом, о вашем предложении я подумаю как-нибудь на досуге, – с живостью отозвался Валуа. – А сейчас я хотел бы, чтобы вы дали мне в долг небольшую сумму наличными... для пополнения казны.
Толомеи скривил губы с видом полной безнадежности.
– Ах, ваше высочество, при всем моем желании вам услужить это как раз единственное, чего я не могу сделать. В последнее время меня и моих друзей изрядно обескровили. Из той суммы, что казна взяла у нас в кредит на войну с Фландрией, мы еще не получили ни гроша. А займы, к которым прибегают частные лица (при этих словах Толомеи метнул быстрый взгляд в сторону Робера), нам не возвращают, равно как не погашают и выданных авансов; откровенно говоря, ваше высочество, замки на моих сундуках порядком заржавели. А сколько вам нужно?
– Да так, пустяки. Десять тысяч ливров.
Банкир испуганно воздел руки к небесам.
– Sаntо Dio! Святый боже! Да где же я их возьму? – вскричал он.
Робер Артуа знал, что все это, так сказать, пролог и что по своему обыкновению Толомеи еще долго будет сетовать на злополучную судьбу, непременно скажет, что он гол как сокол, громко стеная, будто Иов на гноище. Но Валуа, которому не терпелось поскорее довести дело до желанного конца, решил дать почувствовать банкиру свою власть и заговорил тем тоном, который обычно безотказно действовал на его собеседников.
– Ну, ну, мессир Толомеи! – воскликнул он. – Да бросьте вы эти штучки! Я велел вас вызвать по делу, а главное, для того, чтобы вы занялись здесь своим ремеслом, как занимаетесь им везде и повсюду, и не без выгоды для себя, надо полагать.
– Мое ремесло, ваше высочество, – ответил Толомеи, еще сильнее зажмурив левый глаз и спокойно сложив на брюшке руки, – мое ремесло не просто давать деньги, а давать их в долг. Ведь сколько времени я только и делаю, что даю, а возвращать мне долгов никто не возвращает. Я не чеканю у себя на дому монету и не нашел еще пока философского камня.
– Стало быть, вы не хотите мне помочь отделаться от Мариньи? Ведь, по-моему, это и в ваших интересах!
– Видите ли, ваше высочество, платить сначала дань врагу, пока тот находится у власти, а потом платить снова, чтобы лишить его власти, – это двойная операция, согласитесь сами, не особенно-то выгодная. А главное, надо еще знать, что произойдет в дальнейшем, удастся ли возместить расходы.
Тут Карл Валуа разразился торжественной речью, которую со вчерашнего дня повторял всем и каждому. Если ему дадут необходимые средства, он уничтожит все «новшества», введенные Мариньи и его советниками из числа горожан, вернет власть высшему баронству, установит порядок и приведет страну к процветанию, возродит старинное феодальное право, на каковом основывалось величие государства Французского. Порядок! Слово «порядок» не сходило у него с языка, как и у всех политических путаников, и никто не сумел бы ему доказать, что мир подвергся немалым изменениям за прошедший век.
– Уж поверьте мне, – кричал он, – в скором времени страна вновь вернется к добрым обычаям моего предка Людовика Святого!
При этих словах он величавым жестом указал на алтарь, где покоилась реликвия в форме человеческой ноги, в которой хранилась пяточная кость его деда, – нога была серебряная, а ногти – золотые.
Надо сказать, что останки святого короля были разъяты на куски, и каждый член королевской фамилии, каждая королевская часовня владели своей частицей мощей. Почти вся черепная коробка хранилась в часовне Сент-Шапель, и ракой ей служил бюст Людовика Святого работы лучших чеканщиков; графиня Маго Артуа оказалась владелицей прядки волос и куска челюсти, которые она перевезла в свой замок Эсден, – словом, столько фаланг, обломков костей и самих костей было расхватано родней, что невольно вставал вопрос, что же тогда покоится в усыпальнице Сен-Дени? Если бы кому-нибудь пришла в голову мысль сложить вместе все эти разрозненные кости, то, к всеобщему удивлению, оказалось бы, что после своей кончины святой король разросся в размерах чуть ли не вдвое.
Главный капитан ломбардцев попросил разрешения почтительно облобызать серебряную ногу, потом обернулся к Карлу Валуа и спросил:
– А почему, ваше высочество, вам требуется именно десять тысяч ливров?
Валуа вынужден был объяснить, что из-за порядков, введенных Мариньи, казна совсем оскудела, а просимая сумма требуется для отправки Бувилля в качестве главы миссии...
– В Неаполь... да, да, – сказал Толомеи. – Да, мы ведем с Неаполем крупные дела через наших родичей Барди... Женить короля... Да, да, понимаю вас, ваше высочество... Наконец-то соберется конклав... Ах, ваше высочество, конклав обходится дороже любого дворца и куда менее надежен! Да, ваше высочество, слушаю вас.
И когда наконец Валуа открыл все свои планы этому низенькому кругленькому человечку, который делал вид, что речь идет о неизвестных ему предметах, вынуждая тем самым собеседника к откровенности, банкир произнес:
– Ваш план действительно тщательно обдуман, и я от всего сердца желаю успеха вашим начинаниям; однако я еще не совсем уверен, что вам удастся женить короля, не совсем уверен, что у вас будет папа и что, если даже все пойдет согласно вашим предначертаниям, я получу обратно свое золото, буде я смогу вам его одолжить.
Валуа сердито взглянул на Робера. «Что за странного человека вы ко мне привели, – говорил этот взгляд, – неужели я зря распинался перед ним?»
– Ну, ну, банкир, – сказал Артуа, подымаясь, – может быть, у тебя и нет требуемой суммы, но, если ты захочешь, ты сможешь ее нам достать, я-то тебя хорошо знаю. Какие тебе нужны проценты? Какие льготы?
– Да никаких, ваша светлость, ровно никаких, – запротестовал Толомеи, – ни от вас, вы же сами прекрасно знаете, ни от его высочества Валуа, чье покровительство мне всего дороже, и я думаю... просто думаю, как бы мне вам помочь.
Потом, обернувшись к серебряной ноге, он добавил:
– Вот его высочество Валуа только что сказал, что он хочет возродить добрые старые обычаи Людовика Святого. Что он под этим подразумевает? Намерен ли он ввести все обычаи без изъятия?
– Само собой разумеется, – ответил Валуа, не понимая еще, к чему клонит банкир.
– Стало быть, будет восстановлено право баронов чеканить монету в своих владениях?
Оба кузена переглянулись с таким видом, будто их осенила господня благодать. Как они сами не подумали об этом раньше!
И впрямь, унификация денег, имеющих хождение в стране, равно как и королевская монополия на выпуск монеты, были введены лишь в царствование Филиппа Красивого. До этого времени бароны и высшая знать выпускали (или по их приказу выпускали) свою собственную золотую и серебряную монету, которая имела хождение наравне с королевской монетой в их ленных владениях; эта привилегия приносила огромные доходы. Извлекали из этой операции выгоды и те, кто, подобно ломбардским банкирам, поставлял металл для чеканки монеты и играл на разнице курсов отдельных провинций.
В своем воображении Карл Валуа тотчас же представил, сколь блистательно пойдут его дела.
– Не соблаговолите ли вы также сказать мне, ваше высочество, – продолжал Толомеи, не отрывая взгляда от реликвии, как бы весь поглощенный умиленным созерцанием святыни, – намерены ли вы восстановить также право баронов вести междуусобные войны?
Речь шла еще об одном феодальном обычае, упраздненном Филиппом Красивым с целью помешать знатным вассалам заливать кровью французскую землю по любому поводу и даже вовсе без такового – лишь бы свести старые счеты, удовлетворить мелочное тщеславие или просто рассеять скуку.
– Ах, если бы вернулось это славное времечко, – воскликнул Робер Артуа, – я бы, не мешкая, отобрал свое родовое графство у этой суки, у моей уважаемой тетушки Маго.
– В случае, если вам понадобится вооружить ваши войска, – сказал Толомеи, – я могу достать оружие по самым сходным ценам у тосканских оружейников.
– Мессир Толомеи, вы с удивительной точностью выразили как раз то, что я намеревался претворить в жизнь, – воскликнул Валуа, – и вот поэтому-то я прошу вас о доверии, прошу сотрудничать со мной.
Карл Валуа действительно верил, что мысли, высказанные банкиром, уже приходили ему на ум, и ясно было, что в беседе со следующим посетителем он выдаст их за личные свои соображения.
Толомеи молчал, он тоже предавался мечтам, ибо великие финансисты наделены столь же живым даром воображения, как и великие полководцы, и опыт показывает, что, погрязнув в самых прозаичных расчетах, они втайне грезят о могуществе.
Главный капитан ломбардцев уже видел себя в мечтах главным поставщиком золота высокородным баронам Франции, а также поставщиком оружия, то есть подстрекателем междуусобных войн.
– Ну как, – спросил Карл Валуа, – решились вы теперь дать мне просимую сумму?
– Возможно, ваше высочество, возможно, вернее, я-то лично никак не могу ее вам одолжить, но попытаюсь поискать денег в Италии – кстати, и ваши послы поедут именно туда. Придется мне стать поручителем, что, безусловно, связано с немалым риском, но я пойду на риск, лишь бы услужить вашему высочеству. Понятно, ваше высочество, и от меня вместе с вашим послом тоже поедет человек, он отвезет заемные письма, получит деньги и будет отвечать за все финансовые операции.
Его высочество Валуа недовольно нахмурил брови: условия, предложенные банкиром, ничуть его не устраивали – он предпочел бы получить деньги прямо в руки, с тем чтобы хоть малая их толика осталась в его кармане для удовлетворения самых неотложных нужд.
– Э, ваше высочество, – продолжал Толомеи, – ведь не я один буду участвовать в этом деле; итальянские банкирские компании еще более недоверчивы, чем мы, грешные, и я, хочешь не хочешь, обязан дать им полную гарантию, что их не обведут вокруг пальца.
На самом же деле ему просто хотелось послать вместе с королевским гонцом и своего представителя, дабы быть в курсе дел.
– Кого же вы намереваетесь дать в спутники нашему мессиру Бувиллю? – спросил Валуа. – Как бы он не скомпрометировал нашего посланца.
– Подумаю, ваше высочество, подумаю на досуге. Людей-то у меня мало...
– А почему бы вам не послать того мальчика, который ездил с моим поручением в Англию? – воскликнул Артуа.
– Моего племянника Гуччо? – переспросил банкир.
– Ну да, того самого, вашего племянника. Он сообразителен, неглуп и хорош собой... Он поможет нашему другу Бувиллю, который, кстати сказать, ни слова не знает по-итальянски, избегнуть всех дорожных неприятностей. Поверьте мне, кузен, – обратился Артуа к Карлу, – этот малый для нас просто находка.
– Он мне нужен здесь, – ответил банкир, – но ничего не поделаешь, ваша светлость, пусть едет. Уж так оно повелось: ни в чем я не могу вам отказать, всегда-то вы добьетесь от меня своего.
Когда за мессиром Спинелло Толомеи закрылась дверь, Робер Артуа потянулся всем телом и заметил:
– Как видите, кузен, я вас ничуть не обманул!
– А знаете, что разрешило его колебания? Вот что! – ответил Валуа, торжественно-театральным жестом указывая на серебряную ногу своего деда. – Видно, уважение ко всему, что носит на себе печать благородства, не окончательно утеряно во Франции и может еще поднять до прежних высот наше королевство!
Этим вечером волна радости, нетерпения и надежды затопила душу некоего молодого человека – этим молодым человеком был Людовик Сварливый – в ту минуту, когда дядя объявил ему, что через два дня Бувилль в качестве королевского посла отбывает в Италию.
Зато другой молодой человек тем же вечером не испытал особой радости, когда его дядя сообщил ему ту же самую весть – и этим молодым человеком был Гуччо Бальони.
– Как так, племянник! – сердито воскликнул Толомеи. – Тебе же предлагают совершить чудесное путешествие, посмотришь Неаполь, познакомишься с тамошним двором, поживешь среди особ королевской крови и, надеюсь, даже сумеешь завести себе там друзей, если только ты не idioto соmрlеtо [4]. И конклав увидишь, а конклав – зрелище незабываемое. Повеселишься, а главное – многому научишься. И не корчи, пожалуйста, la fасciа lyngа, такой унылой физиономии, будто я сообщаю тебе невесть какую печальную новость! Тебе слишком легко и хорошо живется, мой мальчик, и поэтому ты не умеешь ценить удачи. Вот она, теперешняя молодежь! Я в твои годы... да я бы от радости до небес подпрыгнул, сломя голову побежал бы укладываться. Тут, видно, замешана какая-нибудь девица, с которой тебе не хочется расставаться, поэтому ты и сидишь с такой грустной миной, верно ведь?
Смуглое, почти оливковое лицо молодого Гуччо чуть-чуть потемнело, как и всегда, когда он краснел.
– Ба! Если любит, подождет, – продолжал банкир. – Женщины для того и созданы, чтобы ждать. Никуда они не денутся. А если ты опасаешься, что она тебя любит не очень сильно, смело веселись тогда с теми, кто повстречается в пути. Единственно, что не вернется, – это молодость и возможность попутешествовать по белому свету.
Поучая племянника, Спинелло Толомеи внимательно приглядывался к нему и думал: «Странная все-таки штука жизнь! Вот сидит передо мной мальчик, давно ли приехал он из родной Сиены и тут же отправился в Лондон по поручению интригана его светлости Артуа, и что же получилось? Разразился неслыханный скандал с бургундскими принцессами, и Сварливый вынужден был развестись с женой; а теперь Гуччо едет в Неаполь искать королю новую супругу. Надо полагать, что существует некая связь между гороскопами моего племянника и нового нашего короля: видно, связаны их судьбы. Кто знает, уж не суждено ли Гуччо стать великим человеком? Надо как-нибудь на досуге попросить астролога Мартэна повнимательнее разобраться во всем этом деле».
Глава V
Замок над морем
Существуют города, перед которыми бессилен ход столетий: им не страшно время. Сменяют одна другую королевские династии, умирают цивилизации и, подобно геологическим пластам, наслаиваются друг на друга, но город по-прежнему проносит через века свои характерные черты, свой собственный неповторимый аромат, свой ритм и свои шумы, отличные от ароматов, ритма и шумов всех других городов на свете. К числу подобных городов принадлежит Неаполь: таким, каким предстает он в наши дни глазам путешественника, был он и в дни Средневековья, и таким же был за тысячу лет до того – полуафриканским-полулатинским городом с узенькими улочками, кишащими людьми, полный криков, пропахший оливковым маслом, дымом, шафраном и жареной рыбой, весь в пыли, золотой, как солнце, весь в звяканье бубенчиков, подвязанных под шею лошадей и мулов.
Его основали греки, его покорили римляне, его разорили варвары; византийцы и норманны попеременно хозяйничали в нем. Но все, что им удалось сделать с городом, – это отчасти изменить архитектуру зданий да прибавить к здешним суевериям еще свои, помочь живому воображению толпы создать несколько новых легенд.
Здешний народ не греки, не римляне, не византийцы – это неаполитанский народ, он был и остался народом, не похожим ни на какой другой народ на земле: неизменная веселость не что иное, как щит против трагедии нищеты, его восторженность вознаграждает за монотонность будней, его леность – та же мудрость, ибо мудр тот, кто не притворяется деятельным, когда нечего делать; народ, который любит жизнь, умеет ловко одолевать превратности судьбы, ценит острое слово и презирает бредящих войной, ибо никогда не пресыщается мирным существованием.
В описываемое нами время в Неаполе вот уже пятьдесят лет господствовала Анжуйская династия. Ее правление было отмечено созданием в предместьях города шерстяных мануфактур и постройкой у самого моря новой резиденции – целого квартала, где возвышался огромный Новый замок – творение французского зодчего Пьера де Шона, гигантское сооружение, вознесенное в небеса; и неаполитанцы, за многие века не порвавшие с фаллическим культом, окрестили замок за его причудливую форму Il Маschio Аngiovino – Анжуйский самец.
Ясным утром в самом начале января 1315 года в этом замке, в одном из его покоев, выложенных огромными белыми плитами, молодой неаполитанский художник, ученик Джотто, по имени Роберто Одеризи, в последний раз придирчиво рассматривал только что оконченный им портрет. Неподвижно стоя перед мольбертом, закусив зубами кончик кисти, он не мог отвести взгляда от своей картины, по невысохшей поверхности которой перебегали солнечные блики. Быть может, мазок палевой краски, думал он, или, напротив, более темный желтый оттенок той, что ближе к оранжевому, лучше передаст неповторимый блеск золотых волос, быть может, нужно резче подчеркнуть чистоту этого лба и придать большую выразительность и живость этому оку, великолепному синему круглому оку: форму глаза ему удалось передать, бесспорно удалось, но вот взгляд! Что придает характерность человеческому взгляду? Вот эта белая точечка на зрачке? Вот эта тень, чуть удлиняющая уголок века? Как воспроизвести на полотне человеческие лицо во всей его реальности, со всей неуловимой игрой света, подчеркивающей линии и формы, когда в твоем распоряжении только растертые краски, накладываемые одна на другую? Возможно, что секрет здесь не в самом глазе, а все дело в пропорциях глаза и носа... даже не в пропорциях, а в недостаточно прозрачном рисунке ноздрей или, вернее, в том, что художнику не удалось добиться правильного соотношения между спокойным очерком губ и слегка опущенными веками.
– Итак, синьор Одеризи, портрет готов? – осведомилась красавица принцесса, служившая натурой художнику.
В течение недели она по три часа в день сидела, боясь пошевельнуться, в этой комнате, где рисовали ее портрет, предназначенный для отправки ко французскому двору.
Через широко распахнутые огромные овальные окна видны были мачты кораблей, прибывших с Востока и бросивших якорь в порту, – они мерно покачивались на волнах, – за ними вся Неаполитанская бухта, неоглядная морская даль почти неестественно синего цвета, вся в золотистых бликах солнца, а чуть дальше несокрушимый профиль древнего Везувия. Воздух был ласков. В такие дни человеку улыбается счастье.
Одеризи вынул кончик кисти изо рта.
– Увы, да! – ответил он. – Портрет окончен.
– Почему же «увы»?
– Потому что я буду лишен счастья видеть каждое утро донну Клеменцию, и без нее для меня угаснет солнечный свет.
Спешим оговориться: комплимент художника звучал более чем буднично, ибо, когда неаполитанец заявляет женщине, будь она принцесса или служанка в захудалой харчевне, что, не видя ее больше, он-де непременно зачахнет и умрет, он лишь выполняет самые элементарные правила галантности.
– И потом, ваше высочество... и потом, – продолжал художник, – я сказал «увы» потому, что портрет нехорош. Он ни в малейшей степени не передает ни ваш образ, ни вашу подлинную красоту.
Если бы кто-нибудь подтвердил это мнение, художник наверняка почувствовал бы себя уязвленным, но сам он критиковал свое творение совершенно искренне. Его терзала печаль, знакомая всем истинным творцам, когда труд их наконец завершен. «Вот моя картина останется такой, какова она есть, – думает он, – ибо я не мог сделать лучше, и, однако, она много ниже моего замысла и отнюдь не воплощает то, что я мечтал и хотел воплотить!» В этом семнадцатилетнем юноше уже жил беспокойный дух великого художника.
– Можно посмотреть? – спросила Клеменция Венгерская.
– Конечно, ваше высочество, только не упрекайте меня. Ах, вас должен был бы писать сам Джотто.
И действительно, когда речь зашла о портрете принцессы, решено было пригласить Джотто, и за ним через всю Италию понесся гонец. Но тосканский мастер, который в течение всего этого года писал на хорах флорентийского собора Санта Кроче фрески из жизни святого Франциска Ассизского, крикнул, даже не спустившись с лесов, чтобы вместо него пригласили его юного ученика, проживающего в Неаполе.
Клеменция Венгерская поднялась с кресла и подошла к мольберту, шурша тугими складками платья из тяжелого шелка. Высокая, тонкая, гибкая, она привлекала внимание не столько изяществом, сколько величием осанки, не так женственностью, как благородством. Но впечатление известной суровости уравновешивалось чистотой черт, нежным и светлым взглядом удивленных глаз, сиянием юности, веявшим от всей ее фигуры.
– Но, синьор Одеризи, – вскричала она, – вы изобразили меня гораздо красивее, чем я есть на самом деле!
– Я лишь точно передал ваши черты, донна Клеменция, и пытался также запечатлеть на полотне вашу душу.
– Мне бы очень хотелось видеть себя такой, какой вы меня видите, вот было бы хорошо, если бы мое зеркало обладало вашим талантом.
Оба улыбнулись этим словам, благодарные друг другу за комплименты.
– Будем надеяться, что этот мой образ понравится королю Франции... то есть я хотела сказать – моему дяде графу Валуа... – в смущении поспешила добавить она.
Щеки Клеменции залила краска. В двадцать два года она все еще легко краснела и, зная за собой этот недостаток, упрекала себя за него как за непростительную слабость. Сколько раз ее бабка, королева Мария Венгерская, твердила ей: «Клеменция, помните, что принцесса, которая в один прекрасный день может стать королевой, не должна краснеть!»
Боже мой, неужели она станет королевой? Устремив взор на лазурное море, она мечтала о своем далеком кузене, об этом неведомом ей короле, который просит ее руки и о котором она так много наслышалась за эти две недели с тех пор, как в Неаполь нежданно-негаданно явился из Парижа официальный посол.
Толстяк Бувилль сумел изобразить ей короля Людовика Х несчастным монархом, которому подло изменили и который немало перестрадал, но зато господь бог наделил его прекрасной внешностью и всеми достоинствами ума и сердца. Что же касается французского двора, то он столь же приятен, как двор неаполитанский, там ее ждут тихие семейные радости и полная величия миссия королевы... Однако, пожалуй, больше всего соблазняла Клеменцию Венгерскую мысль, что ей предстоит исцелить душевные раны человека, страдающего от измены недостойной женщины и к тому же до сих пор еще не оправившегося от безвременной кончины обожаемого отца. В глазах неаполитанской принцессы любовь и преданность были одно. Да и гордое сознание, что выбор пал именно на нее, тоже играло не последнюю роль... Эти две недели она жила в каком-то чудесном мире, и душу ее переполняла благодарность к создателю Вселенной, ко всему сущему.
Занавесь, расшитая фигурами императоров, львами и орлами, раздвинулась – и невысокий молодой человек, с тонким носом, с пылающим и веселым взором, очень черноволосый, вошел в комнату и склонился в почтительном поклоне.
– Ах, сеньор Бальони, вот и вы, – радостно приветствовала его Клеменция Венгерская.
Ей нравился этот жизнерадостный сиенец, который официально исполнял при Бувилле секретарские обязанности, а в ее глазах был одним из вестников счастья.
– Ваше высочество, – обратился к Клеменции Гуччо Бальони, – мессир Бувилль поручил мне узнать, может ли он нанести вам свой обычный утренний визит?
– Конечно, – живо ответила Клеменция. – Вы знаете, я всегда рада видеть мессира Бувилля. Но приблизьтесь и ска-жите ваше мнение об этом портрете, он теперь уже совсем готов.
– Я могу сказать только одно, – ответил Гуччо, с минуту молчаливо разглядывавший портрет, – портрет этот с поистине чудесной верностью передает ваш образ и являет людским взорам прекраснейшую даму, которую мне когда-либо приходилось видеть.
Одеризи, не вытирая рук, замазанных охрой и киноварью, упивался этой похвалой.
– Стало быть, если только я вас верно поняла, вы не оставили во Франции любимой девушки? – с улыбкой осведомилась Клеменция.
– Нет, я люблю, – не без удивления ответил Гуччо.
– Тогда, значит, вы неискренни или в отношении ее, или в отношении меня, мессир Гуччо, ибо говорят, по крайней мере я так слышала, что для влюбленного лицо любимой прекраснее всего.
– Та дама, которой я храню верность и которая хранит верность мне, – горячо возразил Гуччо, – бесспорно, прекраснее всех на свете... после вас, донна Клеменция, и, по-моему, говорить правду не значит не любить.
Клеменции нравилось поддразнивать Гуччо. Ибо, прибыв в Неаполь и поселившись при дворе, племянник банкира Толомеи тем самым оказался в центре приготовлений к будущей женитьбе короля и с увлечением взялся разыгрывать роль рыцаря, уязвленного любовью к далекой красавице: то и дело он испускал такие глубокие вздохи, что, казалось, бесчувственный камень и тот пожалеет страдальца. На самом же деле его страсть к Мари ничуть не отравляла ему прелесть путешествия: уже к концу второго дня тоска улеглась, и он старался не упустить ни одного развлечения, какие встречались на пути двух королевских посланцев.
Принцесса Клеменция, уже почти официальная невеста, внезапно почувствовала незнакомое ей доселе сочувственное любопытство к сердечным делам других – ей хотелось, чтобы все юноши и все девушки на свете получили свою долю счастья.
– Если богу будет угодно и я поеду во Францию (как и все вокруг, Клеменция только обиняками говорила о предстоящем бракосочетании), я охотно сведу знакомство с той, о ком вы думаете непрерывно и которая, надеюсь, станет вашей супругой...
– Ах, ваше высочество, пусть господь бог возжелает вашего приезда! У вас не будет более верного слуги, чем я, и, хочу надеяться, более преданной прислужницы, чем она...
И Гуччо преклонил перед Клеменцией колени по всем правилам этикета, как будто, участвуя в турнире, приветствовал сидевших в ложе дам. Принцесса поблагодарила его движением руки: у нее были прелестные, точеные пальцы с чуть удлиненными кончиками, подобные тем, что пишут художники на фресках, изображая святых.
«Какой прекрасный народ ждет меня там, какие же там милые люди», – думала она, с умилением глядя на юного итальянца, олицетворявшего в ее глазах всю Францию. Она чувствовала себя даже отчасти виноватой перед ним; ведь ради нее он должен жить в разлуке со своей возлюбленной, из-за нее во Франции страдает юная девушка...
– Можете вы открыть мне ее имя, – спросила Клеменция, – или это тайна?
– От вас у меня нет тайн, и я назову ее имя, если вам угодно, донна Клеменция. Зовут ее Мари... Мари де Крессэ. Она благородного рода, отец ее был рыцарем; она ждет меня в своем замке, в десяти лье от Парижа. Ей шестнадцать лет.
– Так будьте же счастливы, желаю вам этого от всей души, синьор Гуччо, будьте счастливы с вашей красавицей Мари де Крессэ.