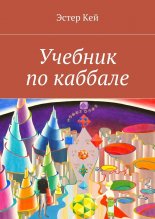Notice: Undefined variable: contentRead in /var/www/www-root/data/www/knizh.ru/funcs.php on line 681
Notice: Undefined variable: row in /var/www/www-root/data/www/knizh.ru/funcs.php on line 719
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/www-root/data/www/knizh.ru/funcs.php on line 719
пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ.

пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ-пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{139}.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
16 пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ? пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ? пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{140}.
пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
12 пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљ[10] пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: 300 пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ 92 пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљ 10 пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ.пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ 300 пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљ.пњљпњљ.пњљ{141}.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ{142}.
15 пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ 300 пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{143}.
пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. 300 пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ 350 пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. (пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ 300 пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ.) пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљ 8
пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ 27 пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ 1979 пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ 20 пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ-пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ-23пњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ 81 пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ 35-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ Pentax пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ Tropel пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ; пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ 150 пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ 5 пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ-пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ 24 пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ 1974 пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{144}.
пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{145}.
пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ-пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ:
пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ-23, пњљ-003, пњљ-006, пњљ-005пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ-23, пњљ-003, пњљ-006 пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ 1978 пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ-005 пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{146}.
пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ 70 пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ{147}.
пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ-пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ-пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ 1960-пњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ 1979 пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ-2, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ{148}.
пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. 9пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ 1980 пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{149}.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ-пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{150}.
пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ Tropel пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ-пњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. 8пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ L-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ-пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ, пњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ L-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ{151}.
17 пњљпњљпњљпњљпњљпњљ 1980 пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ L-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ L-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ L-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ L-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ (пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ), пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ L-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ L-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. 24 пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљ{152}.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ?пњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљ пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ-пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ L-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ{153}.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ 1980 пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. 12 пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{154}.
пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. 16 пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ{155}. пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ 35-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ Pentax, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ Pentax. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ: пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{156}.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{157}. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ{158}. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ L-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ 35-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ Tropel, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{159}. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ Tropel пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ 35 пњљпњљ 50 пњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљ{160}. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ Tropel пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ 80 пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ 35пњљ50 пњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ 40 пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ Tropel пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
28 пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ 35-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ Pentax пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљ 1950-пњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ 1980 пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ-пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ-пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ IBM Selectric, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ?пњљ
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ.
пњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ!пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ-пњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ:пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ?пњљ{161} пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ; пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ; пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{162}.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ: пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ? пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ? пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ? пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ? пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ{163}.
пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ 10 пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ 11 пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ 1980 пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ 20 пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ 35-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ Pentax. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ Tropel пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ 20 пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ{164}.
пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ Tropel пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ 10 пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ-пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ{165}.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ.пњљпњљ пњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ (пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ), пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ? пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ (пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ), пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ 70 пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ:
пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ? пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ? пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ? пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ? пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ?{166}
пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{167}.
пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ{168}.
пњљпњљпњљпњљ 150 пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ 1979 пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ 1980 пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{169}. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ 3,2 пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ.пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ (пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ) пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ 3 200 000 пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ 200 пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ 1979 пњљпњљпњљпњљ, 300 пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ 1980 пњљпњљпњљ, 400 пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ 1981 пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{170}.
пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. 10 пњљпњљпњљ 1980 пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ: 200 пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ 1979-пњљ пњљ 300 пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ.пњљпњљ пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ{171}.
пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ?{172} пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ{173}. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљ 1980 пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{174}.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ L-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ{175}. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ L-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ 1980 пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{176}. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ 12 пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{177}.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, 21 пњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{178}.
пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ 1960-пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ 1970-пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ SRAC, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ (short-range agent communications, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ). пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ (Buster) пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ (пњљпњљпњљ), пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ 4 пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ 300 пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ 100 пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ; пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ BlackBerry пњљпњљпњљ iPhone{179}.
пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ-пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{180}.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ; пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ? пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ? пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ-пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ?
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ:пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{181}.
11 пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{182}.
пњљпњљпњљпњљпњљ 9
пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ
17пњљпњљпњљпњљпњљ 1980 пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ 10.55 пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ-пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{183}.
пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ Pentax. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ 179 пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ 35-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ Tropel пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ Tropel пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ{184}. 35-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ Pentax пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ Pentax пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ Tropel{185}. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ Pentax пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ{186}.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ 6400 пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ/пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљќФ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ:
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ 17 пњљпњљпњљпњљ 1980 пњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ 179 пњљпњљпњљпњљпњљпњљ 35-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ:
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ[11] (пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ);
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ-25, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ; пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ;
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ 1990 пњљпњљпњљпњљ.
пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ 18 пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{187}.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{188}.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{189}.
пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ 24 пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ?пњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ? пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ? пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{190}.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ L-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{191}.
пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ 8пњљ10 пњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ? пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ? пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ 179 пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{192}.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљ 10
пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ
пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ 1979 пњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ 31 пњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ 6-пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ[12], пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ.пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ-пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљ пњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ? пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ? пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ?пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ!пњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ-пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ 1977 пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ. пњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ 35 пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ; пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ-пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ-пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{193}.
пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ 8-пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ{194}.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ? пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ? пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ 1979 пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ D-04 пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ-пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ.
пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ 1979 пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљ-пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљ пњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ?пњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ?пњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ! пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ 1980 пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ-пњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ.
пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ? пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ[13] пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљ?пњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ? пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: CKUTOPIA (пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ).
пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ? пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ? пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ? пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ? пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ CKGO (пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ), пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ Tropel. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ? пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ? пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ? пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ? пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ V, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ?.. пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ?..пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ Austrian Airlines. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ.
пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљ 8 пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ 1829 пњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ?пњљ
пњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ? пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ; пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ: пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ, пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ. пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљ пњљпњљпњљ, пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ.
пњљпњљпњљ, пњљпњљ пњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљ-пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ,пњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ.