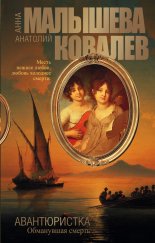Рим. Роман о древнем городе Сейлор Стивен
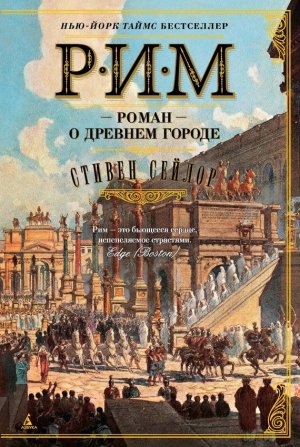
Брут стоял столбом, словно не мог двинуться с места.
– Ты должен сделать это, – настаивал Кассий. – Двадцать три отважных мужа, двадцать три удара во имя свободы. Действуй!
Брут шагнул к дергающейся, окровавленной фигуре у подножия статуи Помпея. Казалось, вид Цезаря ужаснул его. Он тяжело сглотнул и, чтобы вернее нанести удар, с кинжалом в руках опустился на колени рядом с поверженным диктатором.
– И ты тоже… дитя мое? – выдохнул Цезарь вместе с сочившейся изо рта и стекавшей по подбородку кровью.
Но Бруту, кажется, эти слова добавили смелости: он стиснул зубы, размахнулся и вонзил кинжал Цезарю в бедро, рядом с пахом. Цезарь дернулся, из его рта, булькая, хлынула кровь. Он напрягся, захрипел и затих.
Луций, в ужасе наблюдавший происходящее с некоторого расстояния, видел все. Остолбеневший, он даже не замечал в страхе устремившихся к выходу сенаторов и вздрогнул от неожиданности, почувствовав на плече чью-то руку. То был Антоний. Лицо его посерело, голос дрожал.
– Пойдем со мной, Луций. Здесь небезопасно.
Луций покачал головой: он словно прирос к месту, не в силах двинуться. Он явился, чтобы предостеречь Цезаря. Но не успел.
Медленно, хладнокровно к ним приближался Брут. В глазах его больше не было лихорадочного блеска. Плечи были развернуты, подбородок поднят: он выглядел человеком, выполнившим тяжелую работу и гордившимся тем, что сделал ее хорошо.
– Никто не причинит тебе вреда, Луций Пинарий. И тебе, Антоний, до тех пор, пока ты не поднимешь меч против нас.
Помещение к тому времени почти опустело. Большую часть оставшихся сенаторов составляли старики, неспособные убежать.
Брут огорченно покачал головой:
– Не на такую реакцию мы рассчитывали. Я намеревался после завершения дела произнести речь, чтобы объяснить всем наши мотивы. Но они разбежались, как переполошившиеся гуси.
– Речь? – переспросил Антоний, не веря своим ушам.
Брут извлек из-за пазухи тоги пергамент. Его пальцы запачкали документ кровью, и он недовольно поморщился.
– Ну вот, старался, всю ночь писал. Ну ладно, не сегодня так завтра я с ней выступлю, как только сенат возобновит нормальную работу.
– Нормальную работу?
Антоний, похоже, был совершенно растерян.
– Ну да. Нормальная работа сената, нормальная жизнь Рима, освобожденного от власти тирана. Республика восстановлена, народ может радоваться. Пять столетий назад мой предок Брут освободил Рим от преступного царя. Сегодня мы последовали его примеру…
– Прочти свою речь кому-нибудь другому! – выкрикнул Луций, оттолкнул Брута и, рыдая, выбежал вон.
Антоний догнал его.
– Пойдем со мной, Луций. Что бы там ни говорил Брут, мы оба не в безопасности, а у моего дома высокие стены и надежные двери.
Они стояли на ступенях, спускавшихся к площади. На виду больше никого не было.
– Как… как с его телом? – вымолвил Луций. – Что, если они бросят его в Тибр, как поступили с Гракхами?
– Этого не случится, – угрюмо проворчал Антоний. – Я этого не допущу. Цезарь будет похоронен как подобает, клянусь тебе честью римлянина!
* * *
Когда Гай Октавий был раздражен, голос его становился пронзительным. «Ему нужно упражняться в ораторском искусстве», – подумал Луций. За дни, прошедшие после убийства Цезаря и возвращения Гая Октавия в Рим, Луций уже успел устать от режущего слух голоса родича.
– С этого дня и впредь, Антоний, ты будешь обращаться ко мне «Цезарь», – заявил Октавий еще более резким и дребезжащим голосом. – И это не просьба, а требование!
– Ты предъявляешь мне требования?
Антоний откинулся назад на стуле, скрестил руки на груди и скривил нос.
– Прежде всего, молодой человек, это мой дом, и требовать чего-либо здесь могу только я. Да, я исполнял приказы Цезаря, потому что он был моим командиром, но Цезарь мертв, а ни от кого больше я приказов выслушивать не намерен. И уж всяко не намерен выслушивать их от отродья его племянницы. Я не собираюсь называть тебя его именем. А раз уж речь зашла о титулах, то я могу потребовать, чтобы ты называл меня консулом, поскольку из нас троих, находящихся в этой комнате, только я являюсь магистратом.
– Являешься, но исключительно потому, что Цезарь счел нужным назначить тебя на эту должность, так же как счел нужным усыновить и сделать своим наследником меня.
Антоний ощетинился:
– Это мой дом, Октавий. Ты у меня в гостях…
Луций поднялся на ноги.
– Марк и Гай, уймитесь! Мы же союзники. Если кому-то хочется услышать злые слова и почувствовать на себе недобрые взгляды, достаточно выйти за дверь. Неужели мы трое не можем разговаривать друг с другом мирно, по крайней мере соблюдая приличия?
– Прекрасная мысль, родич, – откликнулся Октавий. – Но тебе не кажется, что приличия начинаются с того, что человека называют его законным именем? Я не сам его себе присвоил: Цезарь усыновил меня и даровал право носить его имя. Поэтому меня зовут Гай Юлий Цезарь Октавиан.
– Понимаю, – сказал Луций. – Но если Антонию привычней называть тебя прежним именем, почему бы и не оставить это как есть? Октавий – это почтенное патрицианское имя. Произнося его, он чтит твоих предков. Антоний – наш друг и родич. Мы нуждаемся в нем. Он – это щит между нами и теми людьми, которые убили нашего дядю. Разве мы не заодно? По-моему, мы трое достаточно близки и можем обращаться друг к другу или по первому имени, или по фамилии, или еще как-нибудь. Можешь ты с этим согласиться, родич Гай? Пойми, мы собрались не для того, чтобы обсудить, как друг к другу обращаться, или затеять еще один спор вокруг завещания Цезаря. Вопрос в том, как уберечь свои головы!
Некоторое время Октавий и Антоний молчали. Луций даже удивился тому, что сумел заставить умолкнуть обоих самоуверенных спорщиков.
Убийство Цезаря перевернуло в жизни Луция все и полностью преобразило его. Он больше не был неоперившимся юнцом, робевшим и терявшимся в присутствии старших. Он чувствовал себя одним из наследников Цезаря, вовлеченным в отчаянную борьбу за будущее.
Октавий был всего на пару лет старше и не намного опытнее его. Правда, ему удалось побывать на войне, но он не стяжал славы умелого командира, а уж тем более – героя. Его невыносимая гордыня проистекала единственно из тщеславия, но никак не из выдающихся достижений. В определенном смысле, по мнению Луция, его родич был каким-то ущербным. Начать с того, что его ораторские способности оказались вовсе не впечатляющими, что бы там ни думал на сей счет Цезарь.
Публичные выступления Антония были куда ярче и убедительнее, что он в полной мере продемонстрировал, произнося перед огромной толпой погребальный панегирик Цезарю. Его речь была насыщена драматизмом и выстроена с великим умением. Он не позволил себе ни единого слова в осуждение убийц, но восхвалял убитого так, что это вызвало у слушателей слезы и пробудило в них ярость. Ни разу не заявив об этом открыто, он ловко подвел собравшихся к той мысли, что заговорщики вовсе не освободили граждан Рима от тирании, а лишили их великого вождя. Тогда же он обнародовал один из пунктов завещания: Цезарь распорядился выплатить из своего огромного состояния каждому простому гражданину, живущему в Риме, по семьдесят пять аттических драхм. Естественно, что это не добавило толпе любви к убийцам ее благодетеля.
Однако свои слабости имелись и у Антония – в последнее время Луций понял это особенно отчетливо. Начать с того, что он слишком много пил. В лучшие времена его способность поглощать вино в огромных количествах забавляла и даже восхищала Луция, но сейчас она воспринималась как безрассудство. Грозившая опасность и стоявшие перед ними задачи требовали ясности ума. Кроме того, Антоний проявлял мелочность. Его нежелание называть Октавия Цезарем объяснялось обидой: по завещанию этот мальчишка стал главным наследником диктатора. Антоний же, к превеликому его удивлению, там не был упомянут вовсе. Обида обидой, но его постоянное стремление уколоть Октавия вряд ли могло пойти на пользу делу.
Завещание и представляло собой основной вопрос. Согласно ему, Цезарь посмертно усыновлял Гая Октавия и завещал ему половину всего принадлежавшего ему имущества. Вторая половина делилась поровну между его племянником Квинтом Педием, до сих пор находившимся вне Рима, и внучатым племянником Луцием Пинарием. Хоть Цезарь и говорил, что он в долгу перед Луцием из-за самопожертвования его деда, усыновленным оказался не Луций, а Гай Октавий! Таким образом, у Луция имелись собственные основания для обиды и недовольства завещанием, но сейчас он считал это второстепенным.
Цезарион, сын Клеопатры, вообще не удостоился чести быть упомянутым в завещании. Сразу после убийства Цезаря царица Египта освободила предоставленную ей виллу и отплыла в Александрию.
Выполнение политической воли Цезаря, претворение в жизнь последних эдиктов и поддержание порядка – все это легло на плечи его давних помощников, Антония и Лепида, которые, однако, не имели ни политического веса диктатора, ни его полномочий. Сотрудничество с наследниками Цезаря являлось для них жизненной необходимостью. Каждый из этих молодых людей унаследовал огромное богатство, и каждый пробуждал сентиментальные чувства в тех гражданах, которые поддерживали Цезаря при жизни, а ныне скорбели о нем. Наследники, в свою очередь, нуждались в защите и наставлении со стороны людей более опытных, и Лепид, ну и, конечно, Антоний могли им это предоставить. Порожденный необходимостью, этот альянс с самого начала был непрочным, ибо его подрывали взаимные обиды и подозрения, особенно между Октавием и Антонием.
В результате убийства Цезаря Рим стал котлом козней и интриг. Заговор против Цезаря включал по меньшей мере шестьдесят человек: некоторые являлись непосредственными участниками убийства, другие обеспечивали им поддержку. Следовало ли отдать этих людей под суд как преступников или восславить их как избавителей Рима от тирании? Спустя три дня после убийства сенат даровал убийцам амнистию, но принял обтекаемое решение, в котором они, с одной стороны, не объявлялись преступниками, но с другой – не превозносились как патриоты.
Несмотря на амнистию и попытки сената огибать острые углы, взаимная ненависть сторонников и противников убитого диктатора была такова, что скоро вылилась в насилие. Ни в чем не повинный трибун по имени Цинна был буквально разорван толпой, спутавшей его с одним из заговорщиков: части его растерзанного тела разбросали по Форуму. После нешуточных угроз поджечь дома Брута и Кассия оба они покинули Рим, отправившись в те самые провинции, наместниками которых их назначил Цезарь.
Это породило новый вопрос: а насколько законны все произведенные Цезарем назначения? Брут и Кассий называли Цезаря тираном и узурпатором. Но если так, то разве могли сохранять силу его указы и распоряжения, в том числе и о назначении их наместниками?
Теперь противоборствующие стороны ставили под сомнение легитимность буквально каждого акта, изданного любым магистратом. Кому же принадлежала законная власть и по какому праву? Надеявшихся на то, что смерть Цезаря приведет к быстрому, гармоничному восстановлению сенатского правления, ждало горькое разочарование. Рим балансировал на лезвии меча, готовый вот-вот низвергнуться в хаос. После стольких лет разрушения и насилия еще одна гражданская война могла оказаться для него непосильной. Эта перспектива была ужасной, но с каждым днем казалась все более неотвратимой.
Будущее представлялось неопределенным. Чтобы обсудить его, двое наследников Цезаря явились в дом Антония. Однако, похоже, вместо обсуждения будущего они без конца возвращались к тому, что уже стоило бы оставить в прошлом.
Прервал напряженное молчание Октавий:
– Заговорщиков следовало предать смерти немедленно, сразу после совершенного злодеяния. Ты, Антоний, как консул, располагал властью, чтобы арестовать их. Ты мог ввести в действие последний декрет…
– В зале не оставалось сенаторов, чтобы поставить такой вопрос на голосование.
– Даже при этом ты должен был не уносить ноги, а принять все меры против людей, убивших моего отца…
– Если ты считаешь, что это так просто, то ты еще более наивен, чем я думал. И уж конечно, ты – не сын Цезаря.
– Довольно! – заявил Луций. – Вам обоим следует прекратить эту перебранку и заняться тем, ради чего мы встретились: вопросом о Бруте и Кассии. Возможно или невозможно убедить сенат официально провозгласить убийство Цезаря преступным деянием? Кажется, большинство сенаторов склонны подражать Цицерону. Они не желают принимать ни ту ни другую сторону и тянут время, выжидая, как обернутся дела. В настоящий момент амнистия покрывает убийц. Но в любом случае преждевременный захват Кассием и Брутом власти в их провинциях был полностью незаконным. Его следует трактовать как преступление против государства, а это дает тебе, Антоний, как консулу право применять против них все меры, вплоть до военной силы.
– В случае проведения военной операции Цезарь тоже примет в ней участие, – заявил Октавий, уже успевший усвоить манеру двоюродного дяди говорить о себе в третьем лице, к неудовольствию Антония, который заскрежетал зубами. – Войска будут подняты на средства Цезаря. Имя Цезаря привлечет ветеранов. Но чтобы командовать армией на поле боя, я должен быть наделен консульскими полномочиями.
– Это невозможно! – заявил Антоний. – Ты слишком молод.
– Это как посмотреть. Мой двоюродный дядя назначал магистратами людей до достижения ими положенного возраста. Таким образом, прецедент был создан…
– Вот как раз очень важный момент, родич, – встрял Луций. – Все должны видеть, что мы действуем по закону. Любая военная акция должна восприниматься как вынужденная и необходимая. Ни у кого не должно появиться повода заявить, будто мы… – он помедлил, словно не желая даже произносить это слово, – будто мы развязали гражданскую войну из соображений личной выгоды или мести. Мы должны добиться поддержки сената, легионов и народа. Но как? Это вопрос из тех, которые наш дядя Гай решал блистательно.
Луций тяжело вздохнул и обвел взглядом собеседников. Сам он вовсе не тешил себя иллюзиями и не воображал, будто способен заменить Цезаря в качестве вождя. Но чем дальше, тем больше он утверждался во мнении, что ни Антоний, ни Октавий тоже не годятся для этой роли, пусть даже один из них был правой рукой Цезаря, а другой является его приемным сыном. Им с трудом удавалось сохранить мир между собой.
Словно в подтверждение его правоты оба его собеседника заговорили одновременно. Ни один не уступал, оба перешли на крик, и в конце концов Луций закрыл уши руками.
– Марк! Гай! Помолчите и послушайте меня! Вы оба – честолюбивые мужи. Вы оба желаете управлять государством. Ну и хорошо. Боги поощряют честолюбие, особенно в римлянах. Но моя цель, моя единственная цель – отомстить за смерть Цезаря. Все убийцы должны быть объявлены вне закона. Они должны быть загнаны и убиты! Первейшая наша забота – это Брут и Кассий. Я полон решимости поднять оружие против них. Вложите в мою руку меч, и я с готовностью буду служить под началом любого из вас – и под твоим, Марк, и под твоим, Гай. Мне все равно. Но я не верю, что один из вас сможет добиться решения этой задачи без помощи другого. Умоляю вас прекратить пререкаться и хоть на время объединить усилия для достижения общей цели.
Он вперил взгляд в Антония, который в конце концов пожал плечами и кивнул.
Затем он перевел взгляд на Октавия. Тот поднял бровь:
– Конечно, ты прав. Спасибо, родич Луций. Именно таким, четко выраженным чувством цели нам и надлежит руководствоваться. Ну что, Антоний, вернемся к делу?
Разговор, последовавший за этим, был более плодотворным, и Луция радовало, что он смог-таки повернуть его в нужное русло. Однако, присматриваясь к обоим собеседникам, он думал, что его слова были не совсем правдивы. Он сказал, что цель для него – главное и ради нее он готов служить под началом любого из них. Так оно и было, но все же в сердце своем он предпочитал горячего, открытого, жизнелюбивого, хотя порой грубоватого Антония. Возможно, из-за того, что больно уж самолюбив, тщеславен и хладнокровен был его родич Гай. Под началом Антония Луций служил бы с радостью, под началом Октавия – из чувства долга.
Он молил богов, чтобы не пришлось выбирать между ними.
1 год до Р. Х
Луцию Пинарию снился старый, повторявшийся вновь и вновь сон, напоминавший о реальном кошмаре, который ему довелось пережить в далекой юности в мартовские иды.
В этом сне он являлся одновременно и участником, и созерцателем событий, вроде бы осознававшим, что это сон, но неспособным его прервать. Цезарь умер. Огромная толпа собралась, чтобы услышать оглашение его завещания. Весталка достала свиток. Марк Антоний развернул его и начал читать. Хотя Луций стоял в первых рядах толпы, он не мог расслышать упоминавшихся имен – уши его заполнял гомон волнующейся толпы, подобный шуму морских волн. Он и рад был бы призвать окружающих к молчанию, но не мог открыть рот и вымолвить хоть слово.
Внезапно с содроганием Луций пробудился. Его трясло, тело покрылось потом. Этот сон, точно старый неумолимый враг, преследовал его все прошедшие годы, насмехаясь над воспоминаниями его юности и теми блестящими перспективами, которые смерть Цезаря разбила вдребезги. Но за долгое время Луций так свыкся, почти сроднился с этим сном, что в чем-то почти уподобился старому другу. Где еще, если не во сне, мог он увидеть лицо Антония, живого, во цвете лет?
Протерев сонные глаза, он вернулся к действительности. Сон истаял.
Вопреки всему, Луций Пинарий дожил до преклонных лет. Ему было шестьдесят. Многие, очень многие из его поколения сложили головы в гражданских войнах, последовавших за гибелью Цезаря. Уцелевших забрали в царство Гадеса несчастные случаи и болезни. Но Луций оставался в живых.
Он поднялся с кровати, облегчился в комнатный горшок и набросил тунику. Позднее, поскольку сегодня такой важный день, ему придется надеть сенаторскую тогу, но пока можно обойтись и туникой.
Повар приготовил незатейливый завтрак – мука, смешанная с молоком и водой и подслащенная медом. Зубы у Луция, в его-то годы, оставались крепкими, но вот сказать то же самое о желудке было нельзя, и он предпочитал обходиться легкой пищей. Прожевывая сладковатую кашицу, он мысленно вернулся к бесконечным празднествам, имевшим место в Александрии. Вина из Греции, финики из Парфии, крокодиловы яйца с берегов Нила, прислужницы из Нумидии, танцовщицы из Эфиопии, куртизанки из Антиохии… Что бы ни говорили люди об Антонии и Клеопатре, никто не мог отрицать, что толк в пирах они знали. Особенно это проявлялось в последние месяцы и дни, в преддверии их неизбежного конца.
Так или иначе, но из-за этого сна Луцию вновь вспомнился Антоний, и эти воспоминания пробудили печаль. Сладкая кашица в его рту приобрела привкус горечи. Однако сегодня следовало думать не о прошлом. Сегодня надлежало думать о будущем, потому что сегодня прибывал его внук.
Стоило старику подумать о юноше, как раб-привратник доложил, что молодой Луций Пинарий дожидается в передней.
– Уже? – удивился Луций. – Что-то рановато. Ну да ладно, он может подождать несколько минут, созерцая изображения предков, пока я пропихиваю эту кашу себе в глотку. Тем временем прикажи подать носилки к парадному входу.
– Какие носилки, господин?
– О, я думаю, те, затейливые. С желтыми занавесками, расшитыми подушками и всеми этими медными побрякушками. Сегодня особый день.
* * *
– Давным-давно, еще до того, как у меня начали скрипеть коленки, я похаживал в бани Агриппы, даром что они находятся у самого Марсова поля. Но вот полюбуйся – нас, двоих римских мужчин, несут по улицам на носилках. Я краснею при мысли о том, что подумали бы наши предки о подобной изнеженности.
Луций улыбался внуку, который сидел рядом с ним и, кажется, радовался прогулке. Во всяком случае, он подался вперед, вытянул шею и жадным до впечатлений взглядом десятилетнего мальчика вбирал все, мимо чего их проносили. В идеале Луцию следовало совершить то, что он задумал, когда внук получит право надеть тогу. Но он не мог ждать так долго, ибо вполне мог и не дожить до этого знаменательного дня. Лучше уж позаботиться обо всем заранее, пока у него бьется сердце да и мозги на месте.
– А почему это поле называют Марсовым, дедушка?
– Дай-ка вспомню. Сдается мне, что в давние-предавние времена его называли полем Маворса. Так, кажется, в древности называли Марса. Думаю, кто-то возвел здесь его святилище с алтарем, ну а уж с алтаря имя бога перешло на всю местность.
– Насчет Марса я понимаю, но при чем здесь поле? Что-то я никакого поля не вижу, одни улицы и дома.
– А, понимаю, что ты имеешь в виду. Да, сейчас тут все застроено, но так было не всегда. Я, например, сам помню то время, когда Марсово поле или, во всяком случае, значительная его часть оставалась открытой небу и использовалась как плац для обучения войск или как место многолюдных собраний. Но с тех пор город сильно разросся, включив в себя каждый клочок земли между древними стенами и Тибром. О, вижу, нас сейчас проносят мимо Помпеева театра. Когда его открыли, мне было примерно столько же лет, сколько тебе сейчас.
Глаза Луция непроизвольно переместились к главному портику. Всякий раз, оказываясь возле Театра Помпея, он не мог не вспомнить о том событии, свидетелем которого ему довелось здесь стать. Однако говорить об этом он отнюдь не желал и был рад, что мальчик не задает лишних вопросов.
– А видишь тот храм, впереди? Это Пантеон, построенный правой рукой императора Марком Агриппой. А рядом с Пантеоном тот же Агриппа открыл бани – тому уж двадцать лет. В ту пору открытие публичных бань было событием огромного значения, ведь прежде ничего подобного в Риме не было. Ну а с открытием бань поблизости начали расти аркады с торговыми рядами.
Мальчик нахмурился:
– Что же это получается, дедушка. Если до Агриппы в Риме не было бань, то, выходит, горожане не мылись?
Луций улыбнулся. Его внук, по крайней мере, выказывает интерес к прошлому. Не то что многие, предпочитающие ничего не вспоминать и делать вид, будто Рим всегда пребывал в мире и управлялся императорами. Словно никогда и не было ни республики, ни череды гражданских войн, ни человека по имени Антоний.
Ну вот, опять ему вспомнился Антоний.
– Мылись, конечно, люди и до Агриппы, и бани в Риме были. Но таких больших и красивых не было никогда. Кроме того, впервые доступ туда был бесплатным, свободным для всех, что сделало их весьма популярными. Таков был подарок императора Риму. В эти бани люди стали ходить не столько чтобы помыться, сколько на других посмотреть и себя показать. Тем более что различия в имущественном и общественном положении не так видны, когда все вокруг голые и мокрые.
Луций рассмеялся:
– Это ты, дедушка, здорово сказал.
– Стараюсь, внучек. Кстати, о банях – вот и они.
Луций очень любил утренние часы. Время, проводимое с внуком, было для него драгоценно, а возможность отвлечься на бани была одним из самых приятных аспектов городской жизни. День старого Луция начинался с бритья, которым занимался особо доверенный раб. Внук наблюдал за этой процедурой с огромным интересом. Его отец в настоящее время носил бороду, поэтому дома мальчик не имел возможности полюбоваться скольжением отточенного лезвия по мужскому лицу.
После бритья они выходили наружу, к открытому бассейну – рукотворному озеру, как некоторые его называли, – и плавали вдвоем от берега к берегу. Гребки мальчика были неравномерными, но дыхание ровным, а это уже неплохо. Как бы ни сложилась в будущем его судьба, юному Луцию, скорее всего, случится плавать на кораблях, и тут уж умение держаться на воде может оказаться жизненно важным. Сколько храбрых воинов Антония пошли ко дну после несчастной для него битвы при Акции. Они погибли не потому, что их увлекла под воду тяжесть доспехов, а потому, что просто не умели плавать.
Ну вот и опять он поймал себя на том, что думает об Антонии!
Когда гимнасиарх устроил серию забегов по дорожке возле пруда, Луций-старший уговорил внука принять участие в соревновании и был рад тому, что мальчик победил в двух первых забегах. В третий раз он проиграл, но противник опередил его лишь чуть-чуть. Луций-внук был прекрасным бегуном.
Другой гимнасиарх устраивал состязания борцов, все участники которых были гораздо старше и сильнее юного Луция, занявшего вместе с дедом место среди зрителей. Борцы соревновались по греческому обычаю, нагие. Их тела были смазаны оливковым маслом, что, с точки зрения старшего Луция, как и передвижение по городу на носилках, содержало в себе упадочнический элемент. Ну что бы сказали на это предки? Истинные римляне предпочитали такой забаве смертельные бои гладиаторов.
Луцию вспомнилось, как император, ведя войну против Антония и Клеопатры, яростно обвинял царицу Египта, гречанку по крови, в том, что она развратила римлянина Антония излишествами и роскошью Востока. Однако стоило ему восторжествовать над соперниками, как об исконной простоте нравов и вспоминать перестали. Рим под его властью стал более космополитическим городом, чем когда-либо прежде. Он позволил Агриппе построить бани. При нем расцвели культы диковинных иноземных богов. Он всячески потворствовал стремлению римлян к развлечениям и удовольствиям.
Покончив с утренней гимнастикой, оба Луция занялись гигиеной. Для начала они отчистили скребками грязь и пот со своих тел, причем сделали это у подножия знаменитой статуи работы Лисиппа, изображавшей атлета, который как раз этим и занимался. Зажав скребок в одной мускулистой руке, он отчищал ею другую, вытянутую перед собой. Агриппа установил эту статую в своих банях с большой помпой, ведь Лисипп был придворным скульптором Александра Великого. Хотя с Апоксиомена, как называли атлета со скребком греки, было сделано великое множество копий, бронзовый оригинал имел огромную ценность. Статуя представляла собой еще один щедрый дар императора народу Рима.
Луций-дед и Луций-внук расхаживали туда-сюда между бассейнами с водой различной температуры, холодной, так и манившей приободриться после упражнений, теплой и такой горячей, что над ней поднимался пар и погружаться в нее приходилось постепенно. Даже полы в банях подогревались с помощью проложенных под плитами труб. Стены были из мрамора, и, несмотря на сырость, художники Агриппы нашли способ украсить их росписью. Способ этот назывался «энкаустика» и заключался в том, что стена расписывалась горячими, расплавленными красками, а связующим материалом являлся пчелиный воск. Со стен на посетителей взирали боги, богини и герои. В тумане парили образы из преданий.
После мытья, завернувшись в льняные простыни, они отправились подкрепиться в ближайшую аркаду. Мальчик вовсю уминал ломти хлеба, покрытые гарумом, но для деда пряный рыбный соус был слишком острым, и он довольствовался пастой из смокв.
Разговор зашел об учебе мальчика, который как раз сейчас читал «Энеиду» – последнюю поэму Вергилия, любимого поэта императора. Это произведение поэт создал в ответ на просьбу императора сотворить римский эпос, достойный стоять в одном ряду с «Илиадой» и «Одиссеей» великого эллина Гомера. Длинная поэма повествовала о похождениях воителя из Трои Энея, который провозглашался сыном Венеры и прародителем римского народа. Согласно Вергилию, Эней был предком не только нынешнего императора и его божественного дядюшки Юлия, но также предком Ромула и Рема.
Возможно, у Луция и были некоторые сомнения в исторической достоверности Энеиды, но делиться ими с мальчиком он не стал. Ибо сомнений в том, что творение Вергилия по всем статьям устроило императора, у него не было.
Перекусив, они отдыхали. Несколько старых знакомых Луция, проходя мимо, остановились, чтобы поздороваться и поговорить. Сенатор с гордостью представил им внука. Разговоры касались главным образом заморской торговли, цен на рабов, сравнительных достоинств и недостатков водного и сухопутного способов транспортировки товаров, а также того, кому достанутся выгодные строительные подряды на работы по дальнейшему расширению и украшению города.
– Как видишь, мой мальчик, – заметил дед, – основные дела делаются теперь даже не на Форуме, а здесь. В былые времена, конечно, все разговоры вертелись бы вокруг политики да войны. Но в настоящее время война представляет собой лишь некий род деятельности, осуществляющийся на дальних рубежах и способный (или неспособный) повлиять на ход торговли. Политики, в прежнем понимании этого слова, включавшем свободное обсуждение государственных дел и принятие решений, рождающихся в спорах, более не существует. Можно, конечно, посудачить насчет интриг внутри императорской фамилии и погадать, кто из членов ближнего императорского окружения обладает нынче большим влиянием – да и то шепотом.
Наконец, поупражнявшись, искупавшись, подкрепившись и отдохнув, дед и внук отправились в раздевалку. Юный Луций надел ту самую тунику, в которой и пришел, а его дед с помощью того же раба, который его брил, обрядился в тогу.
– Тога – это не просто одежда, но облачение благородного мужа, которое он носит так же, как держится сам: с гордостью и достоинством, – пояснил Пинарий-старший. – Плечи следует расправить, голову держать прямо. Особое внимание надлежит уделить ниспадающим складкам. Если их слишком мало, ты будешь выглядеть завернутым в простыню, а если слишком много, так будто обвешался предназначенным для стирки бельем.
Смех мальчика порадовал Луция – он свидетельствовал о том, что внук на все обращает внимание: присматривается, прислушивается, учится.
Раб подал какую-то блестящую безделушку на золотой цепочке. Луций через голову надел цепочку на шею, а «висюльку» спрятал под тогу.
– Что это, дедушка? – поинтересовался мальчик. – Какой-то амулет?
– Это не просто амулет, малыш. Он очень важный, очень древний, и как раз сегодня я надеваю его в последний раз. Но о нем мы поговорим позже, пока же хочу показать тебе кое-что в городе. Мне хочется, чтобы некоторые места ты увидел моими глазами.
– Должен ли я вызвать носилки? – осведомился раб.
– Не думаю. Колени мои распарились, а раз так, то мне не повредит пройтись пешком. Если, конечно, ты, непоседа Луций, не будешь убегать от меня – мне за тобой не угнаться.
– Нет, дедушка, я буду идти рядом.
Луций кивнул. Какой вежливый мальчик: уважительный, воспитанный, прилежный, аккуратный, чистоплотный. Можно сказать, продукт своего времени. Что ни говори, а жизнь стала более упорядоченной, мирной и более предсказуемой, чем в бурное время гражданских войн. Предки могли бы гордиться юным Луцием, как могли бы гордиться гармоничным миром, который, ценой тяжкого труда и пролитой крови, выстроили наконец их потомки.
Когда они направлялись к выходу из бань, на лице Луция-младшего отразилось возбуждение, он даже нервно прикусил нижнюю губу.
– В чем дело, мой мальчик?
– Да вот, дедушка, я подумал – мы с тобой гуляем, обо всем беседуем, а папа говорит, что есть нечто, о чем ты категорически не желаешь разговаривать. Причем ты нынче единственный, кто сам видел, как это случилось.
– А, ну конечно. Я понимаю, о чем ты пытаешься сказать. На том месте будет наша первая остановка. Но сразу предупреждаю: смотреть там сейчас нечего.
– Нечего?
– Сам убедишься.
Они направились к Театру Помпея. Старый Луций вышагивал медленно, причем вовс не из-за коленей. Когда они достигли вершины, сердце его колотилось, кожу покалывало, дыхания не хватало. Даже по прошествии стольких лет, приближаясь к этому месту, он не мог не испытывать ужаса.
Они подошли к кирпичной стене.
– Это здесь, – промолвил Луций. – Именно на этом месте божественный Юлий, твой троюродный дядя, встретил конец своей земной жизни.
Мальчик нахмурился:
– А мне представлялось, будто это случилось в зале собраний, у подножия статуи Помпея.
– Так оно и было. Вот здесь, где мы стоим, находился вход в зал, а до того места, где пал Цезарь, отсюда будет шагов пятьдесят. Несколько лет назад по приказу императора или, точнее, по постановлению сената, вынесенному по указанию императора, место гибели Цезаря было объявлено проклятым. Никто не должен был его видеть и посещать. Статуи Помпея удалили и разместили в различных помещениях театра. Вход в зал замуровали, как вход в гробницу. Мартовские иды объявили днем позора, и сенату было запрещено когда-либо назначать на этот день заседания. Так что теперь, как я тебе и говорил, смотреть здесь нечего.
– Но, дедушка, неужели ты действительно был тогда здесь и видел, как все это случилось?
– Да. Видел, как наносили удары убийцы. Видел, как упал Цезарь. Слышал его последние слова, обращенные к бесчестному Бруту. Антоний тоже был здесь, хотя он прибыл позже меня. Они нарочно задержали его снаружи, чтобы он не смог помешать задуманному злодеянию и защитить Цезаря, хотя, я думаю, дело было еще и в том, что Антония они убивать не хотели. Убийцы Цезаря имели свое представление о чести и искренне верили, что действуют во благо Рима.
– Но как это может быть? Ведь они же кровожадные убийцы!
– Да, именно так. Иногда в людях совмещается несовместимое.
Мальчик задумчиво нахмурился:
– Ты помянул Антония. Я думал, он…
– Знаешь, внучек, хватит об этом. Я еще так много хотел тебе показать.
Они двинулась в направлении старой части города. На Форуме Боариуме Луций показал мальчику Ара Максима и рассказал о той роли, какую некогда играли Пинарии в отправлении культа Геркулеса. Их фамилия уже давным-давно не была связана со жречеством, однако впервые Пинарии появились в истории именно в таком качестве, и забывать этого не следовало. В древности они делили обязанности жрецов с другой семьей, но род Потициев давно прервался, их имена сохранились лишь в анналах и эпитафиях.
Они взошли на Палатин, медленно поднявшись по древним Какусовым ступеням, пройдя мимо углубления в каменном склоне, которое, по преданию, представляло собой след заваленного входа в пещеру, служившую логовом чудовища. Постояли в тени смоковницы. Считалось, что она произошла от легендарной руминалии, под которой Акка Лавренция выкармливала грудью Ромула и Рема. Посетили хижину Ромула, причем даже мальчик сообразил, что она выглядит слишком уж новой. Ясно было, что за прошедшие столетия эту достопримечательность не раз перестраивали. Потом они спустились на Форум, где в последние годы выросло еще больше памятников и храмов.
– В древние времена здесь было озеро, так гласит предание, – заметил дед. – Трудно поверить. А первые храмы строили из дерева.
– Все, что я вижу здесь, построено из мрамора, – откликнулся внук.
Луций кивнул:
– Император любит похваляться, говоря: «Рим достался мне кирпичным, но я сделаю его мраморным». И то сказать – за время его правления огромное количество зданий восстановили, перестроили и выстроили заново. Было решено придать старой славе новый блеск, а с этой целью сделать все больше и великолепнее, чем прежде. Император принес нам мир и процветание. Он превратил Рим в самый блистательный и величественный город из всех, когда-либо существовавших. Теперь это неоспоримый центр мира.
Они подошли к статуе императора, одной из множества украшавших город. Он был изображен в виде юного воителя – привлекательного, мужественного, снаряженного для битвы. Надпись на постаменте, напоминавшая о великой победе при Филиппах, в Македонии, одержанной им в двадцать два года, гласила: «Я отправил убийц своего отца в изгнание, а когда они развязали войну против республики, разбил их в бою».
По мнению деда, статуя льстила его родичу: Гай Октавий никогда не был столь хорош собой и, уж во всяком случае, не имел таких широких плеч и такой рельефной мускулатуры. Зато внук взирал на изваяние не столь критично.
– Дедушка, отец говорил, что ты тоже был при Филиппах, когда изменники и убийцы Брут и Кассий получили по заслугам. Он говорил, что ты сражался рядом с императором.
– Ну, не совсем так, – уклончиво ответил Луций, приподняв бровь.
Насколько он помнил, Октавий тогда был болен и большую часть битвы отлеживался в постели, если не считать времени, когда ему пришлось прятаться в болоте, поскольку в его лагерь ворвался Брут.
– Признаться, самому мне не довелось пролить при Филиппах вражескую кровь. Моей обязанностью было поддержание бесперебойного снабжения припасами легионов Марка Антония.
– Антоний? – Мальчик нахмурился. – Но разве он не был врагом императора? Мне рассказывали, что он стал добровольным рабом царицы Египта.
Луций моргнул.
– Ну, это случилось позже. При Филиппах Октавий и Антоний…
– Октавий?
– Извини, оговорился. Октавием нашего императора нарекли при рождении, но потом он был усыновлен Божественным Юлием и стал зваться Цезарем, а со временем принял еще и титул Августа. Но я отвлекся. При Филиппах император и Марк Антоний были союзниками, они сражались бок о бок, чтобы отомстить за Божественного Юлия. Кассий и Брут потерпели поражение, и оба покончили с собой. Но Филиппы были только началом. Около шестидесяти сенаторов были вовлечены в заговор против Цезаря, и теперь все они мертвы. Кто-то погиб при кораблекрушении, кто-то пал в бою, кто-то покончил жизнь самоубийством, заколовшись таким же кинжалом, каким был убит Цезарь. Правда, пострадали и некоторые из тех, кто не замышлял против Цезаря. Например, Цицерон: он был врагом Марка Антония и пал от его рук.
– От его рук?
– Цицерон сочинял яростные пасквили в пику Антонию, поэтому тот приказал не просто убить его, но вместе с головой отрубить и руки, писавшие эти оскорбительные опусы. Антоний имел мстительный характер, с этим не поспоришь.
– А император наказал Антония за то, что он убил Цицерона?
– Нет.
Луций тяжело вздохнул.
Правда была очень непроста, поскольку значительная ее часть относилась к тому, о чем не следовало говорить вслух.
– Они оставались друзьями и после смерти Цицерона много лет. Потом Антоний связал свою судьбу с Клеопатрой, но и тогда многие считали, что Антоний с Клеопатрой будут править в Египте и на Востоке, а император – в Риме и на Западе. Но философы учат: «Если Небеса едины под властью Юпитера, то и Земля должна объединиться под властью одного императора». Мечты Антония закончились крахом.
– Из-за египетской блудницы?
Луций снова моргнул.
– Пойдем, внучек. Я хочу показать тебе еще кое-что.
Они проследовали на Форум Юлия. Цезарь не успел достроить величественные аркады судебных и правительственных зданий, однако император довел эти работы до завершения. Над открытой площадью по-прежнему господствовала великолепная статуя Цезаря, восседающего на боевом коне.
«И насколько же уместнее выглядят доспехи на Божественном Юлии, чем на его преемнике», – невольно подумал Луций.
По площади сновало множество людей: они переговаривались, многие держали в руках свитки. В правление императора законодательная система стала сложнее, чем когда-либо ранее, законы охватывали гораздо больше сторон жизни, и, соответственно, работы у законников, даже по сравнению с временами республики, существенно прибавилось. Без них теперь не обходились ни публичные разбирательства, ни официальные банкротства, ни торговые соглашения.
Пройдя мимо плещущего фонтана, дед и внук вошли в храм Венеры, который Луций-старший (во всяком случае, по внутреннему убранству) и по сию пору считал великолепнейшим храмом Рима, непревзойденным даже новейшими роскошными соружениями, воздвигнутыми по велению императора. В этом храме находились прославленные изображения Аякса и Медеи работы знаменитого Тимомаха, а в шкафах с выдвижными ящиками хранилась прославленная коллекция драгоценностей, собранная Цезарем в походах.
Держа внука за руку, Луций направился к двум статуям в дальнем конце святилища. Венера Аркесилая оставалась непревзойденной. А рядом с ней, вопреки всем невзгодам, обрушившимся на живой оригинал, красовалось золоченое изваяние царицы Клеопатры, последней из долгой череды Птолемеев, правивших Египтом со времен Александра Великого. Многие ожидали, что император прикажет удалить статую, но такого приказа отдано не было, и она оставалась там, где ее установил Юлий Цезарь.
– Что бы тебе ни наговорили про Клеопатру, шлюхой она не была, – тихо промолвил Луций. – Насколько мне известно, за всю свою жизнь она спала только с двумя мужчинами: с Божественным Юлием и Марком Антонием. И обоим подарила детей. Император, в его несказанной мудрости, счел разумным убить Цезариона, но сохранил жизнь отпрыскам Антония.
– Но все говорят, что она…
– То, что говорят все, вовсе не обязательно правда. Императору выгодно, чтобы ее считали обольстительницей и распутницей, но Клеопатра представляла собой нечто большее. Сама она считала себя богиней. И, к худу ли, к добру ли, вела себя соответственно.
Мальчик наморщил лоб:
– Но когда она соблазнила Антония присоединиться к ней, ты выступил против них на стороне императора?
– Не совсем так. Не сразу. Признаюсь, в начале той войны я дрался за Антония.
– За Антония? На стороне Клеопатры и против императора?
Внук был изумлен.
– Антоний был моим другом и моим покровителем в дни, последовавшие за убийством Цезаря, смутные дни, когда я был слишком юн. Он всегда был верен Цезарю, и я чувствовал себя обязанным верностью ему. Под его командованием я служил при Филиппах, под его же началом остался и потом, даже когда разразилась новая гражданская война и император провозгласил Антония врагом Рима. Антоний отправил меня в город Сирену охранять его западный фланг. Ты знаешь, где находится Сирена?
Мальчик насупил брови:
– Что-то не припоминаю.
– Это в Ливии, на морском берегу, западнее Александрии, которая была столицей государства Клеопатры. И вот что я тебе скажу, внучек: достанься победа Клеопатре и Антонию, нынче столица мира находилась бы не в Риме, а в Александрии. А наш с тобой Рим превратился бы в тихую провинцию.
– Это невозможно!
– Да, тут ты прав. Как я мог забыть, что собственными ушами слышал Божественного Юлия, а Риму самими богами предназначено править миром. Но в те пьянящие дни, когда я был молод, а Антоний с Клеопатрой пребывали на гребне славы, все казалось возможным. Все! – Он вздохнул. – Так вот, я находился в Сирене. Исполнял там роль сторожевого пса Антония на тот случай, если его враги попытаются превратить Ливию в опорный пункт для нападения на Египет. Я наблюдал, выжидал, муштровал солдат и чеканил монету, которой Антоний расплачивался по своим долгам. Война – дорогое удовольствие! Кстати, это напомнило о том, что у меня есть для тебя серебряный динарий, как раз одна из тех монет, которые я чеканил для Антония. – Он запустил руку в складки тоги. – Нынче такие монеты редки. Большую их часть переплавили и отчеканили заново с профилем императора.
Внук взял у деда тяжелый серебряный кружок и стал рассматривать его с большим интересом.
– О, дедушка, это Виктория, победа. Она изображена в профиль, с обнаженной грудью, за спиной у нее крылья, в руках венец. Но кое-что мне непонятно… Вот это что такое?
– Пальмовая ветвь, – пояснил Луций. – По берегам Нила пальм сколько угодно, они растут там сами собой.
Мальчик перевернул монету.
– А кто этот малый с ниспадающей бородой?
– Не кто иной, как царь богов Юпитер.
– Но у него бараньи рога!
– Это Юпитер Амон, то его воплощение, которое чтут в Египте. Александрийцы, говорящие по-гречески, называют его Зевс-Амон. Культ Зевса-Амона установил Александр Великий, а распространил его военачальник Птолемей, унаследовавший Египет. Тот самый Птолемей, который основал династию, правившую в Египте почти три столетия и закончившуюся на Клеопатре.
– И… она не была блудницей?
Мальчик пребывал в сомнениях.
– Ее враги в Риме называли царицу так при жизни, а уж сейчас, по прошествии столь долгого времени после ее смерти, в это, кажется, поверили все. Но Цезарь о ней так не думал. И Антоний тоже. Клеопатра считала себя воплощением богини Исиды. Женщина куда серьезнее относится к плотским связям, если верит, что их последствием может стать появление из ее утробы бога или богини.
– Но как бы то ни было, она лишилась всего. Пала сама и увлекла с собой Антония, верно?
Луций кивнул:
– Антоний с Клеопатрой собрали огромный флот и отправились в Грецию, чтобы дать бой императору. Я остался в Сирене, в ожидании новостей. Морское сражение состоялось у мыса Акций и закончилось победой императорского флота, которым командовал Марк Агриппа. С этим поражением для Антония и Клеопатры все было кончено, и все это понимали. Антоний послал мне отчаянное письмо, сообщая о намерении явиться в Сирену за моими войсками.
– Ну и что было дальше?