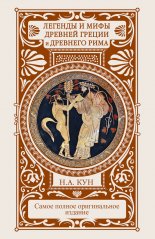Узкая дорога на дальний север Флэнаган Ричард

Richard Flanagan
The Narrow Road to Deep North
Copyright © 2013, Richard Flanagan. All rights reserved
© Мисюченко В., перевод на русский язык, 2016
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2016
I
Из сердцевины пиона
Медленно выползает пчела…
О, с какой неохотой!
Басё
1
Вот почему начало чего угодно всегда – свет? Самое раннее воспоминание Дорриго Эванса – солнце, затопившее своим светом церковный зал, где он сидит с матерью и бабушкой. Деревянный церковный зал. Слепящий свет, и он, топающий вперевалку туда-сюда, то предаваясь непостижимому радушию света, то выходя из него и попадая на руки к женщинам. Женщинам, любившим его. Было похоже, как будто заходишь в море и возвращаешься на пляжный песок. С волны на волну.
«Храни тебя Бог, – произносит мама, держа его на руках и опуская на пол походить. – Храни тебя Бог, мальчик мой».
Год, должно быть, 1915-й или 1916-й. Ему год или два. Позже подступила тень от поднятой руки, ее черный контур внезапно возник в сальном свете керосиновой лампы. Джеки Магвайр сидит на тесной кухоньке Эвансов, плачет. Тогда никто не плакал, кроме маленьких детей. Джеки Магвайр был стариком лет сорока, наверное, а то и больше, и все старался смахнуть тыльной стороной ладони слезы со своего изъеденного оспинами лица. Или он это пальцами проделывал?
В памяти Дорриго Эванса застряло только то, что старик плакал. Звук был такой, будто что-то ломалось. Замедляющийся ритм рыданий напомнил ему, как бил задними ногами о землю кролик, попавший в силки, единственный из всех слышанных в жизни звуков, что был похож. Да и выбор-то, с чем сравнивать, невелик: ему девять лет, зашел домой показать матери кровавый волдырь на большом пальце. До этого он всего раз видел, как плачет взрослый мужчина, зрелище поразительное. Случилось это, когда его брат, Том, вернулся с Большой войны во Франции и сошел с поезда. Швырнул вещмешок в горячую пыль запасного пути и вдруг разразился слезами.
Глядя на брата, Дорриго Эванс все гадал, что же такое могло заставить взрослого заплакать. Заплакать стало означать просто дать выход чувствам, а чувство – единственный в жизни компас. Чувствовать сделалось модой, а эмоция стала театром, в котором люди актеры, давно позабывшие, чт они собой представляют вне сцены. Дорриго Эвансу суждено было прожить достаточно долго, чтобы стать свидетелем всяческих перемен. И он запомнил время, когда люди стыдились плакать. Когда они страшились слабости, которую выдавали слезы. Беды, какую они накликали. Он доживет и увидит, как люди станут нахваливать то, что не заслуживает похвалы, просто потому, что считают, будто истина дурно скажется на их чувствах.
В ночь, когда Том вернулся домой, сожгли на костре чучело кайзера. Том ничего не рассказывал о войне, о немцах, о газах, танках и траншеях, слухи о которых долетали и до них. Он вообще ни о чем не рассказывал. То, что один человек чувствует, не всегда соответствует всему, чем полна жизнь. Порой это вообще не очень-то чему-нибудь соответствует. Брат только смотрел, не отрываясь, на язычки пламени.
2
У человека счастливого нет прошлого, тогда как у несчастливого не остается ничего другого. В старости Дорриго Эванс не мог понять, то ли он эти слова вычитал где, то ли сам сложил. Сложил, замесил, вывалил. Вываливается беспрестанно. Камень в гравий, гравий в пыль, пыль в грязь, грязь в камень – и так мир вертится, как, бывало, говаривала его мать, когда он требовал объяснений, почему в жизни должно быть так или этак. «Мир существует, – говорила мать. – Он просто есть, мальчик мой». Мальчик изо всех сил старался выковырять камень из породы, чтобы построить форт для игры, в какую он играл, когда другой камень, побольше, упал ему на большой палец, отчего под ногтем вздулся большой ноющий кровавый волдырь.
Мать подтолкнула Дорриго к кухонному столу, где лампа светила ярче всего, и, избегая странного пристального взгляда Джеки Магвайра, поднесла к свету большой палец сына. Жена Джеки на прошлой неделе села в поезд с их самым младшим ребенком, уехала в Лонсестон и не вернулась.
Мать Дорриго взяла разделочный нож. По кромке его лезвия тянулась желтоватая полоска застывшего бараньего жира. Мать сунула кончик ножа в угли кухонной плиты. Взвился легкий дымок, наполняя кухню запахом подгоревшей баранины. Мать вытащила нож, с его красного от жара кончика слетали, сверкая, искорки добела раскаленных бриллиантовых пылинок, Дорриго виделось в этом чудо и одновременно что-то пугающее.
– Стой смирно, – велела мать, ухватив его руку с такой силой, что он даже удивился.
Джеки Магвайр уже рассказывал, как он отправился на почтовом поезде в Лонсестон, как искал жену повсюду, но так и не смог ее нигде найти. На глазах у Дорриго раскаленный кончик коснулся его ногтя, дым пошел, когда мать стала прожигать дырку у основания ногтя. Мальчик слышал, как Джеки Магвайр сказал:
– Она пропала с лица земли, миссис Эванс.
Вслед за дымом из его большого пальца вырвалась струйка темной крови, и боль от кровавого волдыря ушла вместе со страхом перед раскаленным разделочным ножом.
– Катись, – произнесла мать Дорриго, подталкивая его прочь от стола. – Теперь проваливай, мальчик мой.
– Пропала! – сокрушался Джеки Магвайр.
Было это в те времена, когда мир был широк и остров Тасмания все еще таил в себе целый мир. Времена многочисленных отдаленных и заброшенных форпостов по всему острову, лишь немногие из которых более заброшены и отдалены, чем Кливленд, селеньице душ в сорок, где жил Дорриго Эванс. Старое исправительное поселение осужденных пережило суровые времена и выпало из памяти, теперь оно сохранялось благодаря ветке железной дороги: горстка развалюх в георгианском стиле и разбросанные деревянные коттеджи, опоясанные верандами, служили прибежищем тем, кто пережил век ссылок и утрат.
В селении, на которое так и напирали леса корявых эвкалиптов и серебристой мимозы, волнующейся и танцующей в жару, летом было жарко и тягостно, а зимой тягостно, просто тягостно. Электричеству с радио сюда только предстояло добраться, и если бы не было известно, что на дворе 20-е годы ХХ века, их вполне можно бы считать 80-ми, а то и 50-ми годами века XIX. Много лет спустя Том, человек, к аллегориям не склонный, но, видимо, понуждаемый (так, во всяком случае, считал в то время Дорриго) собственной предстоящей смертью и ее спутником, ужасом старости, делавшими всю жизнь лишь аллегорией, а настоящее чем-то нездешним, выразил это так: похоже на долгую осень умирающего мира.
Их отец был ремонтником на железной дороге, и его семья жила в одном из дощатых домиков Тасманийской государственной железной дороги прямо около путей. Летом, когда уходила вода, они ведрами черпали воду из бака, сооруженного для заправки паровых локомотивов. Спали под шкурами попавших в силки опоссумов, питались же в основном кроликами, которых загоняли в западни, да кенгуру-валлаби, которых отстреливали, картошкой, которую сами растили, да хлебом, который сами пекли. Отец, переживший кризис 1890-х годов и своими газами видевший, как на улицах Хобарта люди мерли с голоду, тот поверить не мог, что ему повезло в конечном счете остаться в живых в этом раю трудяг. Он еще говаривал, когда оптимизм его оставлял: «Живешь как собака и сдохнешь как собака».
Дорриго Эванс знал Джеки Магвайра по каникулам, которые иногда проводил у Тома. Чтобы добраться до Тома, надо было успеть доехать на задке подводы Джо Пайка из Кливленда до поворота на долину Фингал-Вэлли. Пока старый тяжеловоз Джо Пайка по кличке Грейси приятно трусил по дороге, Дорриго раскачивался взад-вперед, воображение превращало его в одну из суковатых ветвей бешено трясущихся эвкалиптов, которые тыкались в высокое синее небо и пролетали впереди. Он вбирал в себя запах сырой коры и сохнущих листьев, смотрел, как высоко над головой пересмешничали кланы зелено-красных ускусных попугаев-лори. Он упивался птичьим пением крапивников и медососов, криками какой-то хищной птицы, похожими на щелканье хлыста, перемежавшимися мерным топотом копыт Грейси, поскрипыванием и позвякиванием кожаных ремней, деревянных осей и железных цепей телеги – вселенная ощущений, которая возвращалась в снах.
Они держали путь по старой каретной дороге, мимо каретной гостиницы, которую разорила железная дорога, и теперь она превратилась только что не в руины, где обитали обнищавшие семьи, в их числе и семейство Джеки Магвайра. Через каждые несколько дней облако пыли возвещало о приближении автомобиля, ребятишки, выбравшись из кустов и каретного сарая, с громким криком бежали за ним, пока их легкие не охватывал пожар, а ноги не наливались свинцом.
У поворота на Фингал-Вэлли Дорриго соскакивал с телеги, махал на прощание рукой Джо и Грейси и отправлялся пешком до Лливелина, городка, отличавшегося главным образом тем, что был он еще меньше Кливленда. Оказавшись в Лливелине, он шел прямо на северо-восток через загоны и, держа путь на укрытую снегом громадину горы Бен Ломонд, в снежную страну с той стороны Бена, где Том по две недели через одну работал капканщиком, ставил силки на опоссумов. Часа через два после полудня он добирался до жилища Тома, пещеры в отроге ниже уровня хребта, где брат и гнездился. Размерами пещера была чуть меньше их забитой миллионом разных вещей кухни. В ее самом высоком месте Том мог встать, пригнув голову. Пещера, подобно яйцу, сужалась в оба конца. Вход в нее был занавешен, а значит, хранящий в ней тепло костер мог гореть всю ночь.
Иногда Том, которому уже несколько лет, как перевалило за двадцать, брал себе в напарники Джеки Магвайра. Том, обладавший хорошим голосом, частенько на ночь пел песню-другую. А после, при свете костра, Дорриго читал вслух неграмотному Джеки Магвайру и Тому, утверждавшему, что он читать умеет, из какого-нибудь старого номера «Буллетин» или «Смитс уикли», которые составляли библиотеку двух капканщиков на опоссумов. Им нравилось, когда Дорриго читал что-нибудь из рубрики «Советы тетушки Розы» или баллады о жизни буша[3], которые слушатели находили «толковыми», а то и вовсе «очень толковыми». Через некоторое время Дорриго стал заучивать для охотников наизусть другие стихотворения из школьной книжки «Английский Парнас». Больше всего им полюбился «Улисс» Теннисона.
Изъеденное оспинами лицо улыбается в свете костра, ярко блестя, словно свежеиспеченный сливовый пудинг, и Джеки Магвайр приговаривает: «От в старину люди были! Во народ! Слова эти самые умели в струнку вязать крепче медной петли, что кролика душит!»
И Дорриго не признался Тому, что за неделю до пропажи миссис Магвайр видел, как брат забрался рукой ей под юбку, когда она (маленькая, крепенькая, по-иноземному смуглая) привалилась к куриному насесту позади каретного сарая. Том лицом зарылся ей в шею. Дорриго понимал: брат ее целовал.
Много лет Дорриго часто вспоминал о миссис Магвайр, настоящего имени которой он никогда не знал, настоящее имя которой походило на еду, что каждый день снилась ему в лагерях для военнопленных: как бы есть, а вот и нет, вламывалось в череп нечто, всегда ускользавшее, стоило только к нему потянуться. Время шло, и он стал думать о ней не так часто, а когда прошло еще больше времени, вообще перестал о ней думать.
3
Дорриго был единственным в семье, одолевшим в двенадцать лет экзамен на способности[4] после начальной школы, и потому получил стипендию, позволившую ему учиться в Лонсестонской средней школе. В классе он был переростком. В свой первый день, во время обеденного перерыва, он забрел на так называемый верхний двор, ровную площадку из увядшей травы и пыли, коры и листьев, в одном углу которой росло несколько больших эвкалиптов. Смотрел, как старшие ребята из третьего и четвертого классов, некоторые уже с короткими бачками, мальчишки с уже развитыми мужскими мускулами, становились в два буйных ряда, толкались, пихались, будто исполняли движения какого-то ритуального танца. Потом начиналась магия игры в удар на удар. Кто-нибудь из ребят бил по мячу, отправляя его из своего ряда через двор к другому ряду. И все мальчишки из того ряда вместе бросались бегом к мячу и, если тот летел высоко, подпрыгивали вверх, стараясь его поймать. Тот же, кому после буйной схватки возле зачетной зоны удавалось перехватить мяч и приземлить его за отметкой, тотчас будто обретал святость. И ему, баловню, полагалась награда: ударом вернуть мяч обратно к другому ряду, где все начиналось сызнова.
Так и шла игра, весь обеденный час. Верховодили неизбежно старшие ребята, им выпадало больше всего удачных прорывов за отметку, они же получали право на большинство ударов. У некоторых мальчишек помладше было по нескольку прорывов и ударов, у многих – по одному, а то и ни одного.
В тот первый раз Дорриго весь обеденный перерыв просмотрел. Один одноклассник-первогодок убеждал его, что надо дорасти по крайней мере до второго класса, прежде чем выпадет шанс сыграть в удар на удар: старшие ребята слишком сильны и слишком быстры, им ничего не стоит совладать с соперником, они, не задумываясь, врежут тебе локтем по башке, или кулаком в лицо двинут, или коленом в спину поддадут. Дорриго заметил, как некоторые из мальчишек помладше слонялись позади своры играющих, держась в нескольких шагах, готовые урвать случайный мяч, если тот после удара взлетит чересчур высоко и пролетит над схваткой.
На второй день он присоединился к ловцам удачи. А на третий оказался прямо позади игроков, когда за их плечами разглядел, как в вышине летит к ним кувыркающаяся капелька. На мгновение она затмила солнце, и Дорриго понял: этот мяч его добыча. Он чуял запах муравьиной мочи на эвкалиптах, почувствовал, как разбежались их веревочные тени, когда он припустил вперед, к своре игроков. Время замедлилось, в гуще толпы он отыскал то самое место, куда сейчас бросились самые высокие и сильные ребята. Он понял, что летящий с солнца мяч предназначен ему, и все, что от него требуется, – это вознестись. Взгляд его был устремлен только на мяч, но он понял: ничего у него не выйдет, если он побежит с той быстротой, на какую способен, – а потому он прыгнул, ноги его уперлись в спину одного, колени оседлали плечи другого, так и взобрался при полном блеске солнца выше всех остальных ребят. На пике их борьбы он высоко вытянул над собой руки, ощутил, как мяч крепко вошел в ладони, и понял: теперь можно начать падать с солнца.
Крепко прижимая к себе мяч, он так сильно ударился о землю спиной, что едва не лишился дыхания. Захлебываясь с открытым ртом, он поднялся на ноги и стоял там в потоке света, держа овальный мяч, готовя себя к тому, чтобы войти в большой мир.
Когда он ковылял обратно, малышня почтительно расступалась перед ним.
– Ты, слышь, кто такой? – спросил один из старших.
– Дорриго Эванс.
– Это было – блеск, Дорриго. Тебе бить.
Запах коры эвкалипта, яркий голубой свет тасманийского полудня, такой резкий, что пришлось сильно прищуриться, чтобы перестало резать глаза, жар солнца на тугой коже, жесткие, короткие тени остальных, ощущение, что стоишь на пороге радостного вхождения в новую вселенную, пока твою старую можно по-прежнему познавать и удерживать, она все еще не потеряна – все это испытывал он, все это сознавал, как и горячую пыль, пот других мальчишек, смех, непривычную чистую радость быть с другими.
– Вдарь! – услышал он чей-то крик. – Бей, слышь, пока звонок не прозвенел и все не кончилось.
И в самых потаенных глубинах своего существа Дорриго Эванс понимал: вся его жизнь была путешествием вот к этой точке, когда он на мгновение взлетел на солнце, а теперь на весь остаток жизни ему предстоит путешествие прочь от светила. Ничто и никогда не предстанет ему такой же реальностью. Жизнь никогда больше не наполнялась таким же смыслом.
4
– Какие мы умненькие, а, развратник? – произнесла Эми. Она лежала с ним в постели гостиничного номера восемнадцать лет спустя после того, как он видел Джеки Магвайра, плакавшего на глазах у его, Дорриго, матери. Эми водила пальчиком в его обрезанных кудрях, пока он читал ей наизусть «Улисса». Номер был на третьем этаже затрапезной гостиницы, из комнаты стеклянные двери вели на просторную веранду, которая (скрывая собою все признаки дороги внизу и пляжа напротив) создавала иллюзию, будто сидят они на просторе Южного океана и слушают, как его воды, не зная устали, с шумом накатывают и откатывают внизу.
– Это уловка такая, – сказал Дорриго. – Вроде как монету из чьего-то уха вытащить.
– Нет, это не уловка.
– Да, – согласился Дорриго. – Не уловка.
– А что же тогда?
Уверенности у Дорриго не было.
– А эти греки, троянцы эти… это все зачем? Какая разница?
– Троянцы были семейством, родом. Они потерпели поражение.
– А греки?
– Греки?
– Нет. Регбисты из «Портовых болтунов Аделаиды». Конечно, греки. Что они собой представляют?
– Насилие. Но греки – наши герои. Они побеждают.
– Почему?
В точности он не знал почему.
– Это их уловка была, разумеется, – сказал он. – Троянский конь, приношение богам, в котором пряталась людская смерть, одно внутри другого.
– Почему же мы их тогда не ненавидим? Греков-то?
В точности он не знал почему. И чем больше думал об этом, тем меньше был способен разъяснить и то, почему так получается, и то, отчего род троянский был обречен. У него было ощущение, что «боги» просто были еще одним названием времени, но чутье подсказывало ему, что болтать об этом так же глупо, как и утверждать, что мы никоим образом не способны взять верх над богами. Но в двадцать семь (скоро двадцать восемь стукнет) он уже относился к собственной судьбе, если и не к судьбам других, как своего рода фаталист. Получалось, будто жизнь можно представить, но никогда нельзя объяснить, а к словам (ко всем словам, которые напрямую не обозначают предметы) он относился с наибольшим доверием.
Взгляд его, минуя обнаженное тело Эми, скользнул над опушенным крохотными волосками полумесяцем, по кромке которого ее торс сходился с бедрами, и устремился туда, где в раме с облупившейся белой краской, за дверями из толстого стекла лунный свет ложился на море узкой дорожкой, убегавшей от его взгляда и прятавшейся среди распростершихся по небу облаков. Получалось, будто свет ожидал его.
Мой умысел – к закату парус править,
За грань его, и, прежде чем умру,
Быть там, где тонут западные звезды[5].
– Почему ты так любишь слова? – услышал он вопрос Эми.
Мать его умерла от туберкулеза, когда ему было девятнадцать. Дорриго при этом не было. Его даже на Тасмании не было, потому что он жил на материке и получал стипендию на обучение медицине в Мельбурнском университете. По правде говоря, не одно только море разделило их. В Ормондском колледже он познакомился с людьми из благородных семей, гордых своими достижениями и генеалогиями, восходившими к временам еще до открытия Австралии, к лучшим фамилиям Англии. Они могли перечислять поколения за поколениями своего рода, кто из него занимал какие посты в политике и должности в компаниях, династические браки, родовые владения из дворцов и овцеводческих хозяйств. Лишь уже стариком стал он понимать, что большая часть всех этих россказней – вымысел похлеще всего, к чему подступался Троллоп.
С одной стороны, это было феноменально скучно, с другой – увлекательно. Никогда прежде Дорриго не встречал людей, наделенных такой уверенностью. Иудеи и католики – существа низшие, ирландцы безобразны, китайцы и аборигены – вообще не люди. Они о таких вещах даже не размышляли. Они это – знали. Их курьезы и странности поражали. Их дома из камня. Весомость их столового серебра. Их невежество в том, что касается жизни других людей. Их слепота к красоте природного мира. Свое семейство Дорриго любил. Но он им не гордился. Главное семейное достижение – выживание. Целая жизнь понадобится ему, чтобы оценить, что это было за достижение. В то же время, однако, оно казалось ему неудачей (да еще на фоне почестей, богатства, собственности и славы, с какими он сталкивался впервые в жизни). И вместо того чтобы устыдиться, он попросту отдалился от семьи до самой смерти матери. На ее похоронах он не плакал.
– Ну же, Дорри, – понукала его Эми. – Почему? – И потащила палец вверх по его бедру.
Потом он стал бояться замкнутых пространств, толпы, трамваев, поездов и танцев – всего, что сдавливало его изнутри и лишало света. Затруднилось дыхание. Он слышал, как во снах она зовет его. «Мальчик, – говорила она, – приезжай сюда, мальчик мой».
Но он не поехал. Едва не завалил экзамены. Читал и перечитывал «Улисса». Еще раз сыграл в регби в поисках света, того мира, какой когда-то мельком увидел в церкви. Взлетал и вновь взлетал к солнцу, пока не стал капитаном, пока не стал врачом, хирургом, пока не оказался с Эми в гостиничной постели, следя, как восходит луна над равниной ее живота. Он читал и перечитывал «Улисса»:
Мерцая, отступает свет от скал,
Укоротился долгий день, и всходит
Медлительно над водами луна.
Многоголосым гулом кличет бездна.
Плывем, друзья, пока не слишком поздно
Нам будет плыть, чтоб новый мир найти.
Он вцеплялся в свет, бывший началом чего угодно.
Читал и перечитывал «Улисса».
Оглянувшись на Эми, Дорриго Эванс проговорил:
– Слова были первой прелестью, какую я только узнал.
5
Когда через час он проснулся, она красила губы вишнево-красной помадой, затушевывала свои горящие газовым пламенем глаза и поправляла волосы, придавая лицу форму сердечка.
– Эми?
– Мне пора уходить.
– Эми…
– А потом…
– Останься.
– Для чего?
– Я…
– Для чего? Это я уже слышала…
– Я хочу тебя. Каждый миг, когда ты со мной, я хочу тебя.
– …Слишком много раз. Ты уйдешь от Эллы?
– Ты уйдешь от Кейта?
– Надо бежать, – сказала Эми. – Обещала вернуться через час. Карточный вечер. Можешь себе представить?
– Я вернусь.
– Неужели?
– Наверняка.
– И что тогда?
– Вообще-то это тайна.
– Наша?
– Нет. Да. Нет, войны. Военная тайна.
– Что?
– Нас отправляют на кораблях. В среду.
– Что?
– Через три дня…
– Когда среда, я знаю. Куда?
– На войну.
– Куда?
– Откуда нам знать?
– Куда ты отправляешься?
– На войну. Она повсюду, война-то, разве не так?
– Я тебя еще увижу?
– Я…
– Мы? А мы?
– Эми…
– Дорри, я тебя еще увижу?
6
У Дорриго Эванса было такое чувство, словно пятьдесят лет прошли среди хрипящего дрожания где-то в холодильной установке. Таблетка от ангины начала действовать, давящая тяжесть в груди отпускала, покалывание в руке прекратилось, и хотя какие-то внутренние расстройства, не подвластные медицине, еще оставались в его трепещущей душе, чувствовал он себя вполне сносно, чтобы добраться от гостиничной ванной комнаты до спальни.
На обратном пути к постели он взглянул на ее обнаженное плечо, нежное и гладкое в изгибе, которое неизменно вызывало у него волнение. Она слегка приподняла лицо, подернутое сном, и спросила:
– Ты о чем говорил?
Вновь улегшись, обняв ее и прижавшись к ней, он понял, что она имеет в виду их прежний разговор, еще до того, как она уснула. Где-то вдали (словно бросая вызов всей меланхолии звуков раннего утра, доносившихся и вылетавших из их номера городской гостиницы) дико взревела машина.
– О Смугляке, – шепнул он ей в спину так, словно это само собой разумелось, потом, поняв, что это не так, добавил: – Гардинере. – Когда выговаривал, нижняя губа захватила ее кожу. – Не могу вспомнить его лица, – напомнил он.
– На твое лицо не похоже, – сказала она.
«Это тут совсем ни при чем, – подумал Дорриго Эванс. – Смугляк Гардинер умер, и это совсем ни при чем». Вот потому, изводил он себя, и не смог он написать что-нибудь так понятно и просто, потому как не получилось представить себе лицо Смугляка Гардинера.
– От такого временного повреждения в уме никуда не деться, – произнесла она.
Дорриго улыбнулся. Он все не мог привыкнуть к ее словечкам вроде «временное повреждение в уме». Положим, он знал, что в душе она вульгарна, но все ж воспитание и от нее требовало подобных языковых изысков. Он задержал свои старческие сухие губы на коже ее плеча. Как там было про женщину, от которой он и теперь трепещет, точно рыбина какая?
– Ни тебе телик включить, ни журнальчик раскрыть, – продолжала она, радуясь собственной шутке, – без того, чтоб не увидеть, как оттуда твой нос торчит.
И в самом деле Дорриго Эвансу, который никогда о том не задумывался, представлялось, что его собственное лицо торчит отовсюду. С тех пор как лет двадцать назад он впервые был выставлен на всеобщее обозрение в телевизионном шоу, посвященном его прошлому, лицо его взирало на него с чего угодно, от благотворительных бланков до памятных монет. Носатое, смущенное, слегка растерянное, волосы, когда-то курчавые и темные, теперь прикрывали его жиденькой белопенной волной. В годы, которые у большинства его сверстников именовались «закатными», он вновь возносился к свету.
В последние годы он непостижимым для себя образом сделался героем войны, знаменитым и прославленным хирургом, общественным символом времени и трагедии, персонажем биографий, пьес и документальных фильмов. Предметом поклонения, идеализации, лести. Он понимал, что у него с героем войны были какие-то общие черты, привычки и история. Но он им не был. Просто он больше преуспел в сохранении жизни, чем в ее утрате, и не так много осталось людей, удостоенных мантии военнопленных. Отвергать почитание представлялось оскорблением памяти тех, кто погиб. Он не мог себе такого позволить. Да кроме того, у него и сил уже не было.
Как бы его ни прозывали: герой, трус, мошенник, – теперь все это, похоже, имело к нему отношение все меньше и меньше. Это принадлежало миру, куда как от него далекому и призрачному. Он понимал, что народ им восхищается (если отрешиться от тех, кому приходилось работать с ним как со стареющим хирургом), что его слегка презирают и, наверное, ему завидуют многие врачи, которые претерпели то же самое в других лагерях для военнопленных, но чувствовали, к несчастью для себя, что в его характере есть что-то такое, чего не дано им, что возносит его высоко-высоко над ними на волне всенародной привязанности.
Черт бы побрал тот документальный фильм.
Вот только тогда он против внимания не возражал. Втайне оно его, пожалуй, радовало. Но теперь уже – нет. О тех, кто ему косточки перемывает, ему не безызвестно. Так вышло, что по большей части он с ними соглашался. Слава казалась ему провалом восприятия со стороны других. Ему удалось избежать того, что сам он считал явными ошибками жизни, вроде политики и гольфа. Зато его попытки разработать новую хирургическую методику операций по удалению раковых опухолей толстой кишки успехом не увенчались, хуже того, возможно, пусть и не напрямую, привели к смерти нескольких пациентов. Он слышал, как Мэйсон однажды назвал его мясником. Возможно, если оглянуться на прошлое, он и правда был неосторожен. Вот если бы ему удалось, тогда б (он знал) его превозносили за смелость и дальновидность. Неустанное его волокитство за женщинами и неизбежно следующий за ним тенью обман давали поводы для мелких личных скандалов, но широкая общественность внимания на них не обращала. Его самого все еще в жар бросало от легкости и проворства, с какими он мог лгать, кружить головы и вводить в заблуждение, так что сам себя он, по собственным ощущениям, оценивал реалистически низко. То не было единственной составляющей его тщеславия, зато – одной из самых забавных.
Даже в таком возрасте (на прошлой неделе ему стукнуло семьдесят семь) он пугался того, что нрав натворил в его же жизни. В конце концов он понимал, что то же бесстрашие, тот же отказ мириться с условностями, тот же восторг от игры и тот же безнадежный голод, заставлявший вникать, как далеко смог бы он зайти в той или иной ситуации, которые побуждали его в концлагерях приходить на помощь другим, привели его еще и в объятия Линетт Мэйсон, жены его коллеги, Рика Мэйсона, такого же, как и он, члена научного совета Хирургического колледжа, блистательного ученого и невыносимого зануды. И еще не одной и не двух других. Была у него надежда: в предисловии, которое он тогда писал (не связывая себя ненужными откровениями), в конечном счете с честностью смирения как-нибудь отдать должное всему, вернуть свою роль в событиях на подобающее ей место – врача, не более и не менее – и восстановить законную память о многих позабытых, сосредоточив основное внимание на них, а не на самом себе. Кое-где, по его ощущениям, это было необходимым актом исправления и раскаяния. Где-то еще глубже он опасался, что подобное самоуничижение, подобное смирение лишь еще больше сыграет ему на руку. Он попал в западню. Его лицо мелькало повсюду, но он больше не в силах был припомнить лица тех, с кем вместе мучился.
– Стал именем я славным, – произнес он.
– Кто?
– Теннисон.
– Никогда о таком не слышала.
– «Улисс».
– Никто его больше не читает.
– Никто больше ничего не читает. Считается, что Браунинг – это пистолет.
– А я думала, для тебя один только «Лоусон»[6] и существует.
– Так и есть. Когда не доходит до Киплинга или Браунинга.
– Или Теннисона.
– Я часть всего, что повстречал в пути[7].
– Это ты придумал, – сказала она.
– Нет. Это очень… как это говорится-то?
– …Подходяще?
– Да.
– Ты способен все это наизусть шпарить, – сказала Линетт Мэйсон, пробегая ладонью вниз по его увядшему бедру. – И еще много чего. А вспомнить лицо человека не можешь.
– Не могу.
Шелли пришел к нему, когда он был при смерти, а еще Шекспир. Пришли незваными и стали такой же частью его жизни, как и его жизнь. Словно бы жизнь можно заключить в книжку, в предложение, в несколько слов. Таких простых слов. «На праздник смерти ты приходишь. Бледна и холодна улыбка в лунном свете»[8]. Вот были люди в старину.
– Смерть – наш лекарь, – сказал он. Соски ее показались ему чудом. В тот вечер на ужине был один журналист, который допытывался у него про бомбардировку Хиросимы и Нагасаки.
– Один раз, куда ни шло, – сказал журналист. – Но два?! Два-то зачем?
– Они были чудовищами, – заметил Дорриго Эванс. – Вам не понять.
Журналист спросил, были ли женщины и дети тоже чудовищами? И их еще не родившиеся дети?
– Радиация, – ответил Дорриго Эванс, – не оказывает пагубного воздействия на последующие поколения.
Только вопрос был не в том, и он знал это, а кроме того, он не знал, передаются ли пагубные воздействия радиации. Давным-давно кто-то сказал ему, что не передаются. Или передаются. Трудно вспомнить. Нынче он полагался на все более хрупкое предположение: то, что он говорит, правильно, а говорит он то, что правильно. Журналист, оказывается, написал статью про оставшихся в живых, встречался с ними, снимал их.
– Страдания их, – говорил журналист, – были ужасны и тянулись всю жизнь.
– Беда не в том, что вы ничего не знаете о войне, молодой человек, – сказал ему тогда Дорриго Эванс. – Беда, что вы постигли всего одно. А война – это много чего.
Он повернулся, чтобы уйти. Потом вновь обернулся.
– Кстати, а вы поете?
Теперь Дорриго, как всегда, пытался выбросить из памяти тот жалкий, неуклюжий и откровенно постыдный разговор, отдавшись плоти и обмяв ладонью грудь Линетт так, чтобы сосок торчал меж двух пальцев. Однако мысли, уйдя из памяти, никуда не девались. Журналист, несомненно, рано или поздно еще вдоволь потопчется на истории о герое войны, который на поверку оказался поджигателем войны, фанатом атомной бомбы, к тому же еще и старым маразматиком, спросившим на прощание, не поет ли он!
Но что-то в том журналисте напоминало ему Смугляка Гардинера, хотя он и затруднился бы сказать, что именно. Не лицо. Не манеры. Улыбка? Щека? Смелость? У Дорриго он вызвал раздражение, но его восхитил отказ журналиста прогнуться под грузом известности Дорриго. Какая-то внутренняя сцепка – целостность, если угодно. Упор на истину? Трудно сказать. Он не мог указать на какую-то мимику, которая была бы похожа, какой-то жест, привычку. Душу охватывал непонятный стыд. Видимо, он вел себя по-дурацки. И неправильно. Он больше ни в чем не был уверен. Видимо, с того самого дня избиения Смугляка уверенность у него пропала во всем.
– Я стану чудовищной падалью, – прошептал он в коралловую раковину ее ушка, женского органа, невыразимо пленявшего его свой мягкостью, блудливым витым провалом, который всегда, казалось, водоворотом затягивал его в неизведанное. И очень нежно поцеловал ее в мочку.
– Тебе следовало бы говорить, о чем ты думаешь, своими собственными словами, – сказала Линетт Мэйсон. – Словами Дорриго Эванса.
Ей было пятьдесят два, из детских лет вышла, но от глупости не отошла, саму себя презирала за ту власть, которой обладал над нею этот старик. Ей было известно, что у него не только жена есть, но и другая женщина. И, как она подозревала, еще одна или две. Не было у нее даже нечестивой славы его единственной любовницы. Линетт не понимала себя. Мужик закисал на дрожжах старости. Грудь у него провисла сморщенными титьками, в любовных утехах он был ненадежен, и все-таки вопреки здравому смыслу ей он представлялся цветущим. С ним она чувствовала себя как за неприступной каменной стеной: он ее любил. И все же она понимала, что одна часть его – та часть, которую ей хотелось больше всего, та часть, что была светом в нем, – так и оставалась неуловимой и непознанной. В ее снах Дорриго всегда летал выше ее на несколько дюймов. Частенько днем ее охватывал гнев, лились обвинение, угрозы, в ее отношениях с ним проступал холод. Зато попозже к ночи, лежа с ним рядом, она не желала никого другого.
– Небо было мерзко грязным, – говорил он, и она чувствовала, как готовится он воспрять еще разок. – Оно всегда уносилось прочь, – продолжал он, – словно бы и ему от грязи было не по себе.
7
Когда в начале 1943 года они прибыли в Сиам, было по-другому. Небо было чистым и неоглядным, это раз. Знакомое небо – во всяком случае, так ему думалось. Стоял сухой сезон, деревья были без листьев, джунгли прозрачными, земля пыльной. Была кое-какая еда, это два. Не много, не досыта, однако истощение еще не взяло свое и голод еще не поселился в желудках и мозгах солдат на правах чего-то, сводящего с ума. Да и их работа на японцев еще не стала тем безумием, которое позже будет косить людей косой, будто мух. Трудно было, но до безумия в самом начале не доходило.
Когда Дорриго Эванс опустил взгляд, то увидел прямую линию из землемерных геодезических колышков, вбитых инженерами Имперской японской армии для обозначения железнодорожного пути, шедшего от места, где он стоял во главе партии безмолвных военнопленных. От японских инженеров они узнали, что колышки тянутся линией в четыреста пятнадцать километров от местечка севернее Бангкока и до самой Бирмы.
Они обозначили трассу большой железной дороги, до сих пор бывшей лишь чередой ограниченных планов, неисполнимых, по видимости, приказов и грандиозных увещеваний со стороны японского высшего командования. То была легендарная железная дорога, ставшая делом отчаяния и фанатизма, созданная из мифа и нереальности не меньше, чем из дерева и железа, ценой тысяч и тысяч жизней людей, которым предстояло полечь за последующий год строительства. Но какая реальность хоть когда-нибудь создавалась реалистами?
Им вручили тупые топоры и прогнившие пеньковые канаты, а с ними выдали и первое задание: свалить, выкорчевать и расчистить километр гигантских тиковых деревьев, росших вдоль обозначенной железнодорожной трассы.
– Дед мой, бывало, говаривал, мол, вам, молодым, никогда не снести собственный вес, – пробурчал Джимми Бигелоу, пробуя указательным пальцем тупое и щербатое лезвие топора. – Жаль, старого пердуна здесь нет.
8
А потом, говоря по правде, никто этого и не вспомнит. Подобно всем величайшим преступлениям, этого будто бы и не происходило вовсе. Страдания, смерть, горе, подлая, жалкая бесцельность чудовищных мук такого множества людей – все это, может, и существует-то лишь на этих страницах да еще на страницах немногих других книг. Книга способна содержать ужас, придав ему и форму, и смысл. Но в жизни у ужаса формы не больше, чем смысла. Ужас просто есть. И пока он владычествует, во всей Вселенной будто и нет ничего, во что бы он ни воплотился.
Начало тому, о чем рассказано в этой книге, было положено 15 февраля 1942 года, когда с падением Сингапура рушится одна империя и поднимается другая. Тем не менее к 1943 году Япония, теряя последние силы и ресурсы, проигрывает, и тогда провозглашается ее потребность в железной дороге. Союзники поставляют националистической армии Чан-Кайши в Китае вооружение через Бирму, а американцы держат под контролем моря. Чтобы прервать жизненно важную линию поставок своему китайскому противнику и через Бирму завладеть Индией (о чем уже безумно мечтают японские правители), Японии необходимо снабжать свои бирманские войска людьми и снаряжением по суше. Однако для строительства нужной для этого железной дороги нет ни денег, ни техники. Нет и времени.
У войны, впрочем, своя логика. У Японской империи есть вера в победу: неукротимый японский дух, тот самый дух, которого нет у Запада, тот дух, что прозывается и понимается как воля императора, именно этот дух и дает веру в то, что он возобладает до своей самой окончательной победы. А прибавлением к столь неукротимому духу, подкреплением для такой веры империи выпала удача располагать рабами. Сотнями тысяч рабов, азиатов и европейцев. И среди них двадцать две тысячи австралийских военнопленных, которых соображения стратегической необходимости заставили сдаться при падении Сингапура еще до того, как сражение началось по-настоящему. Девять тысяч из них отправят на строительство железной дороги. Когда 25 октября 1943 года паровой локомотив С-5631 с прицепленными тремя вагонами японских и таиландских высокопоставленных особ проследует по всей трассе завершенной Дороги Смерти (первый состав, проделавший этот путь), на всем протяжении его пути будут бесчисленные погребения человеческих костей, среди которых останки каждого третьего из тех австралийцев.
Сегодня паровой локомотив С-5631 горделиво выставлен в музее, образующем часть неофициального военного мемориала Японии, святилища Ясукуни в Токио. Наряду с паровым локомотивом С-5631 в святилище хранится «Книга душ». В нее вписано свыше двух миллионов имен тех, кто пал в войнах, служа императору Японии, с 1867 по 1951 год. С занесением в «Книгу душ» в этом священном месте приходит отпущение грехов в совершении всех деяний зла. Среди этого множества имен есть и имена тех 1068, кого после Второй мировой войны осудили за военные преступления и казнили. А среди этих 1068 имен казненных военных преступников есть и имена тех, кто работал на Дороге Смерти и кого признали виновным в жестоком обращении с военнопленными. На табличке перед локомотивом С-5631 об этом упоминания нет. Нет и упоминания об ужасах строительства этой железной дороги. Нет имен сотен тысяч тех, кто умер, строя ту железную дорогу. Только ведь нет даже и точно установленного числа всех тех, кто погиб на Дороге Смерти. Военнопленные союзников были всего лишь частичкой (около 60 000 человек) тех, кого рабски использовали на том фараоновом предприятии. Наряду с четвертью миллиона тамилов, китайцев, яванцев, малайцев, тайцев и бирманцев. А то и больше. Одни историки утверждают, что умерло 50 000 этих рабских тружеников, другие говорят – около 100 000, третьи – 200 000. Никто не знает.
И никто никогда не узнает. Имена их уже позабыты. Никакой книги их утраченных душ не существует. Да пребудет с ними хотя бы этот кусок текста.
Итак, в тот день с утра пораньше Дорриго Эванс закончил свое предисловие к книге рисунков и акварелей Гая Хендрикса, сделанных в лагерях военнопленных, прежде настрого предупредив своего секретаря оградить его на ближайшие три часа от любых вмешательств, чтобы он смог завершить дело, которое никак не удавалось закончить уже несколько месяцев и которое теперь оказалось существенно просроченным. Даже когда дело было сделано, он чувствовал, что оно стало лишь еще одной его неудачной попыткой понять, как возможно чем-то, облеченным в форму предисловия, запросто разъяснить другим, что такое Дорога Смерти.
Чутье подсказывало: тон его был одновременно и чересчур очевидным, и чересчур личным – почему-то это вызвало у него вопросы, которые он за всю жизнь так и не разрешил. В голове вертелось столько всякой всячины, что ему не удалось хоть что-то выразить на бумаге. Столько всего, столько имен, столько мертвых, а вот поди ж ты, не смог написать ни одного имени. В начале своего предисловия он набросал описание Гая Хендрикса и нечто похожее на контур событий того дня, когда тот умер, в том числе и историю Смугляка Гардинера.
9
У военнопленных была серьезная причина называть последующее медленное погружение в безумие попросту двумя словами: «та Дорога». Впоследствии для них навсегда остались лишь два типа людей: те, кто был «на той Дороге», и все остальное человечество, которого там не было. Или, пожалуй, всего одного типа: те, кто «пережил ту Дорогу». Но наверное, даже и так недостаточно: Дорриго Эванса все чаще и чаще преследовала мысль, что оставались только люди, которые «сгинули на той Дороге». Его пугало, что только они достигли того жуткого совершенства страдания и познания, которое делает человека полноценным.
Оглядываясь назад на колышки железной дороги под ногами, Дорриго Эванс видел, что вокруг было столько непостижимого, непередаваемого, неразборчивого, необожествляемого, неописуемого. Колышки объясняли простые факты. Но они ничего не растолковывали. Что такое дорога, раздумывал он, «та Дорога»? Дорога – это линия, тянущаяся из одной точки в другую: из реальности в нереальность, из жизни в ад – «длина без ширины», если припомнить Эвклида, давшего определение линии в школьной геометрии. Длина, лишенная ширины, жизнь, лишенная смысла, следование от жизни к смерти. Путь в ад.
Полвека спустя задремавший в гостиничном номере Парраматты Дорриго Эванс резко дернул головой: ему снился Харон, грязный паромщик, переправлявший покойников через Стикс в царство мертвых по цене в один обол, оставленный у тех во рту. Во сне он беззвучно шевелил губами, повторяя слова Вергилия с описанием ужасного Харона: страх наводящий и мерзкий, лицо скрыто за нечесаными космами седых волос, жестокий взгляд горит огнем, грязный плащ, узлом завязанный на плече, свисает до пят.
В ту ночь он лежал с Линетт Мэйсон, а подле кровати держал, как делал всегда, где бы ни находился, книгу, в зрелом возрасте вернувшись к привычке читать. Хорошая книга, пришел он к выводу, оставляет в тебе желание эту книгу перечитать. Великая книга побуждает тебя перечитать собственную душу. Такие книги попадались ему редко, а с годами и того реже. И все же он отыскивал еще одну Итаку, с которой был связан навеки. Он читал, когда уже перевалило далеко за полдень. Он почти никогда не смотрел, что за книга оставалась на ночь, поскольку она существовала как талисман или как предмет, приносящий удачу, – как какое-то знакомое божество, смотрящее за ним и оберегающее его в мире снов.
В ту ночь книгой стала та, которую подарила ему делегация японских женщин, прибывшая принести извинения за японские военные преступления. Явились они с целой церемонией и видеокамерами, принесли подарки, и один из даров был любопытен: книга переводов японских стихов смерти, результат традиции, предписывающей японским поэтам, уходя из жизни, сочинить последнее стихотворение. Он положил книгу на темное дерево тумбочки у кровати, рядом с подушкой, аккуратно выровняв по своей голове. Он верил, что у книг есть аура, которая оберегает его, что если книги рядом не окажется, то он умрет. Без женщин он спал, не ведая печали. Без книги не спал никогда.
10
Еще раньше днем, листая книгу, Дорриго Эванс наткнулся на поразившее его стихотворение. На смертном одре Шисуи, поэт, мастер хайку, наконец-то внял просьбам о стихах смерти: схватил свою кисточку, изобразил стихотворение и умер. На бумаге же потрясенные последователи Шисуи увидели нарисованный поэтом круг.
Стихи Шисуи колесом прошлись по подсознанию Дорриго Эванса – содержательная пустота, бесконечная тайна, ширина без длины, большое колесо, вечное возвращение. Круг – полная противоположность линии.
Обол, оставленный во рту умершего для расплаты с паромщиком.
11
Путь Дорриго Эванса к «той Дороге» пролегал через лагерь военнопленных на яванском высокогорье, где, будучи полковником, он под конец стал заместителем командира тысячи заключенных солдат, в основном австралийцев. Нескончаемо для них тянулось время, воспринимавшееся как жизнь, что уходит прочь по капелькам или струйкам спорта, образовательных программ и концертов, когда в песнях звучали их воспоминания о доме, когда было положено начало делу всей жизни – придания лоска россказням о Ближнем Востоке: караваны верблюдов в сумерках, нагруженных песчаником, римские развалины и замки крестоносцев, наемники-черкесы в длинных черных одеяниях, отороченных серебряным позументом, и высоких шапках из черного каракуля, солдаты-сингалезцы, здоровенные мужики, шагавшие мимо них с болтавшимися на шее сапогами. Они с тоской вспоминали девчонок-француженок из Дамаска. В Палестине, проезжая мимо арабов, орали им во все горло из кузова грузовиков: «Еврейские гады!» – пока не познакомились с арабскими работницами из Иерусалима. Орали во все горло из кузова грузовиков, проезжая мимо, евреям: «Арабские гады!» – пока не увидели еврейских девушек из кибуцев (в голубеньких шортиках и белых блузках), которые настойчиво совали им сетки с апельсинами. Всякий раз смеялись над историей Рачка Берроуза, у которого были такие волосы, будто он позаимствовал их у какой-то ехидны, как он, проведя все увольнение в каирском борделе, вернулся, неистово расчесывая себе пах, тем и прозвище свое приобрел, что спрашивал, глянув вниз: «А это что еще за рачки мандавошечьи? Должно быть, с поганых стульчаков в туалете этих египтяшек понабрались, а?»