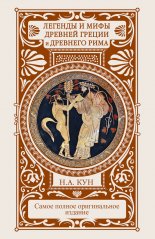Узкая дорога на дальний север Флэнаган Ричард

Но он и сам не знал, о чем это он, и перепугался того, на что наталкивали его мысли. Если так и было, неужели он настолько слабо управляет своею жизнью? Он вспомнил, как плавал однажды у берега в ожидании, когда она вернется из города. Откатившаяся волна подхватила его снизу и тащила за собой несколько сотен ярдов, прежде чем ему удалось выбраться.
– Откатившаяся волна, – сказал он тогда. – От нас.
Она тогда засмеялась и сказала:
– Прекрасная подвеска.
Даже сейчас у него будто перед глазами стояла миниатюрная луна той подвески, сверкающая в электрическом свете ювелирного магазина, он видел треугольную застежку, покоящуюся на основании ее шеи, окаймляя ту еле различимую, притягательнейшую гряду, что елочкой уходила от шеи вниз. Но вдруг отовсюду полетели пылинки, шум дождя нарастал, и он никак не мог увидеть ее лицо, не мог услышать ее голос, стоявший рядом Бонокс Бейкер, глядя в небо, недобрым словом поминал тенко[54], а Эми там не было. «Если мы сейчас не пойдем, – ныл Бонокс Бейкер, – то опоздаем, и бог знает, какого бедолагу отправят работать».
На миг Дорриго Эванс растерялся, не понимая, где он. Полная уверенность все еще не пришла, а он уже положил письмо рядом со своей кроватью и вышел из казармы под дождь.
И опять мысль: мир существует. Он просто есть.
7
Петух Макнис с опозданием присоединился к толпе, устало шагающей под дождем по грязи их лагеря обреченных к столовке. Не считая крестообразных обмоток и фетровых шляп АИВ, большинство заключенных ходили голыми, и чем меньше на них оставалось одежды, чем больше истощались и становились жалкими их тела, тем чаще, казалось, лихо, по-молодецки набекрень носили они свои форменные шляпы, словно в очередной раз собирались вечерком ударить по пиву и борделям в Палестине. Только вот бахвалиться, как прежде, им было уже не перед кем.
Запах дымка от горящих поленьев, небольшое прибежище из теплого сухого песка вокруг грубо слепленных из глины топок, расслабленность людей, которых вот-вот будут кормить, приглушенный гул разговоров – все это в большинстве случаев наделяло столовку ощущением чего-то домашнего, радушного в чуждом и неприветливом мире. Но в то утро столовку заливал дождь. Несколько ручейков стекали с ее пальмовой крыши, взрываясь облачками пара, когда вода попадала на печки, приправляя рис, который томился в широких чугунных поддонах сажей, которую вода тащила за собой с почерневших балок. Пол на добрых два дюйма ушел под воду. Петух Макнис, добравшись до раздачи, отстегнул свой походный столовый набор и, когда подошла его очередь, протянул оба котелка. Чашечка водянистой рисовой кашицы, служившей завтраком, шлепнулась в один, а грязный шарик риса, служивший обедом, в другой.
– Ну, проходи, что ли! – буркнул голос у него за спиной.
Петух Макнис распрямился. Шлепая по воде, он выскочил обратно на муссонный дождь. Теперь ему предстояло выбрать: либо попытаться по скользкому склону со своей рисовой кашицей вернуться под относительное укрытие палатки, там сесть и съесть завтрак, либо, как делали многие заключенные, стоять под дождем и глотать как можно быстрее. В конце концов, важна была не еда, важно – выживание.
Он смотрел, как мимо прошел Смугляк Гардинер, направляясь обратно в палатку, чтобы поесть. Смугляк был из тех заключенных, которые обращали прием пищи в небольшой церемониал, словно усаживался не за несколько ложек тошнотворного риса, а за воскресное мясное жаркое. У Петуха же Макниса, напротив, как он ни старался не спешить со своим пойлом, всякий раз ничего не получалось.
Он понимал, что есть смысл в удовольствии подержать еду с минуту-другую – просто зная, что можно поесть, и радуясь предвкушению почти так же, как и самой еде, в том, чтобы есть медленно, смакуя каждую из немногих отправляемых в рот порций (и даже умножая их, размазывая кашицу по ложке так, чтоб можно было слизывать с нее по многу раз), а не в том, чтобы в три-четыре глотка проглотить все. Однако у него так никогда не получалось.
И Петух Макнис ненавидел минуту, когда, проглотив собственный рис, он поднимал взгляд и видел, как такой человек, как Смугляк Гардинер, все еще завтракает, неспешно и безмятежно, поедая то, что у него осталось. В такие минуты Петух Макнис старался отвести взгляд, не обращать внимания на зависть, которая болезненно раздувала ему пустое брюхо, отделаться от гнева, мутившего его неистовый разум. Он давал себе слово, что в следующий раз он, Петух Макнис, тоже будет одним из тех, на кого обернутся все эти обтянутые кожей черепа, все эти костистые рожи и громадные мечтательные глаза и будут завистливо смотреть, отчаянно жаждая хотя бы немного его кашицы. В тот следующий раз уже он будет обладать таким недоступным достоинством, которое превратит поедание кашицы в акт мужества, даже станет вызовом.
Только ему этого никогда не сделать.
Голод его походил на дикого зверя. Голод был отчаянным, бешеным, требовавшим от него любую найденную еду проглатывать сразу же. «Просто жри, – визжал голод. – Жри! Жри! Жри!» И все время он понимал: это его голод его жрет.
Послышался крик. Повернувшись, Петух Макнис увидел, как Смугляк Гардинер поскользнулся в грязи, его рисовая каша разлетелась вокруг. Он поймал обескураженный взгляд Смугляка и не отпускал его ни на секунду раньше, чем хотелось, потом, опустив глаза, смотрел на то место, где в бурой грязи проливной дождь уже размывал рисовую кашицу в блестящее серое пятно.
Петух Макнис отвернулся и, стоя к Смугляку спиной, сожрал остаток своей кашицы. На это ушло несколько секунд. «Считай, и не ел ничего, – подумал он. – Мужику на завтрак вдесятеро больше еды требуется».
– Грязные желтые свиньи всех нас уморят голодом до смерти, – произнес он вслух, ни к кому не обращаясь.
Закончив, он обернулся и увидел, как Кроха Мидлтон (нелепая фигура, до того тощая, что бедра у него выпирали, точно слоновьи уши) неуклюже помогает Смугляку Гардинеру подняться на ноги. Пока Петух дочиста вылизывал свой котелок, он не сводил глаз с этого скелета, который поднял миску Смугляка, отложил в нее половину своей рисовой кашицы и сунул тому в руки.
Петух Макнис собрал свой походный набор, уложив внутрь обеденный шарик риса, и прицепил котелки к набедренной повязке. Он не видел никакого смысла в том, что оскорбленный человек помогает своему мучителю, пожертвовав тому половину своей еды. Таким людям, по его мнению, не ведомы ни стыд, ни самоуважение. С непонятной отрадой на душе, что ему нет необходимости делиться своим завтраком, он подошел к тем двоим и положил руку на запачканное грязью плечо Смугляка Гардинера.
– Помощь нужна, Гардинер?
– Все в порядке, Петух.
Заметив, что другие потянулись на утренний развод, Петух Макнис поспешил прочь, присоединяясь к неровному строю оборванцев, державших путь к западному краю лагеря. Там, перед двухкомнатной хижиной на сваях с бамбуковыми стенами и крышей из пальмовых листьев, которая служила японским инженерам управленческой конторой, располагался болотистый кусок земли, служивший плацем для разводов. Здесь проводилась утренняя тенко, здесь их пересчитывали и разбивали на рабочие бригады на день.
Добравшись до плаца, Петух Макнис смотрел на остальных, которые шли со всего лагеря: кто хромал, кого поддерживали товарищи, чтоб шел прямо, кто-то притворялся, а кто-то едва не на карачках полз. Рядом с ним оказался Джимми Бигелоу, который на чем свет стоит клял и день нынешний, и Господа.
– Очень красиво, – произнес Петух, которому по душе было озвучивать только утонченные мысли. Утонченные мысли, как он убедился, к тому же порой еще и тем полезны, что отбивают охоту к общению у людей вроде тех, что сейчас стояли рядом. Заключенные старались держаться одной кучкой с теми, с кем обитали в одной палатке. В самых лучших случаях (а этот был каким угодно, только не таким) такое товарищество особой пользы Петуху Макнису не приносило, а после недавнего унижения вообще мало что значило. Когда уклониться от него было нельзя, он старался отделаться.
– Это собор природы, – сказал Петух, указывая на рощу высокого бамбука.
Джимми Бигелоу, подняв глубоко запавшие глаза к небу, видел только сплошь темное небо раннего утра с черными прорехами джунглей внизу.
– Лады, – изрек Джимми Бигелоу.
– Только посмотри, как склоняются они друг к другу, образуя величественные готические арки, – вещал Петух Макнис. – А позади них тиковые деревья обозначают эти филигранные линии, как хрустальные проемы.
Джимми Бигелоу уставился на мрачную линию деревьев. И спросил, не имел ли Петух в виду: как «Кинг-Конг». Тон у него был неуверенный.
– Убежден, что красота насыщена витаминами, – произнес Петух Макнис.
Джимми Бигелоу сказал, что, как ему кажется, так витамины находятся в витаминах.
– В красоте, я сказал, – поправил Петух Макнис.
Ни во что такое он не верил, зато слышал, как Кролик Хендрикс рассуждал о подобной чепухе. В таких возвышенных чувствах, остающихся возвышенными, даже если украдены у других, он видел свидетельство более утонченной натуры, которая отделяла его от сброда низшего порядка и гарантировала выживание.
По небу с безумной скоростью неслась темная дождевая туча. Пробивавшийся сквозь бамбук свет резко померк, ветви тиков вновь пропали в сером тумане, несколько крупных капель дождя очертя голову полетели к земле, и уже через несколько секунд ревущим потоком обрушился дождь. Джунгли слились в единое целое и невероятно гнетущее. Тяжелые струи воды падали с верхушек деревьев и отскакивали от земли сбоку от плаца, словно даже землю тошнило от дождя и она не могла дождаться, когда он кончится. Но он не кончался. Было ощущение, что дождь намеревается подчинить себе все вокруг. Он становился все сильнее – тяжелее, резче, лил с таким грохотом, что люди отчаялись даже кричать друг другу, пока ливень не стихнет хотя бы малость.
Заключенные все прибывали. Больных было – как никогда раньше. Те, кто не мог стоять, сидели или лежали вдоль громадного тикового бревна на одной стороне плаца, это место называлось Стена Плача. Сквозь пелену дождя Петух Макнис смотрел, как к плацу по грязи с трудом пробирается какой-то землекоп. Рядом с ним вышагивал другой заключенный, они держались вместе, будто направлялись на скачки. Тот, что еле передвигался, похоже, не нуждался в помощи, а шедший рядом, похоже, и не думал ее предлагать. И все же, когда в водяном мареве они сливались воедино, Петуху Макнису казалось, будто что-то их связывает.
Когда они наконец-то подобрались поближе, он понял, что это Кроха Мидлтон (он-то и передвигался еле-еле), а рядом с ним идет Смугляк Гардинер, словно ничего более естественного на свете и быть не может. Дважды он увидел, как Гардинер предлагает своему спутнику поддержку, но Мидлтон, похоже, намеревался дойти до места своими ногами.
И вид этих двоих, кого он презирал всей душой, вид искалеченного с приятелем, который, может, и способен над ним посмеяться, зато не способен его бросить, вид того, чем обладали даже самые ничтожные, но чем он, Петух Макнис (он и сам понимал!), не обладал, не имел для него никакого смысла и сразу же наполнил его самой жуткой ненавистью. Петух Макнис отвернулся, поворотился к бамбуку и вновь попытался вообразить его себе в виде готических арок, узилище свое представить собором, а сердце свое насытить красотой.
8
Пока заключенные с Дорриго Эвансом во главе собирались под проливным дождем, японцы ждали в управленческой конторе, пока ливень поутихнет, и только после этого вышли. К удивлению Дорриго Эванса, с ними был и Накамура. Обычно разводка проходила под надзором лейтенанта Фукухары. В отличие от Фукухары, которому всегда удавалось сохранять на плацу вид, как на параде, Накамура в своей офицерской форме выглядел замызганным, рубашка его была покрыта темными заплесневелыми пятнами. Он остановился, чтобы подвязать обмотку, завязка которой волочилась по грязи.
В ожидании Дорриго Эванс разминал тело, как делал когда-то на поле для регби, готовясь к поединку. Заключенных пересчитали (утомительная процедура, во время которой каждый должен был прокричать свой номер по-японски). Как командир и главный офицер-медик Дорриго Эванс доложил майору Накамуре, что за вчерашний день умерло четыре человека, еще двое – за ночь и что после этого осталось восемьсот тридцать восемь военнопленных. Из этих восьмисот тридцати восьми шестьдесят семь больны холерой и находятся в холерном карантине, еще сто семьдесят девять лежат в лазарете с очень серьезными болезнями. Еще сто шестьдесят семь заключенных слишком больны, чтобы выполнять какую-либо работу, помимо необременительных дежурных обязанностей. Он указал на заключенных, прислонившихся к бревну, и заявил, что там собралось еще шестьдесят два человека в дополнение к тем, что сегодня числятся больными.
– Таким образом, для работы на железной дороге остается триста шестьдесят три человека, – закончил доклад Дорриго Эванс.
Фукухара перевел.
– Го хяку, – произнес Накамура.
– Майор Накамура говорить, у него должно быть пятьсот заключенных, – перевел Фукухара.
– У нас нет пятисот годных человек, – сказал Дорриго Эванс. – Нас косит холера. Она…
– Австралийцы должны мыться, как японский солдат. Горячая баня каждый день, – отчеканил Фукухара. – Быть чистый. Тогда никакой холера.
Никаких бань не было. Не было времени нагреть воды, даже если бы у них и были бани. Слова Фукухары поразили Эванса своим самым мучительным издевательством.
– Го хяку! – взорвался Накамура.
Этого Дорриго Эванс не ожидал. На минувшей неделе требовалось четыреста человек, и после театрального представления, которое они с майором разыгрывали, обычно сходились примерно на трехстах восьмидесяти. Но каждый день становилось все больше умерших и больных и меньше способных работать. А теперь еще и холера. Однако главный медик стоял на том же, с чего начал, и повторил: к работе пригодны триста шестьдесят три человека.
– Майор говорить, предоставьте больше кого из лазарета, – сказал Фукухара.
– Там лежат больные, – сказал Дорриго Эванс. – Если их поставят на работу, они умрут.
– Го хяку, – произнес Накамура, не дожидаясь перевода.
– Триста шестьдесят три человека, – сказал Дорриго Эванс.
– Го хяку!
– Триста восемьдесят, – сказал Дорриго Эванс, надеясь, что они смогут поладить на этом.
– Сан хачи, – перевел Фукухара.
– Ён хяку кюй йю го, – произнес Накамура.
– Четыреста девяносто пять, – перевел Фукухара.
Легко поладить, видно, не удастся.
Торговля продолжалась. Через десять с лишним минут препирательств Дорриго Эванс решил, что если уж и придется отбирать для работы больных, то это должно определяться его познаниями в медицине, а не безумными требованиями Накамуры. Он предложил четыреста человек, еще раз повторив число больных, подробно перечислив бездну их хворей. Однако в душе Дорриго Эванс понимал, что его медицинские познания – никакой не довод и никакой не щит. Полковник чувствовал себя ужасно беспомощным, а тут еще и голод подтачивает силы изнутри, и он старался не думать про стейк, от которого так бесшабашно отказался.
– Но ведь если мы выставим больше четырехсот, – убеждал он, – то ничего не добьемся для императора. Умрут люди, от которых было бы куда больше пользы, стоило бы им поправиться. Четыреста – это самое большее, что мы можем предоставить.
Фукухара еще не успел перевести, а Накамура уже орал капралу. Из конторы быстренько принесли стул из гнутого дерева. Взобравшись на него, Накамура обратился к заключенным по-японски. Речь его была краткой, закончив ее, он сошел со стула, на который забрался Фукухара.
– Майор Накамура имеет удовольствие руководить вами на строительстве железной дороги, – начал лейтенант. – Он сожалеть, обнаружив серьезные просчеты в делах здоровья. По его мнению, это из-за отсутствия японской убежденности: здоровье следует за волей! В японской армии тех, кто не способен исполнить задание из-за отсутствия здоровья, считают самыми постыдными. Преданность до смерти – хорошо.
Фукухара слез со стула, и майор Накамура снова взобрался на него и снова заговорил. На этот раз, закончив речь, он не спустился, а остался стоять на стуле, оглядывая сверху вниз ряды заключенных.
– Надо понимать японский дух! – орал Фукухара снизу, его бакланья шея ходила буграми, будто он изрыгает слова. – Япония работать готов, майор Накамура говорить, австралии должны работать. Япония кушать меньше, австралии кушать меньше. Япония очень сожалеть, майор Накамура говорить. Много люди должны умирать.
Накамура слез со стула.
– Убожество, – шепнул Баранья Голова Мортон Джимми Бигелоу.
Что-то упало. Никто не двинулся. Никто не проронил ни слова.
В переднем ряду упал какой-то заключенный. Накамура пошагал вдоль ряда заключенных, пока не дошел до упавшего.
– Курра![55] – заорал Накамура.
Когда ни этот, ни повторный крик ни к чему не привели, японский майор пнул упавшего ногой в живот. Узник, шатаясь, поднялся на ноги и тут же свалился опять. Накамура с силой ударил во второй раз. Опять узник привстал на ноги и опять упал. Его громадные желчные глаза выпирали из орбит, как грязные шары для гольфа: нездешние, затерянные, из иного мира – и сколько бы Никамура ни орал, сколько бы ни бил ногой, узник оставался недвижим. Сильная впалость щек на изможденном лице создавала видимость, будто у него непропорционально большая челюсть. От этого все лицо походило на рыло дикой свиньи. «Недоедание», – подумал Дорриго Эванс, который пошел вслед за Накамурой, а теперь опустился на колени между ним и узником. Тот лежал в грязи, не двигаясь. Тело его, похожее на вешалку для тряпья, было сплошь покрыто болячками, язвами и шелушащейся кожей. «Пеллагра, бери-бери и бог знает что еще», – соображал Дорриго. Ягодицы узника размером немногим превосходили потертые канаты, из которых каким-то узлом грязной веревки торчал задний проход. Вонючая грязно-зеленая слизь сочилась, стекая по его худым, как спички, ногам. Амебная дизентерия. Дорриго Эванс сгреб этот изгаженный куль, бывший человеком, на руки и, вновь встав на ноги, повернулся к Накамуре. Больной свисал с его рук, как вымазанная в грязи вязанка поломанных палок.
– Триста девяносто девять человек, – сказал Эванс.
Накамура был высок для японского солдата, что-то около пяти футов и десяти дюймов[56], и крепко сложен. Фукухара начал переводить, но Накамура поднял руку и остановил его. Потом, повернувшись к Дорриго Эвансу, наотмашь ударил того тыльной стороной ладони по лицу.
– Этот человек слишком болен, чтобы работать на Японию, майор.
Накамура снова ударил его. И пока Накамура продолжал осыпать Дорриго Эванса оплеухами, тот напрягал все силы, чтобы не уронить недужного. При шести футах и трех дюймах[57] росту Дорриго Эванс был высок для австралийца. Разница в росте поначалу помогала ему уклоняться от ударов, но мало-помалу те свое взяли. Он всеми силами старался распределять вес поровну на обе ноги при каждом следующем ударе, держать равновесие, не обращать внимания ни на какую боль, как будто шла какая-то игра. Однако это не было игрой, это было чем угодно, но только не игрой, и он это тоже понимал. И по тому, как он воспринимал это, наказание он получал по праву.
Потому как он солгал.
Потому как число триста шестьдесят три не было правдой. И триста девяносто девять – тоже не было. Потому как, считал Дорриго Эванс, правдивым числом был ноль. Ни один заключенный не годился для того, что требовалось японцам. Все в той или иной мере страдали от голода и болезней. Ради них он пускался в игры, как всегда пускался в игры, потому что это было лучшее, на что был он способен. И Дорриго Эванс понимал: есть еще число, иное, чем ноль, которое тоже правдиво, и именно с этим числом ему предстоит теперь дополнительно включить в свои расчеты тех, у кого меньше шансов умереть, прибавив их к нынешним тремстам шестидесяти двум наименее больным. И эта чудовищная арифметика сваливалась на него каждый день.
Он уже начинал задыхаться. Пока Накамура продолжал осыпать его ударами, он сосредоточенно рылся в памяти, вновь перебирая всех положенных в лазарет, поправляющихся, занятых исполнением легких обязанностей. Накамура бьет его по этой щеке, потом по другой, а он снова считает, сколько в лазарете больных… наверное, человек сорок… кого при надлежащем уходе можно было бы перевести на легкий труд (пока он будет оставаться очень легким), и тогда примерно такое же количество самых крепких легкотрудников можно было бы включить в рабочие бригады. В общем, получалось четыреста шесть. «Да, – подумал он, – это самое большее, сколько можно набрать: четыреста шесть человек». И все же он понимал, пока Накамура все хлестал и хлестал его по лицу, что сегодня этого не хватит. Придется выдать Накамуре гораздо больше людей.
Майор Накамура, так же внезапно, как и начал, прекратил его лупцевать и отошел в сторону. Почесав бритую голову, майор поднял взгляд на австралийца. И впился в него глазами, вглядываясь в самую глубь зрачков, австралиец ответил ему тем же, и в таком обмене взглядами оба выразили то, чего не было в переводе Фукухары. Накамура дал понять, что во что бы то ни стало настоит на своем, а Дорриго Эванс в ответ напомнил, что они лица равные и он не уступит. И только после того, как молчаливая перепалка наконец завершилась, вновь возобновился торг на этом базаре жизни и смерти.
Накамура назвал число: четыреста тридцать человек – и уперся. Эванс бушевал, держался твердо, опять немного побушевал. Но Накамура уже стал неистово расчесывать себе локоть и теперь говорил с натугой.
– Это повелевает император, – перевел Фукухара.
– Я понимаю, – сказал Дорриго Эванс.
Фукухара промолчал.
– Четыреста двадцать девять, – сказал Дорриго Эванс и отдал поклон.
Итак, сделка на этот день была заключена, началось дело этого дня. Дорриго Эванс тут же попробовал сообразить, выиграл он или проиграл. Игру он вел, стараясь изо всех сил, и каждый день проигрывал немного больше, а счет в проигрыше шел на жизни.
Он прошел к Стене Плача, положил недужного у бревна рядом с остальными больными и уже направился было в лазарет отбирать годных для работ, как вдруг почувствовал: что-то он потерял или не туда положил.
И повернулся кругом.
Дождь, пеленой накрывавший бревна, шпалы, упавший бамбук, железнодорожные рельсы и сколько угодно всяких неодушевленных предметов, теперь точно так же змеей опутывал труп Крохи Мидлтона. Дождь лил всегда.
9
– Твоя, а? – спросил на складе Баранья Голова Мортон, кивая Смугляку Гардинеру на кувалду, когда заключенные разбирали свои орудия. У него были громадные ручищи, точно тиски, и голова, о которой он сам говорил, что она еще ухабистей, чем дорога сиднейского пригорода Роузбери. Имечко ему досталось не по виду, а по детству, проведенному в Квинстауне, отдаленном городке при меднорудных шахтах на западном побережье Тасмании, на земле, равными долями составленной из тропических лесов и мифов, где в былые времена семейство его было до того бедным, что могло позволить себе питаться лишь бараньими головами. Его ласковость в трезвом виде могла соперничать лишь с его неистовством, когда он бывал пьян. Драться он любил, и стоило ему напиться, как он принимался задирать всех возвращавшихся из отпуска в Каире землекопов, сколько их помещалось в автобусе. Когда ему сказано было молчать в тряпочку и сидеть смирно, он обернулся к Джимми Бигелоу, презрительно тряхнул головой и уложил всю бездну своего отвращения всего в восемь слов, не считая обращения: «Из мышей ни за что не получится крыс, Джимми».
– Крохина, – ответил Смугляк Гардинер.
Кроха когда-то пометил лучший молот в лагерной коллекции, вырезав наверху рукояти «К», чтобы он или Смугляк узнавали инструмент каждое утро.
– Это лучшая колотушка, – сказал Баранья Голова Мортон, знавший толк в таких делах. – Ручка малость расщеплена, зато долбило на добрый фунт тяжелее.
И пока у Крохи оставалась сила, а они работали, как при сдельщине, инструмент так и оставался лучшей кувалдой. Благодаря ее тяжести каждый удар имел добавочную силу, она вгоняла пробойник крепче и глубже, что помогало Крохе со Смугляком выполнять норму раньше. Просто надо было быть таким здоровяком и силачом, как Кроха, чтобы знай себе поднимать кувалду да аккуратно ее опускать.
– Он думал, что она помогает, – сказал Баранья Голова Мортон, дожидаясь, пока Смугляк Гардинер возьмет молот.
Впрочем, теперь всем им ясно: не то важно, чтобы сделать работу, а то, чтобы выжить и в этот день. Смугляк Гардинер слишком слаб, чтоб час за часом махать тяжелым молотом, да еще и каждый раз удерживать его, чтоб падал аккуратно и бил по железному пробойнику точно и чисто – удар за ударом. Теперь он подыскивал молот полегче, молот из бесполезных и бочком-бочком спешил прочь, старался и себя не ударить, и того, кто держит пробойник, старался сохранить силу, чтоб хватило на следующий удар, старался еще один день пережить.
– Помогла ему в могилу сойти, – буркнул Смугляк, подбирая себе легкую кувалду с болтающейся головкой.
Им всем теперь хотелось возиться со всем, что полегче: с тем, что полегче поднять, полегче и еще один денек выжить. «Долбило можно будет бамбуком подкрепить, – подумал Смугляк. – День кончится, все чуточку меньше намаешься». Он уравновесил молот на ключице, подыскивая самое удобное положение, чтоб таскать такую тяжесть. Он едва не радовался, чувствуя, как легок кажется на плече молот, и радовался бы, если б голова не наливалась неведомой прежде тяжестью.
По рядам заключенных легким ветерком прошла волна голосов и стихла. Ведь и правда – что тут скажешь? Ряды смешались, заключенные тронулись в путь по Узкоколейке на ту Дорогу. Два японских охранника шли впереди, еще несколько сзади, а между ними, вытянувшись в цепочку по одному, плелись заключенные. Впереди шли наименее больные, за ними люди с семью носилками, на которых несли тех, кто был до того болен, что не мог идти пешком, но был объявлен японцами вполне годным для работы, это обязывало их добираться на ту Дорогу, где им могли хоть чем-то помочь, хотя они сами не имели права всех задерживать. За ними ковыляли находившиеся на разных стадиях немощи и дряхлости, в хвосте люди передвигались на самодельных костылях.
– Ишь, мать-е, рождественское шествие, – буркнул кто-то за спиной Смугляка Гардинера.
Сам он, не отрываясь, смотрел на ноги идущих впереди. Грязные, скелетоподобные, мышцы икр и бедер с выпирающими сухожилиями исчезали там, где должны бы находиться ягодицы.
Этот уродливый караван еще не добрался до маленькой скалы на дальнем конце лагеря, где заключенным приходилось взбираться по бамбуковой лестнице, связанной проволокой (покосившееся сооружение, которое необходимо было пробовать каждый раз заново и которому никогда нельзя было доверять), а Смугляку Гардинеру уже хотелось улечься и уснуть навсегда. Над лестницей было несколько вырытых в земле углублений, чтоб можно было поставить ногу, скользких от дождя и вонючего глинистого дерьма, где нагрузки раннего утра вызывали неизбежную реакцию у взбиравшихся вверх почти голых узников.
Старались они вместе, передавая по цепочке инструменты, и как-то исхитрились без неприятностей поднять наверх носилки. Совместная сила, проявившаяся в этом, позволила Смугляку почувствовать себя чуть менее усталым и чуточку более сильным, когда он оказался на вершине скалы. А сила была ему нужна, ведь в тот день он был старшим, отвечающим за бригаду из шестидесяти человек.
Утро все еще было сумрачным, и как только скала осталась позади и заключенные вошли в джунгли, мир сделался черным, и дорожка оказалась куда путаней, чем помнилось Смугляку Гардинеру. Смугляк старался изо всех сил быть хорошим бригадиром, по полной облапошивать охранников, изыскивать способы мухлевать с нормами, пользоваться любой возможностью стянуть что-то ценное, если только кража не оставит никаких следов, чтоб умерить избиения, помочь людям своей бригады выжить еще один день. Но сегодня он был не в себе. Его сильно лихорадило: денге, малярия, клещевой тиф, церебральная малярия, трудно понять, что именно его трясло, да и не важно это было, главным для себя он считал сосредоточиться на помощи своим людям. Он взял тяжелый моток мокрой конопляной веревки у молодого Другана Фахи, у которого голень была одной сплошной язвой. Друган воспользовался свидетельством о рождении брата, чтобы попасть в армию, он уже три года прослужил, а ему еще восемнадцати не было. Смугляк навидался мальчиков вроде Другана, которые ломались, как спички, едва жизнь брала их в жесткий оборот. Он вскинул моток троса на левое плечо, уравновешивая лежащую на правом плече кувалду.
Пока они шли по тропе, Смугляк тратил все силы на то, чтобы разобраться в лежащей впереди дороге, заставлял свое измученное тело ставить стопу или всю ногу не так, а вот так, и самому не пораниться. Он все время оказывался проворным. Даже когда казалось, что вот-вот упадет, он и в ослабленном состоянии сохранял способность выправиться. В нем, в его бедрах и голенях, все еще доставало сил, чтобы совершать легкие прыжки и повороты, обходя одно препятствие и используя другое (камень, бревно), чтобы обойти какую-нибудь высасывающую силы лужу или кучу поваленного колючего бамбука.
И опять он старался убедить себя, какой выдался хороший день и как ему повезло, что он еще в силе, что помогает ее же и сохранять. Ведь Смугляк Гардинер понимал: слабость порождает лишь еще большую слабость, каждый раз, когда, стоя на цыпочках, он сохранял равновесие на одном кусочке известняка, важно было сосредоточиться на том, чтобы верно сделать еще один шаг на еще один кусок известняка или осклизлое полено, и при этом не упасть и не пораниться, и, возможно, опять суметь сделать то же самое завтра и в любой день потом. Но он не верил, как верил Кроха Мидлтон, что его тело его спасет. Ему не хотелось кончить тем, чтобы, раздирая ногтями грудь, орать: «Меня!» Смугляк Гардинер мало во что верил. Он не верил в свою исключительность или в то, что ему что-то там предначертано судьбой. В душе он считал все подобные верования полной чушью, понимал, что смерть может настичь его в любой момент, как настигает она сейчас многих других. Жизнь – она не про идеи. Жизнь – она чуток про удачу. Больше же всего это – подтасованная колода. Жизнь – она только про то, чтобы верно сделать следующий шаг.
Заключенные услышали ругательство, и их вытянувшаяся гуськом колонна встала. Посмотрев вверх и назад, они увидели, что Смугляк Гардинер попал ботинком в расщелину известняка. Извиваясь взад-вперед, Смугляк наконец-то высвободил ногу. Раздался смех. Верх ботинка остался у Смугляка на ноге, зато подметка целиком отвалилась, самодельная прошивка порвалась, и подошва осталась торчать в расщелине скалы.
Смугляк потянулся и рывком выхватил подошву, та порвалась надвое. Он выбросил половинки, плечи его поникли, может, он и выругался, а может, и нет. Узники чересчур ушли в собственные беды и трудности, чтобы обращать внимание на чужие, все они попросту опять пошли своей дорогой. И он тоже заковылял вперед, содрогаясь всякий раз, когда остатки ботинка бились о его колено. Потом заорал от боли, дернув ногой, упал и больше встать уже не смог.
– Похоже, капец ему, – сказал Друган Фахи.
– Это башмаку его копец, – уточнил Баранья Голова Мортон.
– Один хер, – сказал Друган Фахи.
Протянуть долго без сапог или ботинок надо было постараться. Без сапог или ботинок делом нескольких дней, а то и часов было порезаться или пораниться о колючки бамбука, камни, бесчисленные острые осколки скал, которые устилали основание просеки. Случалось, нескольких часов хватало, чтоб началось заражение, которое в считаные дни делалось гнойным, а за неделю обращалось в тропическую язву: из тех язв, что стольких многих довели до смерти. Некоторым из тех, кто провел жизнь в буше, это, казалось, особого вреда не причиняло, вполне себе выживали, а некоторые даже предпочитали ходить босиком. Вот только Смугляк Гардинер не был скотоводом из Западной Австралии, как Бык Герберт, или темнокожим, как Ронни Оуэн. Он был портовым грузчиком из Хобарта, и ступни его ног были нежны и уязвимы.
Колонна остановилась в ожидании, радуясь отдыху. Смугляк Гардинер забивал себе мозги каким-то пирогом, который когда-то ел: песочное тесто с начинкой из мяса и почек с кисло-сладкой приправой из овощей и фруктов – чем угодно, лишь бы его унесло подальше от джунглей. Рот его полнился слюной: приправа была из абрикосов, да еще и с наперченным соусом. Но он никак не мог избавиться от одышки.
– Братан? – подошел Баранья Голова Мортон.
– Ага, братан, – отозвался Смугляк.
– Лучшает, братан?
– А то, братан.
– Надо, чтоб совсем получшело, братан.
– Ага, братан, – согласился Смугляк Гардинер.
Тяжело дыша и отдуваясь еще добрых полминуты, стараясь выровнять дыхание, он следил за обезьяной. Та сидела, сгорбившись, на низкой ветке в нескольких шагах у дороги, дрожала, шерсть ее промокла насквозь.
– Глянь-ка на нее, дрючь-е, мартышуху несчастную, – выговорил наконец Смугляк Гардинер.
– Дурак ты, она ж на свободе, – вздохнул Баранья Голова Мортон, расправляя своими пальцами-сардельками собственные мокрые волосы и снова нахлобучивая фетровую шляпу. – Я, как окажусь на свободе, как вернусь в родной Квинстаун, так пущусь в загул до усрачки, пока вусмерть не упьюсь.
– Ага, братан.
– Был когда-нибудь в Куини, братан?
Дождь все шел и шел. Некоторое время оба молчали. Смугляк Гардинер прохрипел:
– Не-а, братан.
– Там такой холм есть большой, – заговорил Баранья Голова Мортон. – Гора на самом-то деле, так на одной ее стороне Куини, а на другой Горманстон. Посреди ничего. Два шахтных городка. Когда-то тропические леса были. Шахты пропасть всего поубивали. Ни перышка папоротника не осталось, чтоб задницу подтереть. Такого нигде на свете больше нет. Вид такой, будто на, мать-е, луне. Вечером в субботу можно нажраться, перебраться через гору, в Горми подраться, а потом вернуться домой в Куини. Ну, где еще на свете так погулять можно?
10
Пока ждали, говорили еще мало: говорить-то, если честно, было уже почти не о чем. Каждый старался отдохнуть, по возможности дать телу передышку до того, как навалится работа, для которой не осталось ни сил, ни духа, способного сделать эту каторгу терпимой. Баранья Голова Мортон закурил самокрутку из какого-то местного табака и странички устава японской армии, глубоко затянулся и передал ее по кругу.
– Что курим?
– «Кама сутру».
– Это ж китайщина[58].
– И что?
– Как у него нога? – спросил кто-то сзади.
– Ничего хорошего, – ответил Баранья Голова, поднимая ногу Смугляка и стряхивая с нее комки грязи. Он поводил ногой у лица, будто та была каким-то навигационным прибором, по которому он определял направление. – У него перепонка между большим и указательным пальцами разорвана. Херово вообще-то.
Кто-то предположил, что вечером, когда они вернутся в лагерь, можно будет посадить верх его башмака на новую подошву.
– Здорово было бы, – подал голос Смугляк Гардинер. – У кого ботинок еще остался, а? – Никто не отозвался. – Всего-то и надо, что раздобыть новую подметку – и я опять в строю.
– На то и надейся, Смугляк, – сказал Друган Фахи.
Все знали, что в лагере нет никакой стоящей кожи или резины, которую можно было бы присобачить в качестве подошвы и которая выдержала хотя бы переход к той Дороге и даже куда меньше – рабочий день.
– Что-то доброе всегда получится, если думать об этом, – сказал Смугляк Гардинер.
– Эт-точно, Смугляк, – кивнул Баранья Голова Мортон, открывая свой походный котелок, деля пополам свой обеденный рисовый шарик и отправляя одну половинку в рот.
Ждать больше было нечего. Ничего нельзя было поделать, и вскоре пришлось снова начать движение. Лежа на земле, Смугляк Гардинер чувствовал, как сильно врезается ему в бок оловянный котелок, напоминая о том, как он голоден и что там, в маленькой оловянной коробочке, есть рис размером в шарик для гольфа, который он мог бы сейчас съесть. Пусть грязная после его падения, но все равно – еда. А там, в лагере, у него есть еще и сгущенка, которую он решил вечером и выпить. И это тоже было хорошо.
Усилием воли заставил себя сесть. Столько хорошего, если разобраться, подумал Смугляк Гардинер. Если б только не эта боль в ноге, если бы голова не раскалывалась, если бы не так одолевал голод, причем тем больше, чем больше он думал, чего бы такого съесть, можно бы считать, взвесив все, что лучше и быть не могло.
Было слышно, как глотает что-то идущий рядом Баранья Голова Мортон. Кое-кто последовал его примеру. Некоторые отщипнули всего по нескольку рисовых зернышек от своих шариков, некоторые проглотили весь шарик целиком.
– Сколько времени? – спросил Смугляк Гардинер у Шкентеля Бранкусси, которому как-то удавалось сохранять часы.
– Семь пятьдесят утра, – сообщил Шкентель.
Если съесть рисовый шарик сейчас, подумал Смугляк, на следующие двенадцать часов поесть ничего не останется. Если же приберечь, предстоит ждать пять часов до короткого перерыва на обед… пять часов, когда он по крайней мере мог бы тешить себя надеждой на предстоящий перекус. А если он съест его сейчас, не останется ни чем перекусить, ни надежды.
В нем как будто сидело два существа, одно взывало к разуму, осторожности, надежде (ведь что значит делить на части, когда делить нечего, как не действия человека, который надеется выжить?), а другое целиком отдавалось желаниям и отчаянию. Ведь если он прождет до обеда, разве не придется потом еще семь часов обходиться без еды? И какая, скажите, разница, не есть двенадцать часов или семь? Какая, в конце концов, разница между голоданием и голодом? А если он поест сейчас, не окажется ли у него больше шансов пережить этот день, избежать ударов охранников, сохранить силу, чтоб не споткнуться или не нанести неточный удар, который может привести к ранению, возможно, угрожающему жизни?
И сейчас демон желания был силен в Смугляке Гардинере, рука его уже потянулась сорвать котелок с крючка на крестообразной обмотке, когда Баранья Голова Мортон рывком поднял его на ноги. Остальные тоже встали, Шкентель Бранкусси взял кувалду, которую Смугляк нес на плече, не только из какого бы то ни было сочувствия, а потому, что в этом, как и во многом другом, они успели стать неведомым животным, единым организмом, который так или иначе выживал целиком. И Смугляк Гардинер разом разъярился, что его так грубо лишили его же еды, и успокоился, что теперь сохранит свой рисовый шарик до обеда. В таком странном настроении ярости и успокоения он снова потащился со всеми вместе.
Потом Смугляк Гардинер упал во второй раз.
– Дайте передохнуть, ребят, – сказал он, когда к нему подошли, чтобы поднять на ноги.
Остановились. Кто-то положил инструменты на землю, кто-то опустился на корточки, кто-то сел.
– Знаете, – говорил Смугляк, лежа в мокрой темени джунглей, – все время думаю про ту несчастную чертову рыбу.
– Смугляк, ты сейчас про что? – спросил Баранья Голова Мортон.
А он про рыбный магазин «Никитарис». В Хобарте. Как он, бывало, в субботу водил туда свою Эди перекусить после того, как посмотрели киношку.
– Барракуда с картошкой, – говорил он. – Акулье мясо хорошо, но у барракуты – слаще. Там такой громадный бак, полный плавающей рыбы. Не золотые рыбки – настоящая рыба, кефаль, лососи, плоские всякие, рыба, как та, что мы ели. Мы смотрели на них, – продолжал Смугляк, – и даже тогда Эди думала, как должно быть рыбам плохо: вытащили их из моря, сунули в этот чертов жуткий рыбный бак, жди, когда зажарят.
– Он всю дорогу про рыбный магазин «Никитарис», – пояснил Шкентель Бранкусси.
– Я ведь никогда об этом не думал как об их тюрьме, – говорил Смугляк Гардинер. – Их лагере. А сейчас мне больно и тошно делается, как подумаю про ту несчастную чертову рыбу в баке «Никитариса».
Баранья Голова Мортон сказал ему, что он пирог из картошки без пакета[59].
Смугляк Гардинер велел им идти дальше, не то их застукает Варан. А сам, мол, пойдет своей дорогой по собственному своему расписанию.
Никто не сдвинулся с места.
– Мужики, идите дальше, – сказал он.
Никто не сдвинулся с места.
Он уверял, что полежит еще несколько минут и подумает о грудях Эди, какие они превосходные, что ему нужно немного времени, чтобы побыть с ними одному.
Они отвечали, что не оставят его.
Он напомнил, что он лицо младшего командного состава, и велел им приступить к движению. И вдруг заорал:
– Марш! Это приказ, вашу мать. Марш!
– Вашу мать приказ? – спросил Баранья Голова Мортон. – Или просто приказ?
– Ага, смешно, – печально выговорил Смугляк Гардинер. – Смешно, как когда Петух Макнис «Майн кампф» наизусть шпарит. Идите дальше. Угребывайте.
Узники встали на ноги, если сидели, или выпрямились, если стояли, и медленно снова пришли в движение. Смугляк почти сразу же пропал из виду и из головы тоже. Тропа становилась все грязнее и коварнее, она шла по скользким щелям в крошащемся известняке как раз там, куда могла попасть нога, и зачастую от этого можно было здорово пораниться. Очень скоро колонна сильно растянулась: место заключенного в ней более или менее определялось его болезнью. Впереди шла маленькая группа, не больше дюжины человек, все еще каким-то чудом здоровых и годных к работе, на другом конце тащились те, кто то и дело падал да спотыкался, порой полз на четвереньках, а между впередиидущими и замыкающими держались те, кто теперь по очереди нес носилки с больными. Да, были еще и такие, кто, будучи еще в силах, оставались со своими товарищами, помогая, поддерживая, не позволяя сдаваться ни им, ни себе.
Так и продвигалась их беспомощная колонна, одолевая путь по узкому коридору, проделанному ими между громадных тиковых деревьев и колючего бамбука джунглей, слишком густых, чтобы дать возможность двигаться любым другим способом. Они все тащились и падали, все спотыкались и поскальзывались, обливались потом, думая о еде или ни о чем не думая, все карабкались, обсирались и надеялись, уходя все дальше и дальше в день, который еще даже не начался.
11
Первый круг Дантова ада, говорил себе Дорриго Эванс, выходя из язвенного барака и направляясь через ручей вниз по склону холма продолжать утренний обход холерного карантина, заброшенного скопища укрытий без стен с крышами из расползающегося брезента. Здесь, в изоляции, лежали все, больные холерой. И здесь больше всего умирали. Множеству их бедствий он давал классические названия. Тропе к той Дороге дал прозвище Виа Долороза[60], которое заключенные, в свою очередь, подхватили и переделали в Долли Роза, а потом и просто в Долли. Идя по дороге, он как ребенок пропахивал босой ногой грязь, склонял голову как ребенок, его как ребенка не интересовало, ни куда он направляется, ни что может случиться в следующую минуту, а интересовало только, как оставленная его ногой борозда миг спустя исчезает.
Только он не ребенок. Вздернул голову и зашагал, выпрямив спину. От него должны исходить целеустремленность и уверенность, даже если их и в помине нет. Некоторые спасены, да, думал он про себя, видимо, пытаясь убедить самого себя, что он нечто большее, чем плохой актер. «Кого-то мы спасли. Да, да, – думал он. – А тем, что холерные содержатся в изоляторе, мы спасаем остальных. Да! Да! Да! Или кого-то из остальных. Все это относительно». Он мог бы считать себя королем, подумалось ему – вот только не посчитает и думать об этом нечего, потому как его удел север, норд-норд-вест и никакого тебе зюйда, только тем и были заняты его мысли, чепухой слов, даже мысли не были его собственными, соколы с душою цапли. Если по правде, он уже не знал, о чем думать, он жил в несказанном дурдоме, где не осталось места для разума или мысли. Оставалось только изображать деятельность.
На границе холерного изолятора, переступать которую дозволялось только подхватившим ужасную болезнь и тем, кто за ними ухаживает, он встретил Бонокса Бейкера, который добровольно вызвался быть санитаром. Тот сообщил, что еще два санитара сами слегли с холерой. По доброй воле стать санитаром, по сути, значило вынести себе смертный приговор. Дорриго, положим, принимал риск, которому подвергался на своем поприще врача, однако он никогда не мог понять, с чего такую участь избирали те, кто мог бы ее избежать.
– Вы сколько времени тут, капрал?
– Три недели, полковник.
Подростковое тело Бонокса Бейкера тянулось вверх из двух нелепо, не по ноге огромных и обтрепанных башмаков. Они достались ему, когда он работал в японской бригаде на сингапурских верфях, вместе с ящиком банок сухого мясного порошка «Бонокс», которые исчезли в один день, оставив ему новое имя на всю оставшуюся жизнь. В то время как остальные старели на десятки лет: шестнадцатилетние становились семидесятилетними, – Бонокс Бейкер продвигался в противоположном направлении. Ему было двадцать семь, а выглядел он на девятнадцать.
Бонокс Бейкер приписывал свое омоложение провалу Японии в войне. Никому другому в лагере военнопленных в чаще сиамских джунглей это не казалось очевидным, зато для Бонокса Бейкера провал разумелся само собой. Войну он воспринимал как чудовищную кампанию под началом Германии и Японии, направленную лично против него с одной-единственной целью – убить его, а потому, покуда он оставался в живых, он побеждал. Лагерь военнопленных был всего лишь несущественной странностью. Бонокс Бейкер всегда вызывал у Дорриго Эванса определенное любопытство.
– С тех пор, как началась холера, Бонокс? – спросил он.
– Так точно, сэр.
Они пошли к первому укрытию, куда помещали тех, кто заболел совсем недавно. Немногим удавалось перебраться во вторую палатку, где выжившие изо всех сил старались выздороветь. Многие в первом укрытии умирали через несколько часов. У Эванса это место всегда вызывало самое жуткое отчаяние, но здесь же было и место его настоящей работы. Он повернулся к Боноксу Бейкеру.
– Можете возвращаться, Бонокс.
Бонокс Бейкер в ответ промолчал.
– Обратно в основной лагерь. Вы, что вам полагалось, сделали. Больше, чем полагалось.
– Я лучше останусь.
Бонокс Бейкер остановился у входа в палатку, а с ним и Дорриго Эванс.
– Сэр.
Дорриго Эванс заметил, что капрал поднял голову и в первый раз смотрит ему прямо в лицо.
– Лучше я тут.
– Почему, Бонокс?
– Кто-то же должен.
Он поднял расползающийся брезентовый полог, и Дорриго Эванс последовал за ним через вздувшуюся ноздрю палатки в вонь, где настолько сильно благоухало килечной пастой и дерьмом, что у вошедших начинало гореть во рту. Тусклый красный огонек керосиновой лампы, как казалось Дорриго Эвансу, заставлял черную тьму скакать и извиваться в странном призрачном танце, словно холерный вибрион был существом, внутри которого они жили и двигались. В дальнем углу какой-то уж особенно изможденный скелет сел и улыбнулся:
– Я отправляюсь обратно к себе в Малли[61], ребята.
Улыбка у него была широкой и мягкой и делала еще более уродливым его обезьянье личико.
– Пора проведать моих стариков, – продолжал парень из Малли, размахивая руками не толще цветочных стебельков, с пышным цветком язвы на месте рта. – Едрена вошь! То-то смеху и слез будет, как они увидят, что их Ленни домой вернулся!
– Этот малыш поначалу чуть не буйным был, а кончил почти дебилом, – сообщил Бонокс Бейкер Дорриго Эвансу.