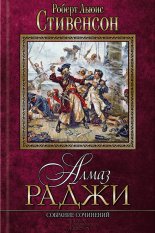Мoя нечестивая жизнь Мэннинг Кейт

Для меня и Чарли это были тяжкие дни. До истинных своих врагов я дотянуться не могла, а потому всю ярость и злость оставалось изливать либо на себя, либо на Чарли. Выбор пал на Чарли.
– Ты говорил, меня не арестуют! Твердил про штраф, про предупреждение!
– Боже! – простонал муж. – Ну сколько можно! Это же я не сам выдумал!
Он сидел рядом со мной на моем жалком ложе и жевал хлеб с сыром. А во мне бушевала не только злость, компанию ей составляла ревность. Он-то свободен. И денег у него полно. И фантазий всяких. А что, если… Мы словно вернулись в прошлое – пререкались и грызлись, как в старые времена, когда у нас не было ни денег, ни «французских писем», ни красавицы-дочери.
– Отмени всю рекламу! – снова велела я.
– Зачем? Мы сразу лишимся половины доходов.
– Так тебя только доходы волнуют?
– Сама знаешь, что нет. Не только. – Он похлопал по карманам и извлек исписанный листок: – Вот, посмотри, что я написал. Новое письмо от тебя.
Милостивые государи, представляющие прессу!
Женщины умирают каждый день при обычных родах, их с позором выкидывают на улицу без гроша в кармане, а ведь они ЖЕРТВЫ жестокого обращения мужчин: разврата, порочности и изнасилований.
Более того, если мужчины за свои проступки не несут никакой кары, то женщин отрывают от семьи и кидают в тюрьму по одному лишь подозрению, обвиняя их в том, что они пытались помочь отчаявшимся.
Искренне ваша,
Мадам Ж. Э. Де Босак
– Я не стану подписывать.
– Почему?
– Они разозлятся еще больше. А я хочу домой.
– Защищайся, миссис Джонс! Это же твои собственные слова.
– Но написал их ты, Чарли. Ты во всем виноват. Ты используешь меня, чтобы досадить своим давним недругам из «Гералд», чтобы покрасоваться перед своими учеными друзьями.
– В письме только то, что ты сама мне повторяла не один раз, Мадам Де Босак.
– Правда? Я больше не хочу быть Мадам Де Босак! – выпалила я и почувствовала, что поступаю верно. Мадам со своими французскими подходами, кровавой коммерцией, изгаженными простынями, заплаканными носовыми платками тянула меня на дно. – Я увольняюсь.
– Ты всерьез?
– Да. Куда уж серьезнее. У меня больше нет сил.
– Никогда бы не подумал, что услышу от тебя такое, – тихо проговорил Чарли.
Похоже, мои слова и вправду потрясли его. Я вдруг заметила, что одежда на нем мятая, несвежая, в черных волосах поблескивает седина, а под глазами залегли темные тени.
– Может, ты и права. По крайней мере, от одной стороны нашего дела следует отказаться.
– От какой?
– От самой сомнительной.
– Вот как? Сомнительной, значит. Вот как ты это называешь.
– Я-то так не называю. Закон называет.
– Закон – это куча конского навоза!
– Знаешь, тебе следует переключиться на обычную акушерскую практику. – Чарли оживился: – Послушай, миссис Джонс. Когда ты выйдешь на свободу, заделаешься счастливой акушеркой, которая принимает здоровых детишек, распространяет медикаменты и проводит кое-какие процедуры, но ничего, связанного с преждевременными родами…
– Ты еще будешь мне указывать! Только я определяю, чем мне заниматься!
– Ты меня совсем с толку сбила. Сама ведь только что сказала, что решила закончить. Тебя не поймешь. Сворачиваешь ты лавочку или нет? Я же умываю руки. Больше не могу.
– Ты не можешь?! И чего ты не можешь?
– Быть мужем при жене в тюрьме, отцом, чья дочь плачет ночами, человеком, чей дом приходит в упадок из-за нерадивых слуг.
– Ох, мое сердце просто кровью обливается!
– Наша дочь перед сном зовет маму. Лежит в постели, прижав к себе твою подушку. От нее пахнет сиренью, как от тебя, и…
– Хватит! – выкрикнула я. – Зачем ты меня терзаешь! Думаешь, я ее забыла? Да минуты не проходит, чтобы я о ней не вспомнила.
Мы зло смотрели друг на друга.
– Экси, если ты снова попадешься, когда выйдешь отсюда и займешься прежним, тебе уже не удастся избежать долгого срока, и я…
– Что – ты?
– И я тебя тогда не прощу. По-твоему, я в восторге, что жена в тюрьме?
– Да! По-моему, тебе очень по нраву жить в одиночку, заигрывать со всякими Миллесент…
Он замахнулся, чтобы ударить меня. Но рука замерла в воздухе. Нас с Чарли сбили с ног, раскидали в разные стороны – хвала Мерриту, Матселлу, Хейсу, Эпплгейтам, Диксону. Предполагалось, что мы будем биться бок о бок, но оказалось, битву мы ведем друг с другом. Без особой причины, исключительно из-за ревности и недоверия, этих извечных подружек, встревающих между мужчиной и женщиной.
Он уронил руку.
– Каждую ночь, Экси, я проклинаю силы, что забрали тебя у меня.
– Ты проклинаешь их только потому, что дела без меня идут хуже.
– Дела не идут хуже. Пока ты здесь сидишь, Мадам Де Босак продала лекарств на шесть тысяч долларов. И это только по почте. Всего за месяц.
– Шесть тысяч долларов за месячную отсидку?
– Да, так что предприятие наше процветает. В отличие от нас.
– Боже… Когда же ты меня вытащишь отсюда? – Я отвернулась к стене, в висках стучала кровь. – Лучше бы я тогда спрыгнула с поезда. – Я закрыла лицо руками и разрыдалась.
– Не плачь, милая моя. Мы тебя вытащим.
Он обнял меня сзади, сцепил руки. Лицо его прижалось к моей шее, губы коснулись уха. Спиной я чувствовала, как вздымается его грудь.
– Скоро твой день рождения, милая. Я уже придумал для тебя подарок.
– Уж наверняка кучу всякого добра.
– Это будет сюрприз, – нежно прошептал Чарли, и я уже знала, к чему он клонит.
– Ключ от этой двери?
– Я обещаю. Суд снимет с тебя обвинения. Не волнуйся. Ш-ш-ш.
Его пальцы пробежали у меня по ребрам, как по клавишам, пробрались под одежду. Он принялся целовать меня в шею. Вздыхать.
– Энн, Энни, Экси, милая.
– Не смей.
– Но почему? – Его голос царапал мне кожу, подбородок уткнулся в плечо. Зубы прикусили мочку уха.
Деликатные читатели наверняка с негодованием пролистают столь откровенную сцену. Но рассказать – это то же, что сохранить в памяти. Доказательство для самой себя.
Чарли повернул меня к себе. Прижал. Впился в губы.
– Убирайся, – пробормотала я. – Оставь меня.
Он просунул колено мне между ног, тюремное одеяние встало колом, я оттолкнула мужа.
– Почему? – прошептал он. – Почему?
– Сначала вытащи меня отсюда.
Он повалил меня навзничь, прижал руки к мягкой перине. И снова поцеловал. Поцелуй вышел жаркий.
– Нет, – мычала я. – Нет. Надзирательница. Нас застанут.
– Боишься? – прошептал он. – Снова трусишь? Или не хочешь? Почему? Давай же, Энни! – Он искушал. Ласкал. Целовал снова и снова.
Его нежность. Его дыхание. Его смех. Мы снова были вдвоем. Необузданные. Неразумные. Забывшие об опасности. Мои ногти впивались ему в спину, мои пальцы пересчитывали его позвонки. Он зарылся лицом мне в волосы, потом извернулся, оказавшись подо мной, рывком приподнял меня. Матерь Божья. Любит же он самый неподходящий антураж. Стена в потеках и пятнах, нацарапанные слова «Господи, помилуй меня» плыли перед глазами.
Чарли сорвал с меня тюремное одеяние, бережно уложил на спину, бесшумно, слышно было только его учащенное дыхание. Я ощущала его едва сдерживаемую неистовость. Я знала, каков он в страсти, знала, что мне его не остановить, – как не остановить ту силу, что влечет друг к другу мужчину и женщину. Да я и не хотела его останавливать. Но уже через миг меня снова накрыл страх. Я вслушалась, боясь уловить позвякивание ключей. Но новая волна желания смыла панику. Я рвала пуговицы на брюках мужа:
– Быстрее!
Господи, ну что он копается! Я снова ненавидела его. Вот сейчас распахнется дверь и тюремщицы поимеют нас обоих. Все перемешалось – страх, желание, злость. Во рту было кисло, будто от незрелого яблока. Вкус крови. Наверное, прикусила губу. Или это его кровь?
– Тсс! – замерла я. – Ключ! Слышишь?
Мы обратились в изваяния. Сердце колотилось как бешеное.
Но Чарли уже вжимал губы мне в ухо:
– Я заплатил. Пятьдесят долларов, чтобы нас не беспокоили.
– Заплатил?! Заплатил?! Мерзавец!
– Ага, заплатил. – Губы Чарли пробежались по моему лицу. – Нас не остановят, любовь моя.
И я снова ему поверила. Он прав. Это никому не остановить. Эту силу не арестуешь, не упрячешь в застенок, не потребуешь с нее залог. Ее не остановить, даже в тюрьме.
Он целовал и целовал меня, перевернул на живот, и «мы познали друг друга».
– Чарли! – застонала я.
Горло свело от ненависти и любви. Мы муж и жена. Исчезнуть бы отсюда, из этого богомерзкого узилища, прочь из каменного мешка… Содрогнувшись всем телом, он в истоме упал рядом со мной. В его объятиях я была в безопасности, но вскоре он встал, привел себя в порядок и ушел – туда, где свежий воздух и высокое небо.
Минула неделя. О Чарли не было ни слуху ни духу. Меня снедала лихорадка ревности. Я металась по камере, до крови искусала губы. Порой мне казалось, что и хорошо, что Мадам Де Босак страдает в тюрьме, поделом ей. А вот Экси М. Джонс пора домой, к любимой дочери, подальше от ненавистной Мадам. Но большую часть времени я изводилась от злости, представляя, как погружаю врагов в чан с щелочью, как пропускаю их через гладильный станок, как подвешиваю на веревке.
И вдруг вспомнила про письмо в «Гералд», оставленное Чарли. Защищайся!
Пару дней я письмо игнорировала. Но в конце концов в припадке ярости взяла в руки.
Милостивые государи, представляющие прессу!
Женщины умирают каждый день при обычных родах, их с позором выкидывают на улицу без гроша в кармане, а ведь они ЖЕРТВЫ жестокого обращения мужчин: разврата, порочности и изнасилований.
Более того, если мужчины за свои проступки не несут никакой кары, то женщин отрывают от семьи и кидают в тюрьму по одному лишь подозрению, обвиняя их в том, что они пытались помочь отчаявшимся.
Искренне ваша,
Мадам Ж. Э. Де Босак
Защищайся, да? Пожалуй, что и так. И я приписала:
Принимая во внимание факты по делу мисс Корделии Шекфорд, не обязаны ли вы, милостивые господа, опубликовать опровержение той беззастенчивой клеветы, что опубликовала ваша газета? А также извиниться передо мной, перед моей семьей, перед моими преданными друзьями, равно как перед всеми теми дамами Нью-Йорка, что остались мне верны, невзирая на злобную шумиху, а также перед теми людьми, кто презирает беззаконие. Ваши обвинения против меня не подтверждены ни единым фактом, а потому на суде они будут полностью сняты с меня.
Искренне ваша,
Мадам Ж. Э. Де Босак
Я переписала письмо начисто, подписалась и попросила надсмотрщицу Элси Рилли отправить почтой в «Гералд» – от моего имени. Благодаря моим советам и лекарствам ее акции на семейной бирже сильно поднялись, и она вовсю рекомендовала меня арестанткам и товаркам-тюремщицам как эксперта по части женской физиологии. Так что даже в этой клоаке я просвещала женщин относительно таинств их тел.
Чарли явился, сияя как медный грош. Он размахивал газетой, в которой было опубликовано мое послание.
– Где ты пропадал? – вскинулась я.
– Как ты думаешь, что я тебе принес?
– Документ об освобождении?! Если нет, то убирайся.
Взгляд у него потух.
– Если бы. Но я принес подарок на твой день рождения.
Мой день рождения? Я и забыла.
Одной рукой он вынул у меня из-за уха шоколадку, а из-под шали – какую-то бумагу, свернутую трубкой и перевязанную кружевной лентой.
– Поздравляю с днем рождения, миссис Джонс.
– Двадцать девять лет, – вздохнула я, – и заживо погребена.
– Ты взгляни.
Я развязала ленту, и бумага сама развернулась. Это был рисунок. Дом. Пожалуй, даже дворец. Четыре этажа, сад, витая ограда, каретный сарай. Колонны. Завитушки на карнизах.
– Что это? – испуганно спросила я. Дом был роскошен – истинный король среди домов. Я бы хотела такой.
– Да узри дом Джонсов, – сказал Чарли. – Земля наша! Я смотрела на рисунок. Все сироты мечтают о доме, и этот рисунок – мечта нашего с Чарли детства. Три трубы на крыше. Три двери. Сорок окон. Внизу список комнат – согласно их предназначению. Салон. Библиотека. Зимний сад. Бальная зала. Будуар. Кабинет. Я водила пальцем по линиям на бумаге, словно по венам на своей руке. Как бы я хотела жить в этом доме!
– Скажи что-нибудь, – улыбнулся Чарли. – Это твой дом.
– Ты всегда был дурной. Здравого смысла ни на цент.
– Мы будем жить в роскоши. Закатим грандиозный бал. Добро пожаловать, миссис Джонс.
– Если меня когда-нибудь выпустят.
Он вынул носовой платок и бережно вытер мне слезы. От платка сладко пахло бескрайними просторами, что раскинулись за тюремными стенами.
– Участок на углу Пятьдесят второй улицы и Пятой авеню.
– Там же коровья тропа, – удивилась я. – И пустырь.
– Пока пустырь. Архиепископ Хьюз уже возводит собор Святого Патрика в двух домах от нас. Он хотел сам купить этот участок, но я его опередил. Знаешь, он придет в восторг от новости, что по соседству с его божьей обителью поселится Мадам Де Босак. Он уже успел проклясть ее с кафедры. Я сходил послушать. В жизни не встречал женщины нечестивее.
Новости о том, что меня проклял сам архиепископ, я почему-то не посмеялась. Я не в экипаже раскатывала по Пятой авеню, а торчала в свой день рождения в вонючей дыре. И как там моя Аннабелль?
Чарли рассказал, что малышка опять принялась сосать палец и отказывается ходить в школу. Ее там дразнят из-за матери, сидящей в тюрьме. Гувернантка ушла. Учительница музыки потребовала повысить оплату. А Грета вдруг вышла замуж – за некоего Альфонса Шпрунта, пивовара из Йорквилла. И похоже, она ценит его «пильзнер» не меньше, чем поцелуи, – уже несколько раз являлась на работу подшофе. Вечно в дурном настроении. Когда Чарли выбранил ее, заявила, что теперь она ведет дела в одиночку, а потому требует повысить заработок.
– Только и знает, что ныть да жаловатся. Если так и дальше пойдет, я ее уволю.
– Не смей!
– А что еще прикажешь?
– Поднять свою задницу и самому делом заняться!
– Да я из кожи вон лезу, сатанинская ты гарпия, и ты это прекрасно знаешь.
Наши окаянные дни все не кончались и не кончались. Я ждала, что вот-вот станет полегче, ждала всю весну, ждала первые недели лета. Каменный мешок раскалился, и мы варились на медленном огне в огромной кастрюле, именуемой юстицией. А по мне, так не юстиция, а сущая клоака.
Глава десятая
На скамье подсудимых
Наконец в июле началось обезьянье шоу – суд надо мной. В зале суда общих сессий я появилась раньше, чем государственный обвинитель Фредерик Толлмадж, судья Меррит и два олдермена.
Блистательная — так назвала меня «Таймс». В суд я явилась в черном атласе, белой шляпке и белой мантилье из испанских кружев. Мадам Де Босак величественно вплыла в зал судебных заседаний, одетая по последней моде, похожая на аристократическую даму.
Свидетель обвинения, юная Корделия Парди, была не так разряжена и далеко не столь величественна. Она незаметно прокралась в зал через дверь за креслом судьи и заняла свое место за столом, на некотором отдалении от меня. Садясь, она как-то скукожилась, вжала голову в плечи и стиснула руки на коленях, будто это не я была обвиняемая, а она. На сильфиду, что постучала в мою дверь, Корделия более не походила, скорее на серого мотылька. Лицо прикрывала вуаль – черная, плотная, несмотря на летний зной.
Первые ряды зала занимали судейские в темных мантиях. Они оглаживали бороды и откашливались, так что их адамовы яблоки так и прыгали вверх-вниз. Кое-кто шуршал бумагами, другие с важным видом переговаривались. Если они смотрели на меня, взгляд становился тяжелым, как булыжник. Иные взгляд на мне задерживали, и губы их кривились, готовые то ли улыбнуться, то ли оскалиться. Это были псы, свирепые и трусливые разом; в том, как нервно они потирали руки, как теребили усы, я угадывала их страх передо мной.
Пока не пришли другие женщины, за столом сидели только я и Корделия. Благодаря широким юбкам каждая из нас занимала немало места, мы выглядели как две индюшки, выставленные на продажу и окруженные сворой торговцев в черных одеяниях. Помещение насквозь пропахло мужчинами: макассаровое масло[86], ореховое мыло для бритья и дарэмский табак.
– Слушание открыто! – объявил секретарь.
– Высокий суд, – начал обвинитель Толлмадж. Седые волосы падали ему на лоб. Могучий, как единорог, и такой же величественный. Сенатор штата, как говорили. Из солдат. Что ж, я тоже была солдатом, на своей собственной войне, только без мушкета и судебного молотка, моим оружием был разум. – Мисс Корделия Шекфорд, – вызвал Толлмадж, – подойдите к судье.
Корделию следовало привести к присяге, но у нее так дрожали руки, будто ей надо было коснуться не Библии, а раскаленной сковороды. Секретарь даже прижал руку девушки к книге.
– Ваша честь, – сказал Толлмадж, – вынужден известить вас, что свидетельница настроена неприязненно. – И начал допрос: – Сколько раз вы были беременны?
– Четыре раза, – ответила она со смущенным вздохом.
– Четыре! От кого?
– От… мистера Джорджа Парди.
– В то время вы были мужем и женой?
– Он обещал жениться на мне, сэр, но я здесь нахожусь потому, что в полиции сказали, что ежели я не заговорю, меня посадят в тюрьму, и…
– Отвечайте только на вопросы! Каким образом вы родили ваших детей?
Корделия не ответила.
– Какие средства? Какие средства применялись при рождении?
– Я не родила ни одного ребенка.
– Вы заявили, что были беременны. Каким же образом ребенок появлялся на свет?
– При помощи… аборта. – Шелест кружев под дуновением легкого ветерка.
– Мы требуем, чтобы свидетельница сняла вуаль, – объявил Толлмадж.
– Я бы предпочла не снимать, – прошептала Корделия.
– Снимите вуаль, – приказал председатель суда.
– Прошу вас.
– Делайте, как велят, – подал голос член суда Меррит.
Медленно, взявшись за край обеими руками, Корделия приподняла вуаль, и даже с моего места было видно, как свидетельница дрожит. Галерка подалась вперед. Лицо у Корделии было молочно-белое, под глазами темные круги. Из груди у нее вырвался крик, и она закрыла лицо руками.
– Пожалуйста, объяснитесь.
Корделия покачнулась, голос сделался тоненький, она точно причитала над чьей-то могилой:
– Джордж велел мне сделать операцию, он не хотел скандала, и я послушалась. Все четыре раза. А теперь потому, что вы принудили меня явиться сюда, он сбежал и женился на другой, и я подала иск за то, что он бросил меня…
– Отвечайте на вопросы, пожалуйста, – перебил ее Толлмадж. – И кто же проводил операции?
– Поначалу миссис Костелло, первые три раза. А потом… Я не хочу говорить.
Она бросила на меня быстрый взгляд и тут же отвела глаза, будто сам мой вид причинил ей боль.
– Вы должны сказать суду, мисс Шекфорд, кто еще оперировал вас.
Она долго молчала, дрожа всем телом. Наконец произнесла шепотом:
– Мадам Де Босак. – Она снова посмотрела на меня, теперь задержав взгляд, полный раскаяния: – Мне очень жаль, мадам. На вас я не жаловалась. Это они мне наговорили, что посадят в тюрьму, если не приду в суд, а я не хотела…
– Мисс Шекфорд! – оборвал ее судья. – Отвечайте только на вопросы. Прежде вы бывали у Мадам Де Босак?
– Нет. Только у миссис Костелло.
– Почему в таком случае в последний раз ваш выбор пал на Мадам Де Босак?
– Потому что о ней рассказывали, что она настоящий профессионал, что она заботливая и ласковая.
– Опишите события того дня.
Корделия покачала головой, закрыла руками глаза и опустилась на скамью:
– Нет, нет, я не могу.
– Вы должны описать события, произошедшие двадцать второго января сего года, – повторил Толлмадж.
– Мадам отвела меня в кабинет. – Корделия вздохнула.
– А затем?
– Велела лечь на кушетку. Дала стакан вина. Когда я выпила, она велела закинуть ноги на спинки стульев.
Она глотала слезы, делала большие паузы между словами.
– Какие процедуры она над вами провела? – упорствовал Толлмадж. – Опишите, что она делала.
– Я бы предпочла не описывать, сэр.
– Вы должны сказать суду.
– Не могу. Нет. Умоляю вас. Нет.
– Мисс Шекфорд, вы под присягой.
– Мадам сказала… что посмотрит меня зондом. Мадам сказала, я храбрая девочка и мне минутку будет… больно.
Газеты на следующий день написали: заикаясь и запинаясь, свидетельница поведала о процедурах, проведенных Мадам Де Босак, подробности которых настолько гнусны и отвратительны, что мы не можем поведать о них публично.
Я сразу хочу сказать, что газеты снова солгали. Подробности говорили о человеколюбии. Эти судьи, эти полицейские, эти репортеры – богомерзкие чистоплюи, маменькины сынки. Половина из них сожительствует с девицами из канкана.
Я это знаю от самих девиц, приходивших ко мне со своими недугами. И их великосветские любовницы приходили. И жены. Я знаю судейских дочерей, прокурорских сестер. Но эти столпы закона не хотят, чтобы вы слышали о гнусных подробностях их сексуальной двуличности, о тех гнусностях, что творили они сами. Судить следовало этих похотливых распутников, а не меня.
Публика слушала затаив дыхание. С виду приличные господа, заполнявшие судебный зал, на самом деле ничем не отличались от черни, сбегающейся посмотреть на пожар в чужом доме.
– Что мадам сделала? – переспросил Толлмадж.
– Она засунула руку.
– Куда?
– В мою… мое лоно. Было очень больно. Я закричала, а она сказала, что все уже позади. Но это оказалось не так. Она двинула рукой или инструментом в моем теле, будто зацепившись за что-то. Выскребая что-то. И стало еще больнее. Я вопила не своим голосом.
– Когда все закончилось и вы очнулись, что произошло?
– Она велела мне отдыхать. Сказала, что ей не будет покоя, пока моя обструкция не рассосется.
– А затем?
– Я промучилась всю ночь. Мадам всю ночь находилась при мне. Ставила компрессы. Под утро, перед самым рассветом, из меня потекло. Настоящий потоп. Меня вырвало, было очень плохо. Она меня подняла, усадила на стул и подставила таз. Вот тут заболело по-настоящему. Мадам…
– Продолжайте, мисс Шекфорд.
– Она опять сунула в меня руку и сказала, что скоро станет легче, но пока придется потерпеть. Приступы боли следовали один за другим, и всякий раз я чувствовала, как что-то из меня вываливается и падает в таз. Мадам все приговаривала: потерпи, потерпи, еще немножко. Потом я опять легла, мадам осмотрела меня еще раз и снова засунула руку. Как мне было больно! Я вцепилась в ее руку. Она все называла меня ласковыми словами, гладила по голове, баюкала. Потом я заснула. А когда проснулась, она напоила меня чаем, заставила съесть тост.
Так все и было. Но эти подробности усатых судейских не интересовали. Плевать им на мои маленькие умелые руки, на мою ловкость, на мой профессионализм.
– А когда я набралась сил и покинула клинику, – в голосе Корделии зазвучали истерические нотки, – полисмен Хейс отправился за мной по пятам. Он арестовал меня и отвел в участок, где нас поджидал доктор по фамилии Ганнинг.
Ганнинг? Ганнинг?!