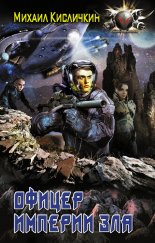Рейдовый батальон Прокудин Николай
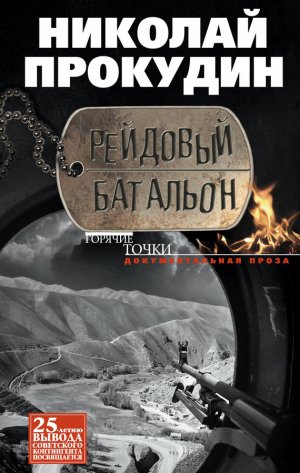
— С Филатовым сам, лично, договорюсь, приглашу его, тогда другие «шавки» помешать не посмеют! К черту антиалкогольную компанию. По-человечески проститься должны с лучшим командиром роты! В ротах с бойцами оставить молодых лейтенантов и «зеленых» прапоров. Им еще рано выпивать, пусть работают! — распорядился Подорожник и, сильно сутулясь, зашагал в сторону штаба полка.
Я пошел в казарму первой роты. Дежурный по роте сержант Лебедков бросился докладывать. Но я отмахнулся (не надо!).
— Где офицеры? — спросил я у сержанта.
— В ленинской комнате. Что-то обсуждают!
В ленкомнате, к моему удивлению, совещание проводил старший лейтенант Грымов. Хм! Чудно! Он ведь после отпуска как залез на заставу в горах, так три месяца в полку не появлялся. Не желал работать под командованием Сбитнева. Грымов сморщился, словно от сильной зубной боли, при моем повлении и скомандовал: «Товарищи офицеры!», — я махнул рукой и коротко рассказал об организации поминального вечера.
— Калиновский, выйди со мной на минуточку! — распорядился я в заключение.
— Слушаю вас, товарищ старший лейтенант! — произнес Александр, затворив за собой дверь.
— Откуда взялся Грымов?
— Приехал вчера, вступил в командование ротой! — ответил Калиновский.
— Почему он командует, а не Острогин?
— Потому что Эдуард заместитель командира роты.
— Этот заместитель сбежал из роты и, включая отпуск, пять месяцев ею абсолютно не интересовался. Ну, да ладно, сегодня комбат решит, кто будет командиром.
— Комиссар, какие у тебя предложения будут по образовавшейся вакансии в первой роте? — спросил, затягиваясь сигаретой, Подорожник.
— Если назначение на усмотрение командования батальона, то Острогин или Мандресов, — ответил я, не рздумывая.
— Конечно. Своих тянешь! — усмехнулся майор Вересков.
— А что, Серж давно готов быть ротным. Мандресов неплохо руководит отдельным взводом АГС, — парировал я реплику зампотеха.
— Нет, Острогин не годится, — возразил комбат. — Не хватает ему серьезности. У меня два варианта: Грымов и Мандресов.
— Но мне Артюхин говорил, что Грымов вас лично просил отправить его на заставу. Что он устал и боится. А как рота освободилась, то он первый кандидат? — возмутился я.
— В тебе говорят уязвленное самолюбие и желание отомстить за его подлые поступки. Хорошо, я подумаю и вечером сообщу свое решение. Все свободны!
Комбат начал листать блокнот и тетрадь с записями, что-то подчеркивать. Ага! Взялся за архив, вспоминает, что у кого за душой. Ну, что ж, пусть Чапай думает, решает. На то он и Чапай.
Золотарев вызвал политаппарат для инструктажа. Обычный набор для нотаций: наглядная агитация, документация, журналы политзанятий, конспекты, наградные документы. И в заключение совещания распорядился:
— Сегодня на построении проверить у личного состава документы. Что у солдат только в них не хранится! И молитвы, и иконки, и даже листовки «духовские»! Некоторые несознательные нательные кресты носят! Начальник политотдела в восемьдесят первом полку на строевом смотре с одного комсомольца крестик снял, а у другого в комсомольском билете «Спаси и сохрани». Бабушка, говорит, дала, чтобы Бог уберег! Ему, обалдую, мама крест повесила, а выговор получили все политработники.
— Любопытно, солдат, с которого крестик сняли живой? Не погиб? — спросил задумчиво майор Оладушкин. — Маманин оберег сняли, теперь пропадет боец…
— Стыдно, товарищ майор, а еще замполит артиллерийского дивизиона! — возмутился Золотарев. — Может, вы, и в Бога верите?
— Крещен. Не верую, но часто размышляю о душе. Перед Афганом крестился, — сказал тихо Оладушкин. — А тут на войне поневоле задумаешься об этом.
— Ну, вы даете, товарищ майор! Будем считать, я этого не слышал! Товарищи офицеры, свободны! — скомандовал замполит.
Ко мне подскочил Цехмиструк. Он недавно получил звание подполковника, одновременно с обоими замполитами полка, и очень этим гордился.
— Никифор! С тебя причитается! Взгляни, какую статью я про тебя в журнале написал!
Я взял в руки новый номер журнала «Советский воин» и прочитал заголовок «Комиссары наших дней». Фото не мое — пропагандиста, автор заметки секретарь парткома. Обо мне написано только то, что я водил людей два раза в атаку, про рукопашную схватку с мятежниками. Многое переврали, даже имя.
— Эх, товарищ полковник, вы забыли, как меня зовут? Я — Никифор, а не Александр.
Цехмиструк, выпучив глаза, схватил журнал, взглянул в него и укоризненно произнес пропагандисту:
— Саша, ты что же, задумался и про себя писал? Действительно, на фотографии нет Ростовцева и имя не то… — обратился он к Чанову. «Партийный вождь» почесал лысину и вновь укоризненно покачал головой.
— Вы на меня статью взвалили, я еще и виноват! Сами разбирайтесь, товарищ подполковник! — махнул рукой раздраженный пропагандист и убежал прочь.
Оладушкин улыбнулся и шепнул мне на ухо:
— Капитан себя на твоем месте представил. О том, как он красиво встал во весь рост и бросился в атаку на врага! Ура-а-а! Не выходя из кабинета, конечно!
— Молодец, шустрый мужик! Стал досрочно капитаном, не появляясь на боевых действиях! — улыбнулся я в ответ.
— Чего шепчетесь? Задачи получили? Вперед! — гаркнул танкист майор Коваленко. — Я прямо сейчас пойду и осмотрю своих «бронелобых» на позициях! Там у ротного такая замечательная самогонка выгнана! Не желаете присоединиться?
— Спасибо, у нас сегодня поминки по Сбитневу, — отказался я, нахмурившись.
— А у меня желудок побаливает, — объяснил свой отказ Оладушкин.
— Василь Васильич! Этим лекарством его только и лечить! Ядреный первач! Зря отнекиваешься! — подбодрил товарища замполит-танкист.
— Нет, Витя! Я лучше морс попью, отвар брусничный, шалфеем рот пополощу, — сказал Оладушкин и пошел «медитировать».
Я отвел своих подчиненных в сторону и отдал последние распоряжения на сегодня. Мелещенко насупился, ему явно не нравилось, что я им руковожу. Шкурдюк дружелюбно улыбался, он был доволен и, судя по всему, даже рад. Галиновскому на первых порах, наверное, было безразлично, кто у руля. Бугрим, стоя, дремал, очевидно, не проснулся после бурной ночи с парикмахершей. Черт! Раньше проще было, когда отвечал только за себя!
— Рахмонов! Это что у тебя такое? — спросил я, заглядывая в люк механика. На сиденье лежала миниатюрная книжица, размером десять на десять сантиметров в кожаном футляре, с замком-молнией.
Механик смутился:
— Это ничего, так пустяк! Это сувенир!
Я расстегнул застежку и увидел витиеватую вязь арабского алфавита. Коран!
— Э-э-э! Вражеская пропаганда! «Духовская» агитация! Конфискую! И четки эти костяные тоже заберу.
— Но я же мусульманин, я изучаю, — сделал механик робкую попытку вернуть книгу.
— Ты, кажется, в КПСС собрался вступать, заявление написал! Вот и выбирай — партия или медресе! Забираю книжку и молчу о происках идеологического противника, — ухмыльнулся я и зашагал из парка, довольный своей находкой.
Коран! В кожаном футляре! Красивый сувенир!
В нескольких машинах, кроме этого, обнаружилась пачка цветных иллюстрированных журналов Исламской партии Афганистана, листовки, воззвания. Таких журналов и у меня была целая стопка. Я их сжег весной, когда Артюхин обнаружил ворох этой литературы у меня на столе. Он тогда сказал: «Если не хочешь, чтобы тобой занялся особый отдел, уничтожь! Настучат контрразведчикам «шептуны», потом будут заставлять писать объяснительные, устанешь оправдываться. Им же нужна отчетность о проделанной работе. Галочку в бумажках поставят, а у тебя судьба сломана».
Журналы я порвал и в урне спалил, на служебных бланках ИПА (Исламская партия Афганистана) письма домой полгода писал. Посылал как сувениры: красивая бумага с эмблемой в виде скрещенных сабель. Детям когда-нибудь покажу. С цензурой большие проблемы. Даже фотографии на границе отбирают, особенно если с сожженной техникой, с развалинами домов, с оружием. Войны ведь никакой нет.
В коридоре решили не садиться. Вечером становится прохладно, а ветер надует песок и пыль в салаты. Четыре стола пересекали большую комнату, в которой жили три женщины. От окна и до двери стояли тарелки, бутылки, стаканы. Входя в помещение, сразу натыкаешься на угол крайнего стола. Три десятка офицеров и прапорщиков, разбавленные несколькими женщинами, теснились плечом к плечу.
Комбат поднялся и взял стаканчик, наполненный до краев.
— За Володю! Пусть ему земля будет пухом! До дна!
Мы встали, молча выпили, сели. Каждый из нас задумчиво жевал, закусывал, думал о погибшем товарище, о своей судьбе, о войне. Я пребывал в раздумьях, переживал, что в последнюю встречу слегка поссорился с ним. Вовка как бы ревновал к моему быстрому служебному росту. Раздражался. Черт, по-дурацки все вышло. Мужики дружно обвиняли Ошуева в смерти Сбитнева. Какого черта под обстрелом вызвал к себе! Еще и сам пулю схлопотал в грудь…
Второй тост — за успешный вывод, чтоб повезло ребятам на Родине, а третий — за всех погибших. После третьего тоста Подорожник объявил о своем решении назначить командиром роты Мандресова. Большинство собравшихся одобрительно загудели, поддерживая это назначение. Выпили за Мандресова.
— Вместо Александра, если, конечно, утвердят его на роте, на взвод АГС буду предлагать лейтенанта Ветишина.
Одобрительные возгласы были прерваны недовольным высказыванием Мандресова:
— А кто останется в первой роте? Только один взводный?
— В полк прибыли молодые лейтенанты, завтра укомплектуем образовавшиеся вакансии в ротах, — успокоил его комбат.
Выпили за выдвижение Ветишина.
Грымов отставил свою рюмку, молча встал и, не прощаясь, тихонечко вышел из комнаты. На его лице отразилась целая палитра чувств: гнев, ярость, злость и обида.
Я усмехнулся про себя и, случайно встретившись взглядом с Ветишиным, подмигнул ему. Сережка понимающе мигнул в ответ. Обошли должностью Эдуарда, вот он и бесится. Поделом ему.
Последние тосты заглушила громкая музыка, изливаемая магнитофоном. Внимание народа переключилось на женщин. Вспомнили и о них: начались танцы-обнимансы.
Комбат подозвал меня к себе:
— Комиссар, не будешь ли так любезен не появляться в нашей совместной коморке часа два-три? Я хочу немного размяться! Договорились?
Я кивнул головой в знак согласия, а Чапай увлек за собой Наталью. После ранения в ногу начальника штаба в наших «апартаментах» проживали мы вдвоем. Кроме меня, помешать комбату развлекаться больше некому.
Едва он растворился за дверью в ночной темноте, как рядом на подоконник присел угрюмый Арамов.
— Никифор Никифорович, есть разговор! Ты зачем отобрал у Рахмонова Коран?
— Конфисковал согласно приказу Золотарева! Подрывная литература.
— Какая подрывная? Он ведь мусульманин!
— А книга на арабском языке. Рахмонов, может, арабский знает, а я нет! Пусть приобретет на русском, чтобы знал содержание. Потом пусть читает на здоровье. А вдруг под видом религиозной книги там антисоветская пропаганда?
— Ну, Ник, брось дурить! Знаешь же, что это не так! Не отдашь солдату книгу?
— Нет, не отдам! Мне она самому понравилась. Трофей!
— Подари лучше мне, я буду читать! Это священная книга. Она не может быть сувениром. Пожалуйста!
— Баха! Я тебе ее подарить не могу, сам говоришь: книга — священная! Но могу обменять. Сейчас только придумаю на что.
Я на минутку задумался. Думать мешал шум. Пьянка постепенно выходила из-под контроля. Мужики начали цепляться друг к другу, тискать девчат в углах, горланить песни. И тут в комнату вихрем ворвался командир полка и покрыл всех трехэтажным матом. Филатов со злостью пнул ближайшую табуретку и выдал еще одну витиеватую фразу из семи непечатных слов. Мастер! Самое благозвучное из всего сказанного было:
— Вон отсюда! Прекратить балаган! Это поминки или что?!!
Кто сидел у раскрытых окон, как я, выпрыгнули в окно. Кто был близко к дверям, прошмыгнул в них. Троим или четверым, что были ближе к «кэпу» и не увернулись, достались звонкие затрещины. Магнитофон замолчал, получив командирского пинка.
Пробираясь сквозь колючки и репейники, я громко выругался и выразил эмоции вслух:
— Черт! Иван Грозный! Сорвал отдых!
Следом за мной на дорогу из зарослей выбрался Арамов. Мы принялись отчищать от репьев брюки и неожиданно оба громко рассмеялись.
— Да! «Кэп» в гневе страшнее раненого вепря, — сказал Баха.
— И, правда, сами виноваты, пустили мероприятие на самотек. Не выдержали нервы у «бати». Нужно было закругляться еще минут двадцать назад, — вздохнул я. — А я уже было, положил глаз на новенькую, Ленкой, кажется, зовут, по прозвищу Ногтегрызка (ноги очень худые, а руки еще тоньше). Придется идти в свой модуль спать.
— Но какой стиль! Какой слог! Силен «бугор», силен, ничего не скажешь! Классика жанра! Итак, Никифор, вернемся к нашему разговору: твои условия обмена, на что махнемся?
Я опять задумался. Арамов в мае женился на поварихе-хохлушке, землячке комбата. Она была старше Бахи лет на пять. Мужики отговаривали парня, только Подорожник одобрял: «Хорошая женщина, гарная дивчина, справная. Остепенишься. Правильно, лучше хохлушек жен не бывает». После свадьбы «молодым» выделили отдельную комнату в штабном модуле, в семейном углу. Там жила еще семья помощника начальника штаба.
— Меняю на самовар. Электрический чайник у нас сгорел, покупать неохота. Махнусь на твой семейный самовар! — придумал я вариант обмена.
— Он не мой, а жены. Давай на что-нибудь другое.
— А у тебя больше ничего нет, чего я не имею. Может, на трофейную саблю?
— Фигу! Саблю, коня и жену — не дам никому!
— И я, Коран и кинжал — не дам никому.
Баха, обиженный отказом, махнул рукой и побрел домой. К жене. Я же, словно неприкаянный, пришел к дверям своей комнаты. Услышав сладострастные стоны и счастливые всхлипы, я понял, что пока тут лишний. Если курил бы, то сейчас самое время закурить. А так, сидел на ступеньках и глазел в небо, трезвея. Некоторое время философствовал про себя о мимолетности человеческой жизни и всего человечества в многомиллиардной истории Вселенной.
Через час мне надоело ждать окончания «кобелирования» Подорожника, слушать стук кровати. Я отправился обратно, откуда пришел, в поисках развлечений. На лавочке, прислонившись к стене, сидела, дышала и наслаждалась ночной прохладой Татьяна — начальница столовой.
— Танюша, я составлю тебе компанию, не возражаешь?
— Садись, если найдешь свободное место, — ответила толстушка.
Действительно, места было мало даже для меня, худощавого. Берендею не хватило бы места и на одну ягодицу. Я плюхнулся ей под бок, на скамью, и откинулся к стене модуля, обхватив при этом левой рукой часть талии Татьяны.
— Эй, но-но! Только без рук. Так сегодня устала в этой дурацкой столовой, что ноги до комнаты не дотащить.
— Если бы ты была наполовину меньше, я бы донес тебя до койки, чтоб не утруждала ноги. А так, извини, боюсь, не справлюсь.
— Юморист! Чего бродишь по полку? Не спится?
— Ага. Комната занята комбатом, не попасть — да и гормоны кипят.
— Если негде спать, могу сдать на ночь койку. У нас одна в комнате свободная, а с гормонами ничем не смогу помочь.
— Ну и ладно. Где это ложе, куда я смогу бросить усталые кости?
— Ну, пошли, костлявый герой!
В пустой комнате стояли три кровати, но в помещении почему-то никого не было.
— Продавщица Рита у Губина в гостях, придет утром, поэтому можешь отдыхать спокойно. Блаженствуй, только без глупостей!
— Это хорошо, что соседки нет, мы с ней враги, — обрадованно сказал я и принялся раздеваться в темноте. Бросив х/б на стул и сняв туфли, я протопал босыми ногами к хозяйке «квартиры».
— Эй, эй, ловелас! Не было такого уговора! Шагай на место! Не было дозволения о приставаниях. Ложись к себе, а не то нечаянно зашибу! — Татьяна при этих словах вытянула вперед огромный кулачище.
Вот как интересно распорядилась природа! Красивое миловидное лицо при богатырских размерах тела. Не в моем вкусе, но в темноте, в общем-то, я мог решиться и настроиться. Но такой кулачище отбивает всякое желание.
Я рухнул на кровать, думая, и что немного полежу, соберусь с мыслями и повторю попытку. Но, размякнув на перине, мгновенно отключился, словно рухнул в пропасть. Устал.
С первыми лучами солнца кто-то тряхнул меня за плечо со словами:
— Эй, героическая личность! Вставай! Выбирайся отсюда, как хочешь! Только не через мое окно. И чтоб никто не видел, а то пойдут глупые, ненужные разговоры.
— Черт! Как нехорошо получилось! Заснул и бездарно провел ночь!
— И хорошо, что не было второй попытки штурмовать меня. Точно бы началась у нас с тобой драка. Мне еще в Союзе мужики надоели, липнут, гады, как мухи. А я этого не люблю! Убить всех готова. Проходу от вас нет.
— За одиночеством нужно было отправляться к амазонкам, а тут здоровый мужской коллектив. Не будет тебе ни сна ни покоя, — сказал я, смущенно одеваясь, и быстро, не прощаясь, вышел за дверь.
Дежурным по полку я заступал впервые. Помощником дежурного, начальником караула был, а дежурным — никогда. Начало — развод караулов и наряда — прошло нормально. Хорошо, что нет Ошуева, большого любителя снять состав наряда с дежурства. Не успел принять оружкомнату и документацию у прежнего дежурного, Оладушкина, как уже случилось происшествие. Пришедший сдавать пистолет дежурный по автопарку прострелил задницу (точнее сказать, бедро) «помдежу». А дело было так.
— Коля, ты пистолет разрядил? — спросил Оладушкин Колоколова.
— Ага. Кажется. Сейчас проверю, — ответил лейтенант и, не вынимая обойму, перезарядил пистолет. После этого отвел ствол в сторону и нажал на курок. Выстрел пришелся в стоящего у стены капитана. Раненый Рычагов взвизгнул и подскочил вверх метра на полтора, затем со стоном рухнул на пол, приземлившись на зад. Капитан взвыл, вновь подпрыгнул и упал в объятья Колоколова.
— Скотина! Изверг! Тебе мало коллекции «духовских» ушей, взялся за отстрел наших жоп! — рычал он на Колоколова.
— Прости, брат! — вскрикнул Николай. — Гадом буду, не хотел. Прости! — С этими словами он уронил ПМ на пол, и тот выстрелил еще раз, к счастью, не задев больше никого.
На выстрелы сбежались штабные. Пороховая гарь заполнила узкий коридор, а кровь, хлеставшая из раны продолжала заливать пол.
— Заткни дырку рукой и в санчасть! — скомандовал начарт.
— Заткнул, все равно течет, — ответил Рычагов, прижимая платком дыру в штанах. — Не хочется умирать в жопу раненным!
— На руки и бегом в медпункт, не то со смехуечками от потери крови помрет. От идиотского ранения! — взвизгнул Оладушкин,
Шесть офицеров бегом поволокли подстреленного в санчасть, спасать от потери крови.
Командир раздавал виновнику происшествия затрещины. Вновь орал, что не доживет с такими мудаками до замены и что доведут его до инфаркта.
Один плюс в этой истории для Рычагова все же был. Получил позднее орден по ранению…
Я лежал на кровати и читал газету при свете ночной лампы. В своем углу в полумраке кряхтел, ворочался и пыхтел комбат. Он что-то бормотал себе под нос и несколько раз раздраженно хмыкнул.
— Василий Иванович! Свет мешает? Выключить? Будете спать? — спросил я, чувствуя некоторую неловкость.
— Да нет, нормально. Читай, просвещайся. Я тут молодость вспоминаю, подвожу некоторые жизненные итоги. Не отвлекай.
Ну, что ж, не мешать так не мешать. Я и сам не особо настроен говорить. Искоса взглянув на Подорожника, я вдруг заметил, что он загибает пальцы, производя какие-то подсчеты. Дочитав газету, я встал, подошел к электрочайнику, налил себе кружку кипятка и насыпал заварки. Иваныч в это время громко выругался, чертыхнулся и начал что-то быстро писать на листе бумаги. Это продолжалось минут пятнадцать, пока я жевал бутерброд, прихлебывая его чайком.
— Комиссар! Налей и мне кружечку. Выпью, подумаю, может, кого еще забыл.
— А что вы вспоминаете?
— Молодость. Понимаешь, решил вспомнить, сколько в моей жизни было женщин и как их звали. Получается, то ли пятьдесят две, то ли пятьдесят четыре. Два эпизода какие-то смутные, и не могу понять, реальность они или нет. Четырех дивчин не могу вспомнить по именам, а половину лиц вообще не припоминаю. Только смутные очертания.
— Сами себе ничего не прибавили в количестве?
— Да нет. Вроде объективно. Точно, почти как в аптеке. Почти…
— И что, в памяти удерживаете всю полусотню?
— А чего? Имена ведь русские, наши. Правда, была одна чешка, одна узбечка и одна казашка. Но их я как раз помню отчетливо. Экзотика! Сбился в количестве Наташ и Людмил. Много их было: очень имена распространенные.
— И зачем это вам нужно?
— Э-э-э, молодо-зелено! Это моя коллекция! Я ее начал собирать еще в училище. Мне как-то прапорщик-инструктор на стажировке рассказал о своем хобби. Он шел к сотне любовных побед. Не хватало мужику два-три «скальпа». Я вначале подивился чудачеству, а потом принялся и сам на корочку головного мозга откладывать любовные истории. Но я разнообразил это увлечение. Хочу, чтоб не было мною не обласкано и пропущено ни одного имени. Собран венок из имен! А как звучат! Анжелика, Алевтина, Беата, Вероника, Валентина, Галина, Динара, Елизавета, Елена, Жанна, Зинаида, Ирина, Клавдия, Лариса, Марина, Надежда, Наталья, Ольга, Полина, Рита, Светлана, Серафима, Татьяна, Фирюза…
— Василий Иванович! Вы строго по алфавиту их распределяете или еще и по годам знакомств?
— Понимаешь, Никифорыч, по именам интереснее. И самая главная моя сверхзадача, как по Станиславскому, — ни одного года вхолостую, только с пользой! Пока что получается.
— Гм… Рита — это вроде Маргарита. Неувязочка.
— Да, ты прав. На букву «эр» пока пробел. Не было ни Розы, ни Роксаны какой-нибудь. Время есть — полжизни впереди. Коллекция постепенно совершенствуется, пополняется.
— А на какие буквы еще имеются пробелы?
— На «У». Мечтаю познакомиться с Ульяной. Такое в наше время редкое имя! На буквы «Х», «Ц», «Ч», «Ш», «Щ». С последней частью алфавита определенные проблемы. Испробовал я только Элеонору и Эльвиру, Юлию, Яну. А вот на эти проклятые шипящие согласные — загвоздка. Пробел. Где теперь найти Цирцею, Харлампию, Хиврю? Бр-р-р. Какое ужасное имечко! С такой и в постель не ляжешь. Разве что только где-нибудь за стогом. Есть балбесы, которые тупо бьют числом, а я под интерес. С каждым новым именем оживаю. Очередная Наташа или Ира, продублированные, мне уже не интересны и не заводят. Нет пробуждения чувств.
— А эта Наташка-«стюардесса» какая в ряду?
— Шестая Наталья. Но тут, как говорится, не до выбора, а чтоб не усох и не вышел из строя прибор. За инструментом необходимо следить и ухаживать! И у меня к тебе сейчас большая просьба. Ты, я смотрю, газетку дочитал?
— Да. А что?
— Сходи, пожалуйста, в батальон, осмотри казармы, проверь наряд после отбоя. Часика два погуляй. Думал, сегодня спокойно поспать, но что-то кровь от этих воспоминаний забурлила, закипела. Интерес поднялся. Будь так любезен — освободи помещение.
Я недовольно вздохнул, но принялся одеваться.
— Не обижайся, но тебе, Никифор Никофорыч, сейчас надо рыть носом землю! Ты в двадцать пять лет достиг того, к чему я пришел после тридцати! Работай! А я уже давно отдыхать должен. Знаешь, какое у меня «золотое правило»? Пахать как папа Карло первый год службы, создать себе имя и репутацию. После этого имя будет долго на тебя работать. Я вот сейчас лишь процентов на тридцать напрягаюсь, а претензий ко мне никаких. Механизм отлажен, крутится-вертится, коллектив сплочен и выдрессирован. Теперь настала пора трудиться моим заместителям, сохранять тщательно созданную структуру.
— Заместителям… Громко сказано. Замкомбата бронежилет к дверям прибил, забаррикадировался и выходит из комнаты только поесть и облегчиться. Начальника штаба после госпиталя и отпуска до Нового года не увидим. Зам по тылу себе новую должность обхаживает, а зампотех не расстается с гитарой и творит сонеты.
— Вот тебе и флаг в руки! Зарабатывай авторитет на новой должности. Ты, конечно, имя уже немного себе сделал, но в основном, как «боевик», а не как воспитатель и замкомбата. Иди, трудись! И не стесняйся. Если вдруг понадобится освободить комнату, намекни — сразу уступлю поле битвы, пойду проверять наряд и караул.
— Спасибо за заботу! — Я вздохнул и вышел из комнаты, застегивая куртку на ходу.
В казарме буянил Бугрим. Разведвзвод был построен в коридоре у каптерок в одну шеренгу, все стояли, потупив взоры. Прапорщик держал за грудки двоих бойцов и тряс так, что они ударялись друг о друга головами, при этом он что-то грозно говорил сквозь зубы.
— Виктор! В чем дело? — спросил я, хмурясь.
— Зайдите к ним в «каморку», товарищ старший лейтенант, сразу увидите это «дело».
Я толкнул ногой дверь и вошел в каптерку. За столом сидел солдат перед чистым листом бумаги, теребя в руках ручку. Лямин — мой недавний спаситель.
— Что случилось? — спросил я громко, и солдат, вздрогнув, поднял голову.
Огромный фингал окрашивал синевой правую половину лица, закрывая глаз опухолью. Бил левша. Левша у них во взводе Гостенков, он всегда этим козырял. Нос у солдата был как слива. Губа подбита. Вот оно, поле деятельности, о котором говорил Подорожник.
— Дружище, кто тебя так отделал? — поинтересовался я для порядка.
— Никто, упал. Споткнулся в темноте, — пробормотал боец.
— Ага, так я и думал. Три раза подряд и разными частями физиономии! Это работа Гостенкова?
— Нет. Я сам упал.
— Ладно, иди в ленкомнату, там пиши свои воспоминания.
Я выглянул из кабинета и позвал солдата:
— Гостенков! Подь сюда!
Двухметровый громила отделился от стены, вошел в каптерку и доложил:
— Товарищ старший лейтенант! Ефрейтор Гостенков по вашему приказанию прибыл.
И тут же получил по лбу огромной деревянной указкой, лежавшей на столе.
— Ох! За что? — завопил, схватившись за голову, боец.
— За то! За все хорошее! Сам знаешь, за что!
— Убью гада! Вот гнида! Заложил! — завопил, слегка шепелявя, солдат.
В это мгновение он получил еще один удар по плечу, от которого палка, не выдержав, переломилась пополам.
— У-у! Ни за что! Разве так можно? А еще земляк, в одной области живем… Обижаете!
— Послушай ты, «шкаф»! Тебя, негодяя, и меня Лямин в «зеленке» от смерти спас. Это он двух «духов» завалил, когда у тебя, недотепа, патроны в пулемете закончились.
— У вас тоже патронов не было…
— Так вот, недоумок, не будь его, нас обоих упаковали бы в дальнюю дорогу, в деревянно-цинковых гробах. И лежал бы ты сейчас в Сибири в промерзлой земле. Но тебе было бы все равно, потому что мертвецы к холоду не чувствительны!
— Ну, зачем вы так злобно?
— А как с тобой, недоноском, разговаривать? Забыл, как я тебя защищал, «дембелей» гонял? Теперь сам «постарел», других обижаешь? Об тебя можно не указку сломать, а ломик согнуть! Я сразу вычислил твою руку. Левша… Удар с левой руки — твой. Кто бил его еще?
— Не знаю, я не бил.
— Гостенков, я сейчас вызову Бугрима и оставлю с ним наедине. Виктор из тебя сделает отбивную.
— Я ничего не знаю.
— Ну и ладно, тебе жить, тебе думать. Сейчас из тебя будем делать инвалида войны.
Приоткрыв дверь, я вызвал «комсомольца», шепнул ему на ухо: «Действуй!» — а сам принялся распекать разведчиков.
— Шлыков, Мочану, Викула, Мартын! Как вам не стыдно! Воюете в «зеленке», друг друга из засад выручаете, раненых товарищей выносите, а в полк возвращаетесь и лупцуете молодежь! Вдруг завтра этот Лямин или другой молодой солдат возьмет и кого-нибудь из вас, не дай бог, раненого не понесет, бросит.
— Пусть только попробует! Я ему не вынесу! — прошипел грозно Мачану.
— Что-то ты разговорился, «молдован». Забыл, как мы за тебя с чеченцами воевали?
— А никто и не просил об этом.
— Никто не просит и сейчас, но теперь я возьмусь за вас.
В казарму забежал Пыж и сходу хлопнул ладонью в ухо каждому старослужащему. Они взвыли, потирая лица.
— Пыж! Николай! Без разрешения особо руки не распускай, — возмутился я.
— Разрешите, товарищ старший лейтенант, поговорить с этими болванами? — нахмурился начальник разведки батальона.
— Не возражаю. Но говорить с ними нужно чаще и до того, как они кулаками махать начинают! Ясно, товарищ старший лейтенант? — спросил я гневно.
— Так точно, товарищ старший лейтенант! — отрапортовал Пыж.
Мы разошлись в разные стороны. Я в ленкомнату (допрашивать молодежь), а Пыж в каптерку (пытать совместно с Бугримом «дедов»). Бойцы, как всегда, написали, что никто их не обижает, никто не издевается, все нормально и хорошо. Но Лямин в заключение беседы попросил перевода в другой батальон.
— Эх, солдат, там на дороге тоже не сахар, — обнял я за плечи пулеметчика. — Ты думаешь, там нет старослужащих? И там такие же болваны и негодяи встречаются. Но во втором и третьем батальоне — тоска! Будешь безвылазно сидеть на заставе.
— Прошу перевести куда-нибудь, а то ребята будут думать, что это я стуканул, и жизнь моя станет во взводе невыносимой.
— Ну, давай переведем в АГС.