Стать сильнее. Осмыслить реальность. Преодолеть себя. Всё изменить Браун Брене
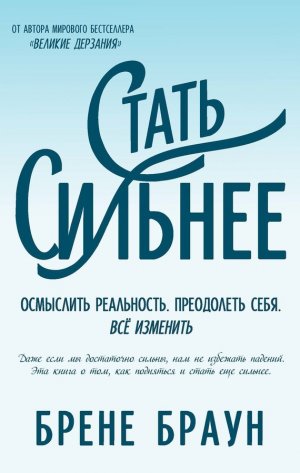
Сопереживание (сочувствие). Это самый мощный инструмент сострадания; это эмоциональный навык, который позволяет нам реагировать на других людей с заботой и вниманием. Сочувствие – это умение понять, что испытывает другой человек, и продемонстрировать это понимание. Важно отметить, что сопереживание – это именно понимание того, что чувствует другой человек. Если кто-то чувствует себя одиноким, сопереживание не требует того, чтобы мы тоже испытывали чувство одиночества; для сочувствия достаточно вспомнить собственный опыт, чтобы понять другого человека и поддержать его. Можно симулировать сочувствие, но, когда мы так поступаем, это не приносит нам ни исцеления, ни внутренней связи с тем, кто страдает. Условием для реального сочувствия является сострадание. Мы можем реагировать с сочувствием, только если готовы разделить боль другого человека. Сочувствие – противоядие от стыда и сердце взаимоотношений.
Симпатия. Симпатия возникла в моих исследованиях в качестве формы разобщения, а вовсе не в качестве инструмента для установления связей. Симпатия говорит об отстраненности. Когда кто-то произносит фразы вроде «Мне жаль…» или «Должно быть, это ужасно…», он на самом деле стоит на безопасном расстоянии. Вместо того чтобы использовать мощный инструмент сочувствия, который подсказывает: «И мне тоже!»; симпатия дает понять: «Не со мной!», а затем добавляет: «Но мне тебя жаль». Симпатия скорее причина стыда, чем средство исцеления от него.
Переворот
Надеюсь, что Клодия в процессе раскрытия своих неприятностей и в поиске своей дельты и новых знаний будет помнить, что выбор в пользу любопытства и внутренней связи вместо отстраненности или закрытости означает выбор в пользу мужества. И пусть ей будет больно, но это путь к состраданию и прощению. Люди с разбитым сердцем поистине самые храбрые среди нас, потому что они осмелились любить и решились простить.
Клайв Льюис очень красиво сказал об этом в эссе о видах любви и христианском ее понимании (и это одна из моих любимых цитат):
Любить – всегда означает быть уязвимым. Кого бы и что бы вы ни полюбили, ваше сердце будет похоже на выжатый лимон и, возможно, разорвется на кусочки. Если вы хотите сохранить его целым, вам ни в коем случае нельзя никому дарить свое сердце, даже животному. Заприте его в шкатулке, сделанной из хобби и поверхностных развлечений, избегайте вовлеченности. После аккуратно поместите его в непробиваемый саркофаг эгоизма. Только есть одно но… В таком надежном, недвижимом и чахлом гробу ваше сердце изменится… Нет, оно не остановится и не разобьется. Оно станет небьющимся, непроницаемым и безнадежным. Любить означает быть уязвимым…[13]
Глава восьмая
«Доверчивый человек»
Разбираемся с потребностью, отношениями, суждениями, чувством собственного достоинства, привилегией и просьбой о помощи
Отношения не существуют без того, чтобы давать и получать. мы нуждаемся в том, чтобы давать, и нуждаемся в том, чтобы нуждаться.
Апрель
Я позвонила Аманде в ту же минуту, когда прочитала о лекции в газете: «Энн Ламотт приезжает в город! Должно быть, это знак!»
Моя подруга Аманда (в прошлом аспирантка) разделяет мой энтузиазм по отношению к работе Ламотт, и поэтому мы запланировали вместе посетить ее лекцию. Аманда принадлежит к умнейшим из людей, которых я знаю, и никогда не уклоняется от хороших теологических рассуждений. По сей день мы порой ведем жаркие дискуссии о природе веры. Аманда, которая выросла на евангельском учении, как раз в то время начала исследовать другие выражения веры. Мы со Стивом раздумывали над тем, чтоб вернуться в церковь, по той же причине, что и многие люди: у нас были маленькие дети, и мы хотели найти для них основу, которая поможет им научиться делать свой собственный выбор.
Мы с мужем очень рады, что оба выросли в семьях с сильным духовным началом, но в какой-то момент мы почувствовали себя обманутыми религией и ушли из церкви. Ни один из нас не мог четко сформулировать, что мы чувствовали, пока я не услышала, что сказала Ламотт перед аудиторией со ссылкой на Пауля Тиллиха: «Противоположность веры – не сомнение, а определенность». Мы со Стивом ушли из религии не потому, что потеряли веру в Бога. Религия оставила нашу жизнь, когда начала ставить политику и определенность впереди любви и тайны.
Перед началом лекции в зале средней школы мы услышали выступление джазового квартета, которое сопровождалось фотографиями бездомных на большом экране. Это мероприятие было благотворительной акцией для сбора средств в пользу епископальной церкви в Хьюстоне, которая помогает бездомным. Спустя несколько минут на сцену вышел преподобный Мюррей Пауэлл и рассказал о работе, проводимой церковью, а потом представил Ламотт. Одна фраза из его выступления меня поразила. Он сказал: «Когда вы отворачиваетесь от бездомного человека, вы уменьшаете его и свою человечность».
Когда вы слышите нечто подобное, не надо даже полностью это понимать, чтобы знать, что это правда. Я знакома с отцом Мюрреем достаточно хорошо, чтобы знать, что это не было его целью, но, когда он произнес эти слова, я ощутила прилив стыда. Я вдруг подумала: «Он говорит обо мне. Я отвожу глаза».
Как исследователь, посвятивший годы изучению силы общности и связи, я должна лучше, чем кто-либо, понимать, что человеку необходимо быть увиденным. И все же я смотрю в сторону, даже когда открываю окно и протягиваю кому-то на улице бутылку воды и шоколадный батончик PowerBar или долларовую купюру. Я могу улыбнуться, но зрительного контакта я избегаю. И хуже того: я понятия не имею почему. И дело не в том, что я боюсь увидеть боль или страдание: я работала с жертвами насилия в семье в органах защиты детей и никогда не отворачивалась. Я сидела напротив обидчиков и скорбящих родителей и всегда смотрела прямо в глаза. Тогда почему же я не могу смотреть на людей, живущих на улице?
Поздно вечером перед сном мое любопытство вдруг пробудилось, как это часто бывает, в виде молитвы. Я молилась о помощи в понимании того, почему, несмотря на свои знания, я предсказуемо отворачиваюсь. На следующее утро я проснулась, ожидая получить ответ. Я даже полежала с закрытыми глазами в ожидании того, что понимание могло прийти за ночь, и вот сейчас оно меня накроет. Но нет… Ничего.
Отец Мюррей задел меня до слез, и я усердно молилась о понимании, но на этот раз понимание заняло девять месяцев любопытства, молитв и раскрытия. Вместо одномоментного прозрения я пережила ряд святых и нечестивых моментов, которые в конечном итоге поставили меня лицом к лицу с одним из самых больших моих страхов и научили именно тому, что святая Тереза Авильская имела в виду, когда сказала: «Больше слез пролито над молитвами, получившими ответ, чем над оставшимися без ответа».
Июнь
Нет ничего лучше теплого ощущения сопричастности чему-либо, которое приходит, когда вы являетесь частью чего-то, что вы любите или во что верите. И нет никакого более явного признака сопричастности, чем ваше имя и фотография в списке официальных членов. После двадцатилетнего перерыва в посещении церкви и годового поиска подходящей общины мы со Стивом наконец нашли большую церковь для нашей семьи. Рано утром в субботу мы приняли важное решение присоединиться к членам данной церкви, сделав семейный снимок для списка прихожан. Я проснулась рано, собралась, приготовила завтрак и нарядила детей. На один миг в автомобиле я ощутила чистую радость. Мы были вместе. Мы смеялись. В какой-то момент все четверо, даже Чарли, которому было тогда всего два года, запели вместе с Элисон Краусс, чей голос звучал по радио, псалом Down to the River to Pray («Вниз к реке помолиться»).
Когда мы подъехали к величественному собору, солнце сквозь шпили освещало двор. Я ощутила огромное чувство гордости оттого, что мы теперь принадлежим к церкви в центре Хьюстона с впечатляющей стопятидесятилетней историей. Это было священное и глубоко духовное место, которое помогает бездомным. Мне нравилась мысль о том, что самыми первыми членами нашей новой церкви были энергичные люди, которые съехались из разных уголков Соединенных Штатов, чтобы создать Республику Техас. Стив занимался парковкой, а я смотрела из окна с мыслью: «Это моя церковь. Я являюсь частью ее истории и сообщества, я чувствую свою сопричастность с людьми, которые посещали и развивали эту церковь».
Меня также приятно взволновала мысль о том, что у нас теперь есть место, куда мы всегда можем прийти. Теперь мы можем делать вклад в сообщество и тому же учить своих детей.
Как только мы припарковались, дети выскочили из машины и побежали к фонтану во внутреннем дворе. Я крикнула им вслед: «Не намокните! Не мочите руки в фонтане! Не трогайте грязное! У нас сегодня день съемки!» Стив покачал головой, как будто говоря: «Ну, удачи тебе».
Когда мы проходили мимо главного входа к боковой двери, я заметила стопку газет и немного мусора под навесом. «Это моя церковь. Этот мусор надо убрать». Я подошла и одной рукой сгребла мусор, а другой взяла газеты и пошла к мусорному контейнеру.
С каждым шагом я сильнее ощущала ужасную вонь. Инстинктивно я понюхала мусор в левой руке. Ничего особенного. Возможно, протухшая картошка фри. Потом я поднесла ближе к носу газеты в правой руке. Оценивая запах, в уме я прикидывала вес, плотность и вид газет, сложенных странным треугольником и образующих почти идеальный карман.
– Боже мой! Это дерьмо! Стив, помоги! Это дерьмо! Боже мой! Черт побери! Здесь кто-то нагадил!
Я с криком рванула к помойке. Я бросила все, что держала, и трясла пустыми руками над контейнером, как будто пыталась стряхнуть микробов. Стив буквально согнулся пополам в истерическом приступе хохота.
– Это не смешно. Почему ты смеешься? Боже мой! Черт побери, я такая грязная!
Стив давился от смеха:
– Да перестань ты! Не могу, это очень смешно!
Я возмущенно огрызнулась:
– Чего ты хохочешь? Ничего смешного, между прочим.
Стив перестал смеяться и сказал:
– Черт побери – в церкви, понимаешь? Черт побери!
И он снова расхохотался.
Я закатила глаза и направилась прямиком к туалету. После того как я четырежды вымыла руки с мылом, я поняла, что в этом действительно было нечто смешное. Когда я вышла, Стив ждал меня с выражением раскаяния на лице, которое быстро сменилось порывом неконтролируемого смеха.
На протяжении следующих нескольких месяцев я вспоминала о той стопке газет каждый раз, когда видела бездомных, которых, к сожалению, в Хьюстоне встречаешь почти ежедневно. Я думала об унижении не иметь возможности сходить в туалет нигде, кроме стопки газет у входа в церковь. Я думала о бездомных, с которыми работала в качестве социального работника, и о том, сколько среди них было ветеранов, и большинство из них боролись с травмой, зависимостью и психическими заболеваниями.
Я по-прежнему отводила взгляд, и инцидент с газетой заставил меня задаться вопросом, насколько это связано с ощущением, что я недостаточно помогаю другим людям. Моя реакция в ответ на дискомфорт – это порыв делать больше, помогать больше, давать больше! Может быть, я могла бы смотреть людям в глаза, если бы не ощущала стыд за то, что не помогаю. Таким образом, я увеличила свои пожертвования и заполнила машину водой и батончиками.
Но это не сработало. Что-то по-прежнему мешало мне смотреть в глаза бездомным людям за окном автомобиля.
Сентябрь
Ровно через три месяца после того дня в церкви я зашла в супермаркет за едой для друга, который восстанавливался после операции, а заодно и для себя. Когда я стояла возле полок с салатами и горячим питанием, я заметила наблюдавшего за мной человека. Это был белый мужчина средних лет в фланелевой рубашке, грязных джинсах и сапогах, покрытых грязью. Его глаз почти не было видно из-за надвинутой на лоб шапки. Он выглядел так, будто работал на стройке. Возможно, я бы не заметила его, если бы он не стоял на одном месте, переминаясь с ноги на ногу и изучая полку с горячей едой.
Мы посмотрели друг другу в глаза, я смущенно улыбнулась и отвернулась. Он вдруг вытащил из кармана телефон и начал говорить. Как человек, который использует телефон в качестве защиты в неловких ситуациях, я поняла, что на другом конце провода никого нет. Мои подозрения подтвердились, когда парень сунул телефон в карман на полуслове, как только я подошла к другой стороне полки с горячей едой.
Я взяла контейнер с супом из чечевицы для своего друга. Когда я подошла к полке с салатами, я взглянула на парня – тот казался странным. Каждый раз, когда я пыталась поймать его взгляд, он отворачивался, когда же я замечала, что он смотрит на меня, сама отводила глаза.
Я уже убирала еду в сумку, когда краешком глаза заметила какую-то суету. Парень подбежал к стойке с горячими блюдами, обеими ладонями зачерпнул жаркое, соус, жареные овощи и побежал к двери. Кроме меня, это видела еще одна женщина, которая стояла неподалеку: одной рукой она держала корзину, а другой закрывала рот от удивления, так была изумлена.
Подбежал сотрудник и спросил, что случилось. Я объяснила, он покачал головой, быстро схватил большой металлический поддон, на котором оставалось жаркое, и поспешил обратно на кухню. Я наблюдала, не в силах сдвинуться с места.
Что, черт возьми, случилось? Парень нашел безопасное место, где можно поесть, или ел на ходу? Я улыбнулась ему. Почему я отворачивалась, когда он смотрел на меня? Может быть, он пытался что-то сказать мне. Я могла бы купить ему настоящий обед. В контейнере. С вилкой. Обожгла ли еда ему руки? Никто не должен так вести себя с едой.
Тогда я начала задаваться вопросом: что, если мой дискомфорт в меньшей степени связан с тем, что я мало помогаю, и в большей – с моими привилегиями? Может быть, я избегаю смотреть людям в глаза, потому что плохо знакома со своими привилегиями? Я сейчас больше зарабатываю. Мой автомобиль каждый день на ходу. Мы больше не экономим электричество. Я не беру дополнительные смены барменом, чтобы заплатить за жилье. Никто не смотрит на меня в супермаркете и не задается вопросом, что я тут делаю.
В свое время мне выпала большая честь преподавать на курсах по вопросам расы, класса и пола при Университете Хьюстона, в одном из самых этнически и расово неоднородных научно-исследовательских институтов в США. Я довольно много узнала о привилегиях и поэтому понимаю, что самый опасный момент наступает, когда мы предполагаем, что узнали все, что нужно знать. Вот именно в этот момент мы перестаем обращать внимание на несправедливость. Привилегия – это когда мы не обращаем внимания на несправедливость по отношению к другим, потому что нас самих не коснулись преследования, увольнения или низкая оплата труда. Может быть, мне надо подумать о привилегиях; поразмыслить о своем выборе и признать, что, выбирая, что мне видеть, а что нет, я использую одну из самых пагубных функций привилегии.
Чтобы признать привилегии и принимать меры по отношению к несправедливости, нужно сохранять постоянную бдительность. Но привилегия была не единственной проблемой на моем пути. Раскрытие продолжалось.
Январь
Несколько месяцев спустя холодным январским днем раздался один из тех звонков, которые не просто замедляют время, но и без предупреждения все меняют. Это была моя сестра Эшли: «Что-то не так с мамой! Она упала в обморок прямо на улице. С ней что-то не так!»
Я отношусь к тем людям, которые хронически и навязчиво репетируют трагедию, полагая, что это гарантирует им подготовленность, когда что-то произойдет, или я думаю, что трагедия никогда не случится просто потому, что я готова к ней. В конце концов, я пожертвовала радостью в момент ее переживания ради попытки предотвратить будущую боль. Теперь я хочу получить меньше боли, меньше страха, меньше паники. Но продавать радость, чтобы уменьшить уязвимость, – это сделка с дьяволом. А дьявол никогда не платит. Таким образом, в момент звонка сестры я не испытала ничего, кроме страха и ужаса. Ничего не может случиться с моей мамой. Я не переживу этого.
Через полчаса после звонка мы со Стивом и Эшли уже находились в отделении «Скорой помощи». Мы ютились вместе в ожидании кого-то, кто скажет, что происходит с мамой там, за дверями. Я не сомневалась, что происходит что-то серьезное. За этими дверями было много суеты, плюс все было написано на лице Стива. Хорошая новость в таких случаях заключается в том, что Стив – врач и он может объяснить, что происходит. Но плохая новость в том, что я смотрю в его глаза уже двадцать пять лет и знаю, когда он боится или обеспокоен.
Никто не должен выйти из тех дверей с таким взглядом. Я не позволю никому выйти из этих дверей с таким взглядом. Я отказываюсь. Я не могу этого допустить.
Наконец вышла медсестра, что-то сказала Стиву о сердечном катетере для мамы. Стив объяснял нам, как работает сердечный катетер. Сердце моей мамы почти остановилось. Электронная система, которая управляет ее сердцебиением, отключилась, и была зафиксирована очень низкая частота сердечных сокращений, в результате маму перевели в реанимацию кардиологического отделения.
Я вообще ничего не понимала. Моя мама была здорова. Она была молода и активна, она работала полный рабочий день и жила на черных бобах и шпинате.
Врач объяснил, что операция запланирована на следующее утро и через несколько часов мы сможем увидеть маму. Мы остались в больнице и ждали. Моя другая сестра, Барретт (близнец Эшли), приехала из Амарилло, а брат был на телефоне в Сан-Франциско.
Медленно и незаметно мое физическое состояние улучшилось. Я не знаю, была ли это реакция на мою собственную боль или на страдания младших сестер, но я стиснула зубы и приняла решительный вид. Слезы прекратились, плечи выпрямились. Я решительно обняла сестер. Я стала их защитницей – как в тот день, когда собрала всех в своей комнате во время развода родителей. Такой же защитницей я оказывалась, когда трудности случались у моих сестер или брата. Это моя роль. Сородительница. Пока я играю эту роль, я решительна и тверда. Я – защитница. И к сожалению, беру на себя слишком много.
В книге The Dance of Connection («Танец связи») Харриет Лернер объясняет, что у каждого человека свои способы управления тревожностью, некоторые берут на себя слишком много, в то время как другие стараются уйти от ответственности. Люди первого типа, как правило, быстро реагируют советами, помощью, решением и вникают в чужие дела, не думая о себе. Люди второго типа, как правило, стараются уйти от ответственности в условиях стресса: они приглашают других взять эту ношу на себя и часто сами оказываются в центре внимания. Люди первого типа кажутся довольно жесткими, второго типа – безответственными или хрупкими. Люди быстро привыкают к поведенческим моделям и действуют согласно тем ролям, которые привычно играют в своих семьях. Обычно старшие дети в семье склонны брать на себя больше… Конечно, это мой случай.
Когда нам наконец позволили увидеть маму, мои сестры пытались держаться, но все было написано на их лицах. Я же, наоборот, была смелой и решительной. «Что тебе нужно привезти из дома? – спросила я. – Что сделать? Кому нужно позвонить? Что нужно сделать дома?» В этом плане мы говорим с мамой на одном языке и поэтому быстро составили длинный список дел. Когда пришел врач и хотел пожать руку отчиму, я перехватила его руку, представилась и начала выуживать из него информацию. Отчим отступил и позволил мне вести шоу.
После этого мы перегруппировались на первом этаже больницы. Холл больницы в Хьюстоне прекрасен – много места, удобные столы, вазы с цветами, скульптуры, даже рояль. Это замечательно, но немного странно. Каждый раз, когда я прохожу через этот холл, он мне напоминает фойе отеля с одним но: инвалидные коляски и пациенты в халатах.
Стоя рядом с роялем, я вытащила мамин список и начала делегировать полномочия.
– Эшли, можешь съездить к маме домой и взять все ее лекарства? Положи их в сумку вместе с витаминами. Барретт, позвони, пожалуйста, Джейсону и расскажи, как дела у мамы. Еще нам нужно привезти ей хлопковые пижамы.
Я записывала инициалы моих сестер рядом с каждым пунктом и начала нервничать по поводу сокращающегося числа пунктов. Мама хотела, чтобы я привезла ей кое-что из магазина, но этого было недостаточно, чтобы занять меня.
– Знаете что? Я сама съезжу за мамиными лекарствами. Я знаю, где она их держит. И, Барретт, я сама позвоню Джейсону. Он переживает, и разговор будет трудным, потому что он далеко. А еще я знаю, где взять пижамы для мамы.
Я изучала список и кивала головой, гордясь своим решением взять на себя все хлопоты. Да. Так намного лучше. Будет лучше, если я сама все это сделаю. Буквально за один миг я изменила инициалы напротив пункта в списке. Мои сестры отступили и перешептывались друг с другом, когда же я наконец взглянула на них, они держались за руки и смотрели прямо на меня.
– Что? В чем дело? Что? – спросила я нетерпеливо.
Эшли сказала:
– Ты берешь на себя слишком много.
Барретт подхватила:
– Мы можем помочь. Мы знаем, что делать.
Я вдруг обмякла, уронила список на пол, упала в кресло и начала всхлипывать. Люди обычно плачут в залах ожидания наверху, но не в холле. Я понимала, что устроила сцену, но остановиться не могла. Мои сестры пробили мою броню. Как будто сорок лет действий вместо чувств догнали меня. Эшли и Барретт тоже плакали, но они поддержали меня и сказали, что все будет хорошо, что они позаботятся друг о друге и о маме. Мой отчим Дэвид, который наблюдал все это на протяжении часа (и последних двадцати лет), поцеловал каждую из нас в лоб, принял мои извинения за то, что я так грубо повела себя в палате, и удалился со списком.
Надо сказать, что тут проявлялась и личная история подъема моей мамы. Ее выбор и работа, которую она проделала над собственной жизнью, не только спровоцировали мое любопытство, они также преобразовали жизнь моих сестер и брата. Мама пачками покупает важные книги, вроде «Танца связи» Харриет Лернер, и раздает нам. В этом нет нежности, но это эффективно. Мы с сестрами оказались способными во многом разобраться, потому что мама сделала так, чтобы мы были знакомы с идеями и информацией, которая была недоступна ей самой в молодости.
Разглядывая реакции на сложные ситуации сквозь призму уязвимости, легко понять, что оба типа поведения – это форма защиты от страха и неуверенности.
Много на себя брать: я не буду чувствовать, я буду делать; мне не нужна помощь, я сама помогу.
Уходить от ответственности: я не буду ничего делать, я расстроена; я не буду помогать, мне самой нужна помощь.
Мамина операция на следующее утро прошла успешно, и к вечеру мы уже сидели с ней в больничной палате. Кто-то принес брошюру о ее новом кардиостимуляторе. На обложке брошюры была изображена седая пара в светлых свитерах на велосипедах. Мы с сестрами шутили по поводу ее новой жизни на велосипеде и в свитере. Мы все смеялись, пока не заплакали. Потом нас попросили уйти и вернуться через час, поэтому мы решили провести это время за обедом в небольшом мексиканском ресторанчике быстрого питания.
На улице уже стемнело, и, хотя Техасский медицинский центр Хьюстонского комплекса, где расположена больница, – крупнейший в своем роде, на улице вечером довольно мало прохожих. В ресторане мы с Эшли были у кассы, когда услышали, что Барретт говорит повышенным тоном. Я обернулась и увидела человека, завернутого в одеяло, которого выталкивал на улицу служащий ресторана. Он нечаянно задел локтем Барретт, и она закричала: «Что вы делаете?» Все это заняло меньше минуты и расстроило всех нас, особенно Барретт. Мы пытались есть, но кусок не лез в горло из-за всех эмоций, скопившихся за день, и этого маленького инцидента. Мы ушли из ресторана и вернулись в больницу.
Когда мы перешли улицу и подошли к больнице, то снова увидели этого мужчину в одеяле. Это был афроамериканец лет двадцати-тридцати. Лицо и волосы у него были в пыли. Очевидно, ему многое пришлось пережить. Проработав несколько лет в сфере домашнего насилия, я узнала этот взгляд. Удары по лицу на протяжении продолжительного периода времени меняют саму структуру костей.
Я попыталась подойти к нему, чтобы спросить, можем ли мы купить ему ужин или как-то помочь. На мгновение наши глаза встретились, и он поспешил прочь. Я увидела в его глазах такую боль, что мне стало не по себе. Его глаза, казалось, говорили: «Это не должно было случиться. Это не должно быть моей жизнью». Я снова начала плакать, спрашивая сестер: «Как такое может произойти с человеком, как? Как до этого дошло?»
Мы устали и физически, и психически. Вернувшись в больницу, мы провели еще с полчаса с мамой, пока нас не попросили покинуть помещение на ночь.
На следующее утро я приехала в больницу рано утром. Когда автоматические стеклянные двери открылись, я улыбнулась, потому что величественный вестибюль заполняла музыка. И не просто какая-то музыка. Кто-то играл на рояле отрывок из мюзикла «Кошки» Эндрю Вэббера. Когда я проходила мимо, то увидела пианиста. Я не могла поверить своим глазам. Это был тот же бездомный человек, которого мы встретили накануне вечером. Его одеяло лежало на стуле, на котором он сидел, руки быстро двигались по клавишам. Я подошла к женщине за стойкой регистратуры и сказала:
– Я видела этого человека прошлым вечером. Я думала, он бездомный.
Она ответила:
– Да. Он знает только пару песен. Он играет их снова и снова, пока охранники не выгонят его.
– Но я не понимаю. Где он живет? Кто он? – спросила я.
Регистраторша продолжала работать с картами:
– Не знаю. Он приходит сюда уже примерно год.
Музыка прекратилась. Охранники велели мужчине собрать свои вещи и вывели его наружу. Я все еще была в шоке, когда добралась до маминой палаты. Мама сидела и ела. К ней вернулся прежний цвет лица, и она была настроена поболтать.
– Ты выглядишь так, будто только что увидела призрак, – сказала она.
– Хуже, – ответила я. – Я вижу реальных людей и знаю, что они пытаются научить меня чему-то, но я не знаю чему.
Я рассказал ей историю о мусоре в церкви, о парне в супермаркете и о пианисте. Она отложила вилку, откинулась на подушку и сказала:
– Я расскажу тебе одну историю про бабушку.
Я уютно устроилась у нее в ногах на кровати и слушала.
Когда моя мама училась в начальной школе, она с родителями жила в половине квартала от железной дороги в Сан-Антонио. В конце улицы был виадук – маленький арочный кирпичный мост, по которому проезжал поезд. С обеих сторон путепровода был холм, покрытый кустарниками и растениями, то есть это было идеальное место для бродяг, спрыгивающих с подножек вагонов.
Моя бабушка хранила под раковиной пять металлических тарелок, пять металлических стаканов и пять вилок. Она всегда готовила еды больше, чем могла съесть семья, и, по словам мамы, бродяги постоянно приходили к ней за ужином. Они садились на крыльце или на веранде, и бабушка накрывала им ужин в специально приготовленной для них посуде. После трапезы бабушка кипятила посуду и складывала ее обратно под раковину до прибытия следующей группы.
Когда я спросила маму, почему бабушка доверяла им и почему они доверяли ей, та сказала:
– Мы были помечены.
Бродяги использовали систему маркировки на бордюрах в районе, чтобы указать, у кого безопасно, а у кого – нет, кто может их накормить, а кто – нет. Позже я узнала, что, возможно, так и возник термин «доверчивый человек».
Мама объяснила, что бабушка доверяла им по двум причинам. Во-первых, у женщины по нашей улице был брат, который вернулся со Второй мировой войны и стал бродягой. Бабушка никогда не думала об этих людях как о «других», потому что она знала бродяг лично и, что еще более важно, сама считала себя «другой». Она пережила бедность, домашнее насилие, развод и свой собственный алкоголизм (она бросила пить, когда я родилась). Она никого не осуждала.
Во-вторых, у бабушки не было никаких проблем с нуждой. «Она не боялась нуждающихся людей потому, что не боялась собственной нужды, – так мне объяснила мама. – Она с легкостью дарила свою доброту другим, потому что сама опиралась на доброту людей».
Нам с мамой не надо было разъяснять смысл этой истории. Мы обе понимали, что именно было у бабушки, чего мы с мамой были напрочь лишены: способность принимать. Мы с мамой не очень-то умеем просить или получать помощь. Мы – дарители. Бабушка любила получать. Она радовалась, когда друзья приносили свежеиспеченные пироги или когда я предлагала сходить с ней в кино. Она не стеснялась просить о помощи, когда ей это было нужно. И конечно, надо сказать, что в конце жизни, когда она страдала болезнью Альцгеймера, именно доброта других людей продлевала ей жизнь.
Когда я вернулась домой в тот вечер, Стив с детьми были на футбольном матче. Я сидела на диване в темноте и думала о бабушке и об одном из самых тяжелых переживаний в своей жизни. Смерть сына Ронни усугубила психическое и эмоциональное состояние бабушки. Однажды одна из ее соседок позвонила маме и сказала, что ее беспокоит состояние бабушки, которая ходит по улице в длинном пальто на голое тело и в ковбойских сапогах, стучится в двери и спрашивает соседей, слышали ли они что-нибудь о смерти Ронни.
Оставлять ее одну было опасно. Мы боялись, что она может уйти и заблудиться, оставить зажженную сигарету в пепельнице или не выключить газовую плиту. Моя мама, которая жила в Хьюстоне, старалась найти подходящее учреждение. Я жила в то время в Сан-Антонио и пыталась максимально помогать. Бабушка иногда оставалась у меня на квартире, но каждый раз, когда мы забирали ее из родного дома, она была дезориентирована и тревожна. Еще до того, как мы со Стивом поженились, он сидел с ней несколько вечеров, чтобы я могла пойти на работу.
Однажды перед тем, как она переехала в пансионат в Хьюстоне, я заметила, что она перестала мыться. Бабушка была грязной. Я набрала ей ванну и достала чистое полотенце, а она просто стояла и улыбалась мне.
– Помойся, ба. Я побуду здесь, а потом приготовлю нам ужин.
Она только улыбнулась и подняла руки вверх. Она хотела, чтобы я ее раздела. Я сняла рубашку, поцеловала ее в лоб и вышла из ванной, надеясь, что она сама все сделает. Мне было двадцать девять лет, и я была в ужасе.
Я не уверена, что могу сделать это. Я никогда не видела ее без одежды. Я не знаю, как мыть кого-то. Черт, соберись, Брене. Это твоя бабушка. Она купала тебя тысячу раз!
Поэтому я вернулась к бабушке, раздела и усадила ее на стул в ванне. Она улыбнулась и расслабилась, пока я намыливала ее и смывала пену. Когда она откинулась назад и закрыла глаза, я просто держала ее за руку. Конечно, болезнь сделала ее беспомощной и даже похожей на ребенка, но не больной ум помог ей избавиться от стыда, а ее огромное доброе сердце. Она знала правду: мы не должны делать все в одиночку. Этого никогда не предполагалось.
Как только я вспомнила тот момент в ванной, я точно поняла, почему я отворачиваюсь. Я настолько боюсь своей собственной нужды, что не могу смотреть в глаза нуждающимся.
Распознавание эмоций
Эта история – прекрасный пример того, как процесс подъема может растянуться на несколько месяцев и даже лет. Причина, по которой я называю подъем практикой, заключается в том, что, если бы я не проявляла любопытство после каждого из своих переживаний, я бы не смогла ни в чем разобраться. Если бы я не связала между собой эти инциденты общим дискомфортом, который они во мне вызывали, я бы не смогла подобраться ближе к пониманию ключевых моментов моего взаимодействия с миром и людьми вокруг меня.
В этой истории было несколько моментов, от которых у меня перехватывало дыхание, но распознавание эмоций произошло на лекции Энн Ламотт. Момент падения произошел, когда отец Мюррей сказал о том, что выбор не видеть других людей принципиально снижает нашу человечность и общность с ними. Я не уверена, что раньше осознавала смысл его слов. Это был тихий момент: я не дрогнула, не заплакала, не разозлилась. Вы бы даже не заметили моего момента падения, но я его почувствовала. И из зала я выходила с решимостью разобраться.
Может быть, часть цитаты Рузвельта: «…уважения достоин тот, кто на самом деле находится на арене, у кого лицо покрыто потом, измазано кровью и грязью…» – это как раз об эмоциональном падении, а не о физическом. Направляясь домой после лекции, душевно я чувствовала себя совершенно разбитой. Отец Мюррей пролил свет на темную, неизведанную сторону моего поведения, и я знала, что мне придется изменить то, с чем я столкнулась.
Раскрытие
Мой ОПН начался в машине по дороге домой с лекции как разговор с самой собой, который потом плавно перетек в беседу со Стивом. В конечном итоге вот что я написала в своем журнале:
Я недостаточно помогаю другим людям.
Мне стыдно оттого, сколько у меня есть и как мало я делаю для других, и поэтому я не могу смотреть в глаза тем, кому могу помочь.
ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ!!!
Мой ОПН был основан на традиционных выдуманных объяснениях, которые обеспечивали мне самозащиту и обостренное чувство вины по отношению к другим людям, но проблема в том, что это была полуправда. Мне действительно нужно убедиться, что я помогаю. Мне нужно некомфортное понимание своих привилегий. Но спустя полгода, пройдя через три мощных переживания, в которых мне пришлось противостоять своему дискомфорту, я поняла, что реальная причина, по которой я отворачиваюсь, – это не страх помогать другим, а страх самой, оказавшись на их месте, нуждаться в помощи.
Мое раскрытие стыда, осуждения, привилегий, связи, потребности, страха и чувства собственного достоинства научило меня, что не боль заставляла меня отвернуться. Это была моя собственная потребность. Акт 2 полностью посвящен попыткам найти удобный способ решить проблему, пока варианты не закончатся, и нужно, не боясь, окунаться в дискомфорт. Мне вполне удобно помогать и давать. Я хотела решить эту проблему, делая больше, чем уже делаю. Когда оглядываюсь назад на этот пример, думаю, что мы часто стараемся решать проблемы, делая больше того, что не работает, не приносит результатов. Мы делаем все, чтобы избежать самого трудного – самоанализа.
И, как выясняется, я не уверена, что сильна в помощи другим. Разве можно чувствовать себя поистине комфортно перед лицом чьей-то необходимости, когда мы отрицаем свою собственную потребность в помощи? Искренность – это желание не только давать, но и получать. Дельта не означает необходимость полностью переписать всю свою историю побед, проб и ошибок, а добавить и интегрировать новые ключевые знания в существующую историю, неполную и местами ошибочную. Это означает оглянуться на свою собственную историю жизни.
С юных лет я поняла, что любовь, похвалу и благодарность можно заслужить, помогая другим людям. И я выбрала эту роль в своей семье, с друзьями и даже с некоторыми из моих первых парней. Через некоторое время помощь стала важна не столько для похвалы, сколько для самоопределения. Помощь стала основой в отношениях. Если я не могу помочь или, не дай бог, если мне придется обратиться за помощью, то зачем я нужна?
С годами я бессознательно выработала для себя систему ценностей, которая помогла мне осмыслить свою роль: я стала смотреть на помощь таким образом, чтобы чувствовать себя нормально и не испытывать переживаний оттого, что не позволяю себе просить помощи у других. Аксиома этой опасной системы была простой: помощь другим – это признак силы, сострадания и общности. Обращение за помощью – признак слабости. Из этого подхода родился еще более неправильный образ мыслей: если я не чувствую себя достаточно щедрой или смелой, значит, я недостаточно помогаю другим.
Ключевые выводы из раскрытия этой темы поставили под вопрос саму систему.
Когда судишь себя за просьбу о помощи, судишь тех, кому помогаешь. Когда ценишь помощь, которую оказываешь другим, ценишь и свою потребность в помощи.
Опасность зависимости самооценки от оказания помощи в том, что становится стыдно самому обращаться за помощью.
Оказание помощи означает смелость и сострадание, но то же самое означает и обращение за помощью.
Переворот
Ты можешь всегда что-то делать для других, и позволь другим что-то делать для тебя.
Боб Дилан
Это очень важная строчка из стихотворения Дилана (мне нравится его лирика), потому что многие из нас хорошо умеют оказывать помощь, но не умеют ее получать. Оказание помощи лишь иногда может соседствовать с уязвимостью, а вот просьба о помощи всегда связана с риском уязвимости. Это важно понять, потому что мы не можем встать на ноги после падения без помощи и поддержки. Каждому нужны люди, к которым можно обратиться за помощью, когда разбираешься с наиболее сложными моментами в своей жизни. Я обычно обращаюсь к людям, которым доверяю больше всего: к Стиву, сестрам и маме. Я также сильно полагаюсь на моего психотерапевта Диану.
В своей работе с лидерами в программе Тhe Daring Way мы говорим о том, что значит доверять людям. Мы просим лидеров определить два или три конкретных типа поведения, которые позволяют им доверять другим, и вот каковы два самых распространенных ответа:
Я доверяю людям, которые сами не боятся обратиться за помощью или поддержкой.
Если кто-то просит меня о помощи, я, скорее всего, буду доверять ему, потому что он готов быть открытым и честным со мной.
Это упражнение становится еще интереснее, когда руководители, в свою очередь, рассказывают, насколько им самим сложно обратиться за помощью и поддержкой. Сколько раз мы просим людей, которые работают на нас, не стесняться обращаться за помощью? Опыт показывает, что простое озвучивание этой просьбы не способствует тому, чтобы они действительно обращались за помощью. Но чем чаще руководители сами демонстрируют обращение за помощью, тем подчиненным становится проще просить. Предоставление и получение помощи должны быть частью культуры, и лидеры прежде всего должны показывать это на своем примере, если стремятся к инновациям и росту.
В книге «Дары несовершенства» я определила связь как «энергию, которая появляется между людьми, когда они чувствуют, что их видят, слышат и ценят; когда они могут давать и получать без осуждения; когда они черпают из отношений жизненные силы». Связь между людьми не может существовать без оказания и получения помощи. В нас заложена потребность «давать и получать» – как на работе, так и в личной жизни.
В культуре недостаточности и перфекционизма просьба о помощи может соотноситься со стыдом, если в детстве нас не научили тому, что обращение за помощью свойственно людям и является основополагающим моментом для связи и взаимоотношений. Мы можем поощрять своих детей, когда они обращаются за помощью, но если они видят, что мы сами не идем за поддержкой и не моделируем это поведение, то будут ценить как раз отказ от помощи. Мы также посылаем мощные сигналы окружающим, в том числе своим детям, друзьям и сотрудникам, когда они просят о помощи, а мы при этом, в свою очередь, начинаем относиться к ним по-другому, словно от их просьбы о помощи снизилась их надежность, компетентность и эффективность.
Суть в том, что мы нужны друг другу. И речь идет не просто о ежедневных потребностях населения цивилизованного мира. Ни один из нас не способен прожить жизнь без самой отчаянной и пронзительной потребности в помощи, и мы лицом к лицу сталкиваемся с этим на примере людей, которые преодолевают большие трудности.
Эта зависимость начинается с рождения человека и длится до самой его смерти.
Мы спокойно принимаем свою зависимость от других в младенческом возрасте и в конце жизни. Но в середине жизни мы становимся жертвой мифа о том, что успешные люди – это те, кто помогает, а не нуждается, и только сломленным нужна помощь, а сами они помочь другим не могут. Мы можем даже платить за помощь и создавать видимость, что мы полностью самодостаточны. Но истина в том, что ни деньги, ни влияние, ни ресурсы не смогут изменить нашу физическую, эмоциональную и духовную зависимость от других. Ни в начале жизни, ни в середине, ни в конце ее.
Для большинства из нас быть доверчивым человеком означает быть чурбаном или простофилей, то есть мы ассоциируем помощь со стыдом и слабостью, свойственным бездомным. Для незнакомцев, которые делили хлеб в доме моей бабушки, «пометка» была признаком мужества и сострадания. Для бабушки же щедрость и оказание помощи не были антонимами получения помощи: они были показателями сплоченности между людьми.
Глава девятая
Признание неудачи
Разбираемся со страхом, стыдом, перфекционизмом, виной, ответственностью, доверием, неудачей и сожалением
Сожаление – это жестокий, но справедливый учитель. Жить без сожаления означает думать, что мы и так всё знаем, нам нечему учиться, нам нечего исправлять и у нас нет возможности стать смелее в дальнейшем.
Эндрю на протяжении двенадцати лет работает в процветающем рекламном агентстве. Он известен на работе как человек вдумчивый и внимательный; его считают экспертом в области стратегии и хранителем корпоративной культуры. Коллеги отзываются о нем как о человеке, который не любит болтать попусту, но всегда высказывает что-то дельное, и все к нему прислушиваются. Все ценят его точку зрения в том, что касается оценки затрат при формировании предложений. Один коллега сказал о нем: «На Эндрю все и держится. Его слово – золото, и все ему доверяют».
Эндрю входит в небольшую группу топ-менеджеров, с которыми я встречалась для обсуждения процесса подъема после падения. После встречи Эндрю, как и Клодия, решил лично поделиться со мной своим болезненным опытом неудачи на работе. Я признательна ему и двум его коллегам за интервью. Его опыт позволил мне много нового узнать о себе. Возможно, и вы вынесете для себя что-то полезное.
В большинстве рекламных агентств команды в ответ на заявки потенциальных клиентов создают свои предложения, которые включают творческие концепции и оценочную стоимость их выполнения. Это работа, сопряженная с высоким уровнем стресса, отличающаяся жесткой конкуренцией среди рекламных агентств за клиентов и трениями между творческими и оценочными подразделениями компании. Креативщики стремятся удивить клиентов, а оценщики должны убедиться в прибыльности проекта. Одна из основных обязанностей Эндрю – контроль над финансовой сметой и утверждение окончательного бюджета каждого предложения. То есть, по сути, нужно сказать потенциальному клиенту: «Мы можем сделать это вот за такие деньги».
Поскольку Эндрю всегда сглаживает напряжение между креативщиками и оценщиками, его уважают и любят и те и другие. Коллега из творческой команды сказал: «Если Эндрю говорит, что нужно сократить расходы, то я знаю, что он хорошо все продумал и понимает, что просит меня сделать, – и я это делаю». Один из подчиненных Эндрю сказал: «Я учусь у него и доверяю ему на 100 %. Он один из самых педантичных людей, которых я знаю, и очень порядочный человек».
Доверие и влияние, которые с годами заслужил Эндрю в компании, определили его неофициальный статус в качестве хранителя корпоративной культуры. Он признал, что время от времени между коллегами может возникать напряженность, но у него нет терпимости к сплетням, фаворитизму и переговорам за спиной. Даже в самых горячих спорах, которых немало, он всегда прямолинеен, уважителен и ценит каждую точку зрения. Это задает тон всему агентству.
Когда я спросила Эндрю, как ему удается так хорошо справляться со своей работой, он ответил: «Безусловно, у меня есть набор навыков, которые помогают свести воедино процесс творчества и управления с точки зрения времени и затрат, но ключевой момент состоит в том, что я хорошо знаю себя. Вы должны знать ваши слабые места. У каждого они свои». Я попросила Эндрю назвать пять наиболее распространенных слабых мест.
Эмоциональные шоры. Я так много эмоций вкладываю в работу с данным клиентом, что не замечаю, что для подобного объема работы нашу заявку слишком дешево ценят.
Убыточный товар. Я убежден, что большая скидка на этот проект, даже если мы будем делать его себе в убыток, приведет к будущей работе, которая будет более прибыльной и в конечном итоге компенсирует этот убыток.
Неизведанная территория. В этой сфере у меня нет никакого опыта. Я не знаю того, что я не знаю.
Победа любой ценой. Я пристрастился к трепету победы. Другой вариант: моя самооценка связана с тем, сколько я приношу бизнесу.
Оборонительная позиция. Я должен защитить свою сферу влияния на существующего клиента, затруднив доступ к нему конкурентов через ценообразование, даже если мы понесем убытки.
Когда я записывала этот список, то сразу заметила, насколько эти слабости распространены в повседневной жизни. Я сказала Эндрю, что сама сотни раз сталкивалась с похожими слабостями, хотя никогда не работала над рекламными предложениями. Я часто видела эмоциональную истощенность, зацикленность на будущем, видение только краткосрочной перспективы, желание побеждать и защищать. Мы немного посмеялись, потом Эндрю сказал уже серьезно: «Но иногда наибольшая угроза кроется в том, что человек постоянно смотрит вниз, сосредоточившись на том, чтобы избежать провала, и не видит, куда он идет и почему». Вот его история.
Все в агентстве были в восторге, когда их попросили подготовить проект рекламной кампании для известной и влиятельной торговой марки. Предложение было особенно привлекательным, потому что потребности бренда очень хорошо пересекались с сильными сторонами агентства. Творческая группа радовалась большому бюджету, открывавшему возможность продемонстрировать свою работу. Креативщики лелеяли надежду добавить известную компанию в список своих клиентов. Команда оценщиков увидела огромный потенциальный доход от этого нового стратегического партнерства. За несколько часов атмосфера в офисе прониклась всеобщим воодушевлением. Люди звонили домой, чтобы предупредить, что в течение следующих двух месяцев они будут много работать, ведь этот проект означал аврал.
Однако Эндрю не был настолько воодушевлен, как другие. Все были и так уже на пределе. У агентства было несколько разных проектов на стадии проектирования и исполнения. Добавление еще одного, особенно такого крупного, могло стать сверхзадачей для сотрудников. Также его терзали неоднозначные чувства по поводу репутации клиента, о котором поговаривали, что он плохо относится к партнерам. Один из его хороших друзей, коллега, который работал в смежной области, когда-то описал клиента как несговорчивого задиру. Эндрю как раз обдумывал эти проблемы, когда зашел Мануэль (старший член творческой группы).
– Только подумай, как здорово, – сказал Мануэль. – Все так рады этому проекту, и мы сможем его сделать.
Его энтузиазм был заразителен, а Эндрю не хотел, чтобы его сомнения охладили пыл коллектива, поэтому он согласился:
– Да, я знаю. Мы можем сделать этот проект.
Эндрю обычно взвешивал свои ответы, но он всегда любил сложные задачи и мог заразиться всеобщим энтузиазмом.
Следующие несколько недель Эндрю много работал над предложением для первого отборочного тура. Управление внутренними отношениями и обеспечение сплоченности сотрудников в течение этого периода занимали все его рабочее время. Когда люди напряжены, это сказывается на работе. Двадцать четыре часа в сутки Эндрю повторял себе, менеджеру и креативному директору: «Мы можем сделать этот проект».
Несмотря на усталость и жесткую динамику нагрузки, все агентство возликовало и устроило вечеринку, когда проект прошел во второй отборочный тур. Победа пролила бальзам на душу эмоционально и физически измотанных сотрудников.
Но Эндрю продолжало беспокоить бремя тяжелой нагрузки, которой обернулся этот проект, к тому же его не покидала озабоченность из-за репутации клиента, но так много было уже вложено в работу, что он отложил свои переживания в сторону и присоединился к празднованию.
Во втором отборочном туре Эндрю и еще несколько сотрудников полетели на личную встречу с представителями компании-клиента, специализирующимися на бренде. По словам Эндрю, «именно тогда все пошло не так».
– Почти целый час я наблюдал, как мои коллеги вкладывали сердце и душу в объяснение наших идей и концепций, – сказал он. – При этом представители клиента сидели уткнувшись в свои ноутбуки и, похоже, вообще не слушали. Мы привыкли к некоторой степени невнимательности во время подобных встреч, но тут люди попросту не обращали внимания на нашу презентацию.
Двое потом задавали вопросы, которые были рассмотрены по ходу дела, и это подтвердило, что они были слишком заняты электронной почтой или чем-то еще и абсолютно не слушали, о чем шла речь. Потом и третий представитель клиента сделал неуместный и неуважительный комментарий к презентации.
Эндрю сказал мне:
– Я ничего не смог сделать.
Он взглянул на меня:
– Через несколько минут после окончания встречи я подумал: «Я бестолочь. Я неудачник. Я их подвел, и они больше не будут мне доверять». Это был момент моего падения. Моя команда работала по шестьдесят с лишним часов в неделю на протяжении двух месяцев только для того, чтобы нас проигнорировала группа людей, насчет которых я был предупрежден заранее. Почему я не сделал ничего, чтобы предотвратить провал? Как после этого люди смогут снова мне доверять?
Все молчали по пути в аэропорт и в самолете. Члены команды устали, злились и были эмоционально измотаны. Долгие часы работы отразились на их здоровье и на рабочих и семейных отношениях. Эндрю сказал:
– Во время обратной поездки у меня в голове крутилась единственная мысль: «Я неудачник. Я не защитил своих людей. Я не сделал свою работу. Я неудачник. Я все провалил. Я потерял их доверие». Эта фраза вертелась в моей голове. Когда я проснулся на следующее утро, – продолжал Эндрю, – моя первая мысль была та же: «Я неудачник и бестолочь». Моя вторая мысль была: «Мне нужно выбраться из этого. Мне нужно это исправить. Кто еще в этом виноват? Кто еще отвечал за эту ерунду?» И тут до меня дошло. Я суетился. Но при этом я был придавлен скалой. Мне нужно было сначала выбраться из-под этой скалы. Я не смогу принять какие-либо решения в таком положении. Я подумал о вашей работе и понял, что моя скала – это стыд. Затем позвонил другу, который также знаком с вашей работой, и рассказал ему эту историю. Я сказал, что не могу избавиться от внутреннего голоса, который твердит мне, что я бестолочь. Я не мог избавиться от ощущения, что допустил провал. Я не мог не думать, что потерял доверие коллег.
Эндрю признался мне, что тот звонок другу дался ему с большим трудом, но он понимал, насколько это важно, и добавил смущенно:
– Но я попытался, ведь отчаянные времена требуют отчаянных мер.
Его друг сказал:
– Я понимаю. И допускаю, что ты мог совершить ошибку. Но ведь на своей работе ты по сто раз на дню делаешь выбор. Думаешь, каждый раз он правильный? Разве неудачный выбор означает, что ты – неудачник?
Он спросил Эндрю, что бы тот сказал, если бы кто-то из его подчиненных совершил подобную ошибку. Эндрю машинально ответил:
– Это другое. Ошибки – это часть процесса.
И тут Эндрю услышал сам себя.
– Ошибки не допускаются, – сказал он другу. – Это говорит мой перфекционизм, да?
– Может быть, и так, – ответил друг. – Наверное, поэтому ты мне позвонил. Это и моя проблема.
Эндрю описал ощущение, которое накрыло его во время того разговора, как облегчение.
– Оказалось полезным представить стыд как скалу и сделать выбор – выбраться из-под нее. Это не значит, что то, что ждет впереди, будет легко, но это означает, что надо перестать суетиться. Я могу начать принимать решения, которые отвечают моим ценностям. В этот момент своей карьеры я должен знать, как признавать свои ошибки и исправлять их.
В тот день Эндрю встретился с коллегами, которые были эмоционально истощены и окончательно запутались. Хотя все думали, что презентация провалилась, оказалось, что они наряду с еще одним агентством вышли в финал отборочного тура. Никто не знал, как реагировать. Тогда Эндрю созвал совещание, чтобы решить, что делать дальше. Когда все собрались и расселись по местам, он встал и произнес следующее:
– Я должен сказать вам, что, когда мы решили ввязаться в этот проект, я зациклился на том, чтобы доказать, что мы можем его сделать, и забыл задать самый важный вопрос: а нам вообще нужен этот проект? Уже до его начала у нас было много работы, и я знал, что этот клиент потенциально нам не подходит. Моя работа заключалась в том, чтобы отступить и задать вопросы, но я этого не сделал. Я совершил ошибку и прошу прощения. Я надеюсь, что смогу вернуть ваше доверие.
В кабинете повисла пауза. Потом Мануэль произнес:
– Спасибо тебе за эти слова. Я доверяю тебе. Что мы будем делать дальше?
Эндрю сказал, что с учетом затраченного времени, денег и ресурсов нужно вместе решить, продолжать этот проект или нет. Он сам проголосовал за отказ. Мануэль поддержал Эндрю и посмотрел в сторону Синтии – менеджера по работе с клиентами. Напряженность между Мануэлем и Синтией была не секретом, и все знали, что Синтия, вероятно, может до цента подсчитать расходы агентства за последние два месяца. Синтия наклонилась вперед в своем кресле и сказала:
– Я видела, как они вели себя с Мануэлем вчера. Я голосую за отказ.
Остальные сотрудники согласились, и голосование было единодушным.
Помимо финансовых последствий, Эндрю понимал, что будет означать в рекламном сообществе их решение. Это очень странно: зайти так далеко с проектом и отказаться. Но то был риск, который агентство было готово взять на себя. Во время разговора с клиентом, в котором Эндрю объяснял свое решение, он не обвинял представителей компании-клиента, а взял на себя ответственность за неточную оценку времени и подхода. Несколько месяцев спустя ему позвонили из подразделения брендинга компании с вопросом об опыте работы с их представителями. Эндрю показалось, что вторая сторона пыталась понять причины все больше укреплявшегося мнения об их компании как о трудном партнере. На этот раз он более непосредственно пояснил свой взгляд на столкновение корпоративных культур и непрофессиональное поведение их сотрудников.
Эндрю и его коллеги подтвердили, что в тот день, когда они решили отказаться от проекта, что-то изменилось. Эндрю считал, что это связано с тем, что Мануэль и Синтия единодушно защитили команду. Его коллеги согласились, что это был важный момент, но они также заявили, что готовность Эндрю признать свою ошибку и извиниться привела к изменению настроения у всех присутствующих, и отметили, что уровень доверия, уважения и гордости внутри коллектива взлетел высоко вверх после этого опыта.
Эндрю сказал:
– Мы работали вместе. Мы упали вместе. Мы поднялись вместе. Это меняет людей.
Распознавание эмоций
Эндрю четко распознал момент своего падения. Он чувствовал боль и вину за то, что не вмешался, когда видел, что к его талантливой команде на важной презентации относятся с неуважением. Его любопытство было в меньшей степени связано с чувствами и в большей – с вопросами о том, что делать дальше.






