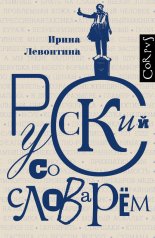О чем думают экономисты: Беседы с нобелевскими лауреатами Коллектив авторов

Понять причину его колебаний нетрудно. В конце 70-х, когда я работал в Совете управляющих Федеральной резервной системы (в секции специальных исследований), я предложил использовать денежные агрегаты Divisia. Во время «монетаристского эксперимента» 1979–1982 гг. мои показатели росли вдвое медленнее официальных простых денежных агрегатов. Я неоднократно говорил, что официальные денежные агрегаты неточно отражают ограничительный характер проводимой политики, и что эта политика приведет к рецессии. Возможно, рецессия, которая наступила, как я предупреждал, и была причиной аллергии Волкера. Впоследствии я опубликовал эти данные и материалы в своей статье в журнале Американской статистической ассоциации American Statistician. Когда я отправил свою статью в этот журнал, его редактор Гэри Кох отдал ее на рецензию сразу шести рецензентам. Он сообщил мне по телефону о своих опасениях, связанных с тем, что после публикации моих результатов редакция будет завалена письмами недовольных читателей. Я заверил его, что те, кто посылают такие письма, вряд ли читают его журнал. Эта статья опубликована в моей книге (1984 г.). Но было и кое-что еще. После того, как экономика оправилась от рецессии (а я оставил Совет, чтобы преподавать в Техасском университете), произошел резкий скачок в простых денежных агрегатах, а в моих показателях Divisia – нет. 26 сентября 1983 г. главный «монетарист» Милтон Фридман в своей статье на целую полосу в журнале Newsweek написал:
Взрывной рост денежной массы в июле 1982 – июле 1983 г. не оставляет нам никакой возможности найти приемлемое решение… В результате обязательно произойдет новый виток стагфляции – рецессия в сочетании с ростом инфляции и высокими процентными ставками… Неопределенность заключается лишь в том, когда эта рецессия начнется.
Но в тот же самый день, 26 сентября 1983 г., я сказал в своей статье на целую полосу в журнале Forbes:
Люди напрасно паникуют по поводу роста количества денег в обращении в этом году… Темп роста агрегатов Divisia не сильно отличается от прошлогоднего… «Явный взрывной рост» можно считать статистическим всплеском.
Стагфляция так и не началась, как и было предсказано в опубликованном мною анализе. А монетаристы и по сей день не оправились от этого дважды произошедшего публичного посрамления. Рассказ об этих событиях и посвященные им материалы можно найти в моей книге (1997){5}.
9. Интервью Мартина Фельдштейна Джеймсу Потерба
Мартин Фельдштейн два года был председателем Совета экономических консультантов при Рональде Рейгане, оставив ради этого преподавание в Гарвардском университете. В предисловии к этому интервью Джеймс Потерба отмечает:
Он часто предупреждал о той цене, которую придется в конечном счете заплатить за большой бюджетный дефицит, хотя у политиков эта точка зрения была крайне непопулярной.
Далее Потерба говорит:
В своей лекции в 1995 г. для Американской экономической ассоциации он обратился к ученым-экономистам с настойчивым призывом проанализировать предложения по реформе системы социального обеспечения и тем самым положил начало весьма активному осуждению политики, развернувшемуся во второй половине этого десятилетия.
В Гарварде у Фельдштейна было более 60 аспирантов, а с 1977 г. он является президентом Национального бюро экономических исследований. В 1992 г. его избрали президентом Американской экономической ассоциации.
Отвечая на вопрос о своих исследованиях в области американского здравоохранения, он замечает:
[В отрасли] наблюдалась такая динамика: чем выше цена, тем сильнее стремление к страхованию, а чем больше объемы страхования, тем выше цена рыночного равновесия… Мои оценки говорили о том, что существующая система недалека от взрыва, и потребуется какая-то внешняя сила, чтобы остановить рост относительных расходов на медицинское обслуживание… Увеличение доли этих расходов, оплачиваемой самим пациентом, улучшило бы функционирование рынка здравоохранения.
Вспоминая о том, как в 1982–1984 гг., в период президентства Рональда Рейгана, он был председателем Совета экономических консультантов, Фельдштейн говорит:
Очень скоро стало ясно, что бюджетный дефицит будет для нас колоссальной проблемой.
Из этого интервью вы также узнаете о том, что Мартин Фельдштейн раз в неделю завтракает с Полом Волкером.
10. Интервью Кристофера Симса Ларсу Петеру Хансену
Крис Симс – член Национальной академии наук, одно время он также был президентом Эконометрического общества. Симс внес весомый вклад в современную эконометрику своими работами по методологии анализа многомерных временных рядов.
На мой взгляд, работа Симса 1971 г. – одна из самых блестящих публикаций по эконометрике и статистике. Сам Симс рассказывает о ней следующее:
Поскольку работа по бесконечномерным пространствам по своей тематике отличалась от того, что обычно появлялось в экономических журналах, я послал ее в журнал Annals of Mathematical Statistics… Его редактор написал мне: «Извините, что прошло столько времени. Мне никак не удавалось найти хоть какого-нибудь рецензента. Прилагаю заключение рецензента». Рецензент писал: «О чем эта работа, я на самом деле так и не понял, но проверил некоторые теоремы и, похоже, они верны, так что, думаю, нам следует ее опубликовать».
Говоря о прикладной эконометрике, он, в частности, отмечает:
…технические условия, в которых отклики на предполагаемые нарушения денежно-кредитной политики, явно абсурдны, чаще всего не заявляются. У некоторых это вызывает определенное беспокойство.
Также он говорит:
Специалисты по эконометрике не сумели справиться с проблемами субъективной оценки, являющимися ключевыми в моделировании макроэкономической политики.
Отвечая на вопрос о своем отношении к моделям макроэкономической политики, Симс заявляет:
Сегодня эти модели находятся в плачевном состоянии.
11. Интервью Роберта Шиллера Джону Кэмпбеллу
Своей широкой известностью Роберт Шиллер обязан своей знаменитой книге «Иррациональное изобилие», в которой ему поразительно точно удалось предсказать раздувание «мыльного пузыря» на фондовом рынке, который лопнул очень скоро после публикации этой книги. Книга вышла в свет в марте 2000 г., когда рынок был на подъеме. Как он поясняет в этом интервью, книга была написана «с головокружительной скоростью». В своем интервью Шиллер говорит:
Одно из величайших заблуждений в истории экономической мысли состоит в том, что любое изменение на фондовом рынке имеет разумное объяснение…
Далее он отмечает:
Модель ожидаемой приведенной стоимости для агрегированных курсов акций просто вопиюще неверна.
Из этого интервью вы узнаете о влиянии, которое оказали на его взгляды его супруга Джинни, психолог, и ее коллеги. Обсуждая в целом роль экономистов, Шиллер замечает:
Выбирая себе направление исследования, экономисты поддаются стадному чувству, и тот, кто не прельстится общими темами, может многое выиграть.
12. Интервью Стэнли Фишера Оливье Бланшару
С мая 2005 г. Стэнли Фишер руководит Банком Израиля. Его интервьюировал профессор экономики MIT Оливье Бланшар. Интервью проводилось во время их совместной пробежки по нью-йоркскому Центральному парку. Ранее Стэнли Фишер был главным экономистом Всемирного банка, первым заместителем главы Международного валютного фонда, президентом Citigroup International и профессором экономики MIT. По словам Оливье Бланшара, еще преподавая в MIT, Стэнли Фишер «…практически приобрел статус гуру», а теперь превратился во «властелина вселенной и VIP-персону мирового масштаба». Из этого интервью вы узнаете о юных годах Стэнли Фишера, проведенные им в Южной Родезии, которая теперь называется Зимбабве.
В частности, в интервью он говорит:
Когда я был студентом, этим великим человеком был Даг Хаммаршёльд[2]. Потом его убили – совсем рядом, в Конго, которое было тогда бельгийской колонией. Я знал, что он сделал для людей много хорошего, а мои родители воспитали меня так, что я тоже хотел приносить людям пользу. Я понял, что приносить людям пользу мне поможет экономика… Наверное, это и двигало мной все это время.
13. Интервью Жака Дреза Пьеру Деэ и Омару Ликандро
Жак Дрез – один из самых известных и глубокоуважаемых европейских экономистов, заслуживший признание по обе стороны Атлантики за вклад в развитие истории экономической мысли и других направлений экономической науки. Защитив в 1958 г. диссертацию в Колумбийском университете, Дрез основал знаменитый бельгийский центр экономических исследований – Центр исследования операций и эконометрики. Звания почетного доктора его удостоили 15 университетов по обе стороны Атлантики. Из интервью вы узнаете о лувенско-байесовской школе, совместном бельгийско-французском исследовании по общему рыночному равновесию в условиях негибких цен и рационирования, а также о других направлениях экономических исследований и политики, известных в США не так хорошо, как в Европе.
Особый интерес представляет его высказывание о политическом влиянии экономистов в США и в Европе:
Принято считать, что в Европе экономисты менее влиятельны, чем в Соединенных Штатах. Два замечания по этому поводу. Во-первых, в Европе нет ни одного экономического органа, сопоставимого с американским правительством. Почему? Потому что Европа – это союз, конфедерация государств, поэтому полномочия на уровне всего союза ограничены; процесс принятия решения на этом уровне сложен и имеет ограничения. Экономические советники Комиссии не участвуют в работе принимающего решения органа, т. е. в Совете министров. В США, напротив, главный экономический советник присутствует на заседаниях правительства, на которых принимаются решения. Поэтому лишних звеньев при передаче информации здесь нет; экономический советник находится прямо на месте событий. Кроме того, в Соединенных Штатах правительство имеет гораздо больше прямых полномочий, чем Совет министров в Европе. В связи с этим в Европе экономические советники влияют на принимаемые политические решения намного меньше, чем в Соединенных Штатах.
14. Интервью Томаса Сарджента Джорджу Эвансу и Сеппо Хонкапохья
Как книга Самуэльсона «Основы экономического анализа» математизировала неоклассическую микроэкономику и научила целое поколение экономистов точному микроэкономическому анализу, так книги Сарджента математизировали современную макроэкономику и обучили целое поколение экономистов точному макроэкономическому анализу. Сказанное Сарджентом в этом интервью отличает та же проницательность которая характерна для всех его опубликованных работ.
Например, по поводу развития метода калибровки в эмпирических экономических исследованиях и его связи с теорией статистики Сарджент замечает следующее:
Метод калибровки может дать менее удачные результаты, поскольку вы прибегаете к нему, только если не доверяете полностью своей модели, или думаете, что ваша модель выбрана отчасти или совершенно неправильно, или же доверяете модели и набору данных кого-то другого больше, чем собственным. Помню, поначалу Боб Лукас и Эд Прескотт были очень увлечены эконометрикой, в основе которой лежала теория рациональных ожиданий. Ведь она просто предполагала предъявление к нам самим тех высоких требований, за несоблюдение которых мы критиковали кейнсианцев. Но после того как Боб Лукас и Эд Прескотт лет пять оценивали модели рациональных ожиданий по критерию отношения правдоподобий, они оба сказали мне, что этому критерию не удовлетворяют слишком много хороших моделей. Идея калибровки состоит в том, чтобы игнорировать одни результаты вашей модели и сохранить другие. Калибровка задумывалась как сбалансированный ответ на утверждение, что ваша, пусть и неверная, модель все равно является ценным инструментом количественного анализа политики.
Далее он говорит:
В 80-е гг. в некоторых случаях имело смысл сказать: «Максимизировать функцию праводоподобия слишком сложно, а, кроме того, если мы это сделаем, то выплеснем нашу модель вместе с водой». В этом веке возможности сказать эту фразу стало меньше.
О Нейле Уоллесе Сарджент замечает:
Нейл думает, что модели предпочтения ликвидности бесполезны, и не воспринимает ограничений, связанных с этими моделями. Что для Нейла может быть хуже, чем модель предпочтения ликвидности с таким ограничением? Только модель с двумя подобными ограничениями.
Далее Сарджент сообщает:
Нейл попросил меня убрать его фамилию со всех работ, написанных нами совместно, за исключением той, которая посвящена товарным деньгам, – на мой взгляд, не самой лучшей.
Конечно, фамилия Уоллеса так и осталась на всех этих работах. О соавторстве с ним Сарджент рассказывает следующее:
Прочитав введение к одной из наших статей в JPE (Journal of Political Economy), Боб Лукас сказал мне, что, наверное, ни один рецензент не смог бы сказать о нашей работе ничего более уничижительного, чем то, что написали мы сами. И эти критические слова были написаны Нейлом.
15. Интервью Роберта Ауманна Серджиу Харту
Роберт Ауманн получил Нобелевскую премию по экономике в 2005 г., будучи профессором Иерусалимского университета, за месяц до того, как его интервью появилось в Macroeconomic Dynamics. Многие считают его одним из самых блестящих математиков мира, идущим в авангарде развития экономической теории игр. Ауманн родился в Германии, получил образование в США, но постоянно проживает в Израиле и исповедует ортодоксальный иудаизм. Свою первую диссертацию (по алгебраической топологии) он защитил в MIT, а вторую – в Принстоне. В своем интервью он рассказывает:
Вообще-то интерес к математике появился у меня еще в средней школе, в йешиве раввина Якоба Йозефа (еврейской дневной школе), находившейся в восточной части Нью-Йорка… Закончив школу, я долго выбирал, что изучать: Талмуд или светские предметы в университете. Какое-то время я делал и то, и другое. Это продолжалось один семестр, а потом мне стало трудно, и я принял нелегкое решение бросить йешиву и заняться математикой.
Говоря о своем обучении и исследованиях в аспирантуре MIT, Ауманн замечает:
Теория узлов, как и теория чисел, была абсолютно, абсолютно бесполезной. Этим меня узлы и привлекли… Пятьдесят лет спустя «абсолютно бесполезную», «чистейшую» теорию преподают на втором курсе медицинских вузов.
О конференции 1961 г. он вспоминает следующее:
Киссинджер говорил о применения теории игр в дипломатии холодной войны… Тогда люди действительно думали, что наступает конец света.
Говоря о Карибском кризисе, Ауманн замечает:
Кеннеди был под влиянием теории игр… Ее идеи пропагандировали Киссинджер и Герман Кан[3]. Теперь ему ставят в заслугу то, как он вел себя во время [Карибского] кризиса; вот уж поистине – чтобы узнать вкус пирога, нужно его съесть.
Говоря о «рациональности», Ауманн замечает:
Большая ошибка говорить, что война иррациональна… Объявляя все зло в мире иррациональным, мы отказываемся принимать против него какие-либо меры. Зло необязательно иррационально – оно может быть и опасным, и рациональным. Говорить, что война иррациональна, – весьма ошибочно… Игнорируя ее как нечто иррациональное, мы не решим эту проблему.
Отвечая на вопрос о своем отношении к религии, Ауманн заявляет:
Религия очень отличается от науки. Главное в религии – не то, как мы моделируем реальный мир… Религия – это опыт, главным образом, эмоциональный и эстетический… Когда вы играете на пианино, занимаетесь скалолазанием, противоречит ли это вашей научной деятельности? Не противоречит; это просто лежит в другой плоскости… В науке мы думаем о мире определенным образом, в религии – по-другому. Эти две вещи сосуществуют, никак не конфликтуя.
Вспоминая, как в 1930-е гг. его семья покинула Германию, Ауманн, в частности, говорит:
Мы уехали в 1938 г. Вообще-то мы хотели сделать это еще в 1933 г., когда к власти пришел Гитлер, но по какой-то причине не сделали. Моих родителей убедили, что все не так плохо, все будет в порядке, все утрясется. Немцы не позволят командовать такому сумасшедшему и т. д. и т. п. Знакомая история. Но она показывает, что когда находишься в самой гуще событий, предвидеть будущее очень нелегко. Это сейчас все очевидно, а тогда, в разгар кризиса, все было непонятно.
Подобным образом Ауманн комментирует события Шестидневной войны 1967 г.:
Это теперь нам ясно, что в этом конфликте Израиль должен был победить. Но в то время было совсем не очевидно, что Израиль выстоит… Премьер-министр Эшколь был очень встревожен. Выступая по радио, он запинался, его волнение было таким явным, таким ощутимым… Во время этого кризиса здесь был Герб Скарф[4]. Когда недели за две до начала войны он уезжал, и мы прощались, мы оба думали, что, возможно, уже больше не увидимся.
По другому поводу он замечает:
Бихевиористская экономика, а именно как она осуществляется на практике, вызывает у меня серьезные сомнения. Сегодня подлинная бихевиористская экономика – это эмпирическая экономика. Эмпирическая экономика – это и есть бихевиористская экономика. Когда вы занимаетесь эмпирической экономикой, вы наблюдаете, как ведут себя люди в реальной жизни.
16. Интервью Джеймса Тобина и Роберта Шиллера Дэвиду Коландеру
Джеймс Тобин получил Нобелевскую премию по экономике в 1981 г. – в то время он был профессором Йельского университета. Это совместное интервью Джеймса Тобина и Роберта Шиллера в Йеле отличалось от других, опубликованных в Macroeconomic Dynamics, и было в журнале названо не интервью, а диалогом. Обычно интервьюировали одного человека, и речь шла о работе и жизни именно этого экономиста. Данное интервью имело форму беседы двух людей и ведущего – на конкретную тему, а именно: «Йельская школа экономики». Первую скрипку в диалоге явно играл Тобин, но интересно сравнить шиллеровский фрагмент этого интервью с интервью Томаса Сарджента. Интервью Шиллера и Сарджента во многом отличаются, но оба дают глубокое, запоминающееся и явно различное представление о современной макроэкономике.
Похоже, что участники диалога больше симпатизируют фридмановскому направлению консервативной чикагской школы, чем более поздней концепции реальных экономических циклов. Отвечая на вопрос ведущего: «Что вы думаете о теоретиках реального экономического цикла?», Тобин говорит:
Ну, это просто враги… Это те, с кем мы боремся все эти годы. Это практически повторение конфликта между самим Кейнсом и экономистами, которых он считал классиками.
Он продолжает:
«Представители неоклассической школы и сторонники теории реального экономического цикла придерживаются гораздо более крайних взглядов, чем люди, с которыми в свое время не соглашался Кейнс, но это все тот же спор. Как ни странно, идеи Пигу были гораздо более разумными и заслуживающими доверие, чем идеи Лукаса и некоторых других неоклассиков.
Шиллер в этом диалоге говорит:
Йельская школа должна считаться политически намного более либеральной, чем консервативная чикагская… Каким нам видится Тобин? Мне он представляется человеком высокой морали, относящимся к другим с подлинным сочувствием. Это означает, что он видит, как страдают люди, и хочет это исправить. И такое впечатление он производит в большей мере, чем многие экономисты.
Джеймс Тобин умер в 2002 г.
Литература
Barnett, W.A. (1984) Recent monetary policy and the Divisia monetary aggregates. American Statistician 38, 165–172. Reprinted in W.A. Barnett & A. Serletis (eds.) (2000) The Theory of Monetary Aggregation, Ch. 23, pp. 563–576. Amsterdam: Elsevier.
Barnett, W.A. (1997) Which road leads to stable money demand? The Economic Journal 107, 1,171–1,185. Reprinted in W.A. Barnett & A. Serletis (eds.) (2000) The Theory of N\Monetary Aggregation, Ch. 24, pp. 577–592. Amsterdam: Elsevier.
Keynes, J.M. (1936) The General Theory of Employment, Interest, and Money. New York: Harcourt, Brace & World.
Lucas, R.E. (2000) Inflation and welfare. Econometrica 68(2), 247–274.
Sims, C. (1971) Distributed lag estimation when the parameter space is explicitly infinite-dimensional. Annals of Mathematical Statistics 42, 1622–1636.
Введение к истории мысли
Экономисты беседуют с экономистами – с точки зрения историка
Рой Вайнтрауб
Результатом затеянного редактором Macroeconomic Dynamics Уильямом Барнеттом масштабного и долгосрочного проекта стал ряд интервью, которые одни выдающиеся экономисты дали другим, хорошо информированным о научной деятельности интервьюируемых. Таким образом эта книга – сборник бесед и об экономике, и о жизни экономистов, о том, как вообще сегодня живет и работает сообщество ученых, занимающихся общественными науками.
У этой книги есть одна особенность. Хотя она и предоставляет читателю редкую возможность присутствовать при беседах выдающихся людей и больше узнать об этих знаменитостях, сама по себе это еще не история экономической науки, хотя так и кажется, что собеседники говорят для истории. И все же есть различие между тем, что считают важным для истории историки экономической науки, а что – ученые-экономисты. Интервьюируемые пытаются дать свою, небеспристрастную версию исторических событий, такую, в которой они сами играли бы видную роль{6}, и то, что их интервьюирует бывший ученик или нынешний коллега, старший или младший, только усугубляет проблему. Я говорю «проблему», так как «ученых-экономистов и историков обычно интересуют разные вещи в прошлом, и они хотят использовать свою историю в разных целях и соответственно выбирают себе источники и пишут соответствующие статьи и доклады» (Хьюз, 1997, с. 26). Это хорошо понимают историки науки и, в меньшей степени, сами ученые. Большинство экономистов понимают это не так хорошо:
Есть две основные причины для беспокойства. Во-первых, существует проблема спорной интерпретации и сложности проведения исторического анализа, когда имеешь дело с тем, что вполне может оказаться старой актерской байкой (к тому же рассказываемой в беседе между двумя, возможно, враждующими актерами)… [Во-вторых], встречаются ученые, желающие сохранить на свою историю особые права, и потому не терпят никаких отклонений от «официальной» (героической, событийной или популярной) версии (там же, с. 27).
Обе эти проблемы всплывают в беседах. Первую иллюстрирует тот фрагмент интервью Милтона Фридмана, где речь идет о его работе во время Второй мировой войны в Группе статистических исследований. Здесь Фридман высказывает мнение, что идеи экономистов в области оптимизации повлияли на формирование взглядов военных, в то время как многие пишущие об этом периоде историки считают, что причину и следствие здесь нужно поменять местами. А в качестве забавного (по крайней мере, для меня) примера второй проблемы я бы отметил то место в интервью Пола Самуэльсона, где он риторически вопрошает, не будет ли его понимание собственных работ на какую-нибудь тему по биологии по-новому интерпретировано «будущими Филипами Мировски и Роями Вайнтраубами».
Однако беспристрастное обсуждение может приводить к эмоционально непростым ситуациям:
Кроме того, для некоторых ученых история – столь ценный источник, что если история не оправдывает или не узаконивает науку так или иначе, то она ее практически делегализирует (а иногда и «подрывает»), а это может порождать глубокую враждебность к профессиональным историкам науки и их писаниям (там же, с. 28).
Некоторые из этих проблем дают о себе знать в интервью Роберта Ауманна, где говорится, что многое в теории игр было разработано математиками и экономистами для использования в условиях «холодной войны». Это, а также, в случае Ауманна, и явная связь между потребностями министерства обороны Израиля и наличием в этой стране множества специалистов по теории игр, опровергают аксиому о политической беспристрастности ученого-экономиста. Однако эти вопросы могут подниматься (особенно бывшим учеником Ауманна Хартом) только с оговоркой, что их постановка, похоже, имеет своей целью «делегализировать» определенную серьезную работу в области теории игр.
Как документы, на основе которых пишется история, записи собранных в этом томе бесед имеют нечто общее с более традиционными устными источниками. Но у них действительно есть некоторые недостатки:
Одно то, что историк объясняет ученому – его мнения и воспоминания будут сохранены и могут использоваться историками в будущем, – может заставить ученого войти в какой-то образ, даже надеть, если хотите, какую-то маску, отражающую, по его мнению, то, что должно остаться в памяти о нем самом, о его жизни и достижениях (Деворкин 1990, с. 47).
Иными словами, говоря о приводимых далее записях бесед, если эти материалы были изданы с одобрения интервьюируемых (а в некоторых случаях даже переписаны ими), это означает, что экономисты, по существу, сами отвечают за содержание своих интервью, и в эту книгу не вошел ни один материал, который противоречил бы их собственному пониманию своей работы.
Но и при этом следует учесть:
Какими бы ни были намерения этих ученых, память может их подвести, а неверно сформулированные историками вопросы провоцируют некорректные ответы, и, следовательно, искаженное видение истории. На самом деле есть веские основания полагать, что сам вопрос предопределяет ответ. Нередко бывает, что историк, уже досконально знающий свой предмет, имеет более широкий и совершенно иной взгляд на жизнь и личность интервьюируемого ученого, особенно если этот ученый работал не в одиночку, а в большой организации, как работают сегодня большинство ученых.
В основе своей эти беседы – конечно, не совсем устные рассказы, по той очевидной причине, что, за исключением двух интервью, это не беседы, проведенными историками в едином формате устного повествования. Когда выдающегося экономиста интервьюирует другой хорошо известный экономист, достаточно знакомый с предметом исследований интервьюируемого, эта беседа не может быть беспристрастной. Например, одно из отличий интервью, которое берет историк, от интервью, которое берет коллега, заключается в том, что историк скорее всего не очень знаком с теми конкретными идеями, областью исследования и методами анализа, которые интервьюируемый ученый считает своим вкладом в науку, – исходя из этого он строит свои ответы. Беседуя с коллегой, интервьюируемый, скорее, перейдет к обсуждению специальных проблем и вряд ли станет оправдывать (не говоря уже о том, чтобы объяснять) свое желание работать именно с данным материалом{7}. Поэтому, если эти интервью будет читать неспециалист, ему будет сложнее следить за всеми поворотами в обсуждениях. Беседа может показаться перегруженной профессиональными терминами, тогда как историк скорее всего направит разговор в нужное русло, понятное читателю. Но вопросы, которые обычно задает историк, редко похожи на вопросы, обсудить которые хочется экономисту.
Именно по этой причине пространные отчеты о развитии современной физики были подготовлены не физиками, а Центром истории физики Американского института физики (AIP) в Нью-Йорке. Расшифрованные стенографические записи интервью, взятых в рамках этой долгосрочной программы, хранятся в библиотеке Нильса Бора AIP. Этот проект реализуется профессиональными историками, каждый из которых получил специальную подготовку как специалист по изустной истории. И благодаря связи биографии интервьюируемых с их работой эти историки прекрасно информированы о характере и направлении исследований интервьюируемых.
Для экономики подобного центра не существует{8}. Задачи историков экономической науки выполняют «одиночки», и не существует такого источника, за счет которого мог бы финансироваться подобный крупный проект. Взамен историки, которые все же проводят подобные интервью, готовятся к ним, как могут, изучая записи того, что является хорошими устными рассказами, и, быть может, справляясь по одному или нескольким учебникам, объясняющим, как именно можно превратить устный рассказ в историю науки – см., например, работы Деворкина (1990) и Эверетта (1992).
Вошедшие в этот том беседы не проводились в такой единой манере: редактор не потребовал от интервьюеров, чтобы они предварительно прослушали «курс изустной истории». Не потребовал он и приведения их записей в единый вид, чтобы они, как отчеты AIP, отражали определенный набор вопросов, хотя и с возможностью отклонения от этих тем в зависимости от того, как будет развиваться разговор.
Эту напряженность в отношениях между учеными как историками и историками науки хорошо описал Стивен Браш (1995). По его словам, конфликты между ними могут иметь самые разные причины, начиная от убеждения некоторых историков, что ученые не в состоянии написать исторический труд из-за обязательного презентизма и «либеральничания», и кончая мнением некоторых ученых, что компетентно определить, что именно важно для истории, способен только тот, кто сам участвовал в создании науки. Эту позицию четко сформулировал Андре Вейль (1978), выдающийся математик, заявивший в своем выступлении на Всемирном конгрессе математиков, что «историей математики лучше всего могут заниматься те из нас, кто сами являются или были активными математиками, или, по крайней мере, постоянно находятся в тесном контакте с активными математиками» (p. 440).
Однако инстинкты и социализация экономистов и историков экономической науки заставляют их задавать о прошлом неодинаковые вопросы. Большинство экономистов рассматривает развитие экономической науки как решение серии проблем, которые возникают либо в мире, называемом экономикой, либо при разработке инструментов и методов, а также совершенствовании теоретических схем. То есть для большинства экономистов заниматься экономической наукой означает решать проблемы, а история этой науки – это последовательность проблем, возникших, решенных, сформулированных заново и снова решенных. Для них экономист – это тот, кто обучен и призван обществом распознавать эти экономические проблемы, а также действовать в мире, в котором формулировка и решение подобных проблем составляет суть профессии экономиста. Именно поэтому в приводимых ниже интервью мы слышим, как интервьюер спрашивает, как возникла та или иная проблема, и, кроме того, ведет речь о подходе и инструментах, которые потребовались для ее решения и которые составляют вклад интервьюируемого в науку. По существу интервьюер и интервьюируемый ведут себя как экономисты, сотрудничающие с целью улучшения понимания обществом того, как возникли эти проблемы, как разрабатывались инструменты и приобретались знания, необходимые для их решения. Обсуждение таких тем, как образование интервьюируемого, его профессиональное окружение и т. п., имеет своей целью выяснить, каким образом его формирование, включая интеллектуальную и эмоциональную подготовку, позволили ему ответить на те конкретные вопросы, которые поставила перед обществом экономика и экономическая наука. Это полностью согласуется с таким написанием истории экономической мысли, которое историки обозначают словом OTSOG-ery, производным от аббревиатуры OTSOG (On the Shoulders of Giants, «на плечах гигантов», цитата из приписываемого Исааку Ньютону изречения, что он мог видеть дальше или двигать науку вперед потому, что стоял на плечах гигантов и т. д.). Эта точка зрения разделяется многими учеными и отражается в процедуре и результатах присуждения Нобелевской премии по экономике, когда Комитет по присуждению премий перечисляет конкретные заслуги награжденных. Поэтому в центре обсуждения именно научный вклад, а ученые по существу информируют о своем вкладе всех остальных членов сообщества экономистов.
Однако историка, очевидно, интересует другое{9}. Для историка главное – это контекст, поэтому, создавая серьезную историю, они относятся к подобным беседам как к исходному материалу для ограниченного применения. Историческое повествование не есть последовательность – сначала одного, потом другого, третьего и т. д. Скорее это сплетение множества историй в полотно, вовлекающее частное, а также условное, в контекстуализацию всех этих последовательных объектов. Историка интересует более масштабный, более многослойный рассказ{10}, чем простое «я пришел, увидел проблему, которую требовалось решить, и придумал, как это сделать».
Позвольте мне теперь перейти к более конкретному анализу этих бесед, чтобы понять, как характер и опыт этих индивидуумов соотносятся с некоторыми более масштабными хрониками, создаваемыми историками экономической науки на протяжении последних десятилетий.
Во-первых, следует признать, что Самуэльсон, Фридман, Леонтьев и Модильяни принадлежат не к тому поколению, представителями которого являются большинство интервьюируемых. По своему менталитету это люди конца 1930-х – 1940-х гг. Это период, когда дали о себе знать два важнейших фактора, оказавших влияние на развитие экономики в ХХ веке – Великая депрессия и Вторая мировая война (к этой группе экономистов может быть причислен и Джеймс Тобин, который младше их всего на несколько лет).
Сегодня историки начинают понимать, что рассказ о развитии неоклассической экономической теории как о поступательном движении от маржиналистской революции конца ХIХ века к современности – это выдумка, особенно если говорить о развитии американской экономической науки. Ряд недавних исследований вполне убедительно продемонстрировал историкам: то, что в послевоенный период возникло как неоклассическая экономическая теория, было всего лишь одним из возможных способов заниматься экономической наукой (см. Мorgan and Rutherford, 1998; Weintraub, 2002, Mirowski, 2002, Yonay, 1998). И дело было не только в том, что институционализм – американское направление в экономической науке – был постепенно вытеснен неоклассической теорией, а в том, что еще в 1930-е гг. было несколько вариантов неоклассической теории, состязавшихся между собой за внимание экономистов. Кроме того, теоретический вклад Кейнса в его книге 1936 г. исчерпал себя одновременно с распространением мнения, что рекомендации в отношении экономической политики, вытекавшие из общей теории Кейнса, уже обсуждались намного раньше в ходе дискуссий о государственном регулировании (Hutchison, 1968; Davis, 1971; Howson and Winch, 1997).
Но история развития экономической науки – это также небольшая часть более крупной истории, такой, в которой экономика в ХХ веке стала научной дисциплиной в совершенно особом смысле слова. По мнению большинства людей, отличительная особенность экономики как науки – систематизированное представление основного содержания этой дисциплины в математическом виде. То есть люди ассоциируют науку с такими различными теориями и законами, которые можно выразить математически, и которые подтверждаются либо противоречат цифровым данным, генерированным самостоятельно, хотя концептуально и связанным с данными теориями. Конечно, многое в экономической науке действительно имеет это сходство с работой, выполняемой в других областях науки. Но свойства науки, по крайней мере, развитой науки, определяются не только тем, как выглядят ее «тексты». В наши дни никто не проводит экспериментов по физике частиц в лаборатории, устроенной в собственном подвале. Никто не пытается проводить эксперименты с управляемым ядерным синтезом в гараже. Современная наука – это огромные масштабы, масштабы финансирования и используемых людских ресурсов. Давно ушли в прошлое времена, когда, гуляя в 1930-е гг. по университетскому кампусу, можно было обнаружить, что химический факультет находится в одном здании с экономическим факультетом и факультетом французского языка. Осмотрев современный университет, занимающийся, в частности, биологическими исследованиями и сотрудничающий с каким-нибудь медицинским научным центром, можно понять, как изменились эти масштабы. Мы думаем о Манхэттенском проекте и понимаем, с чего началась «большая наука», но нередко не учитываем того, как изменились после Второй мировой войны масштабы экономических исследований. В наши дни, когда в аспирантуры многих вузов ежегодно поступают десять, двадцать, а то и более человек, трудно оглянуться в прошлое и вспомнить, что до 1960-х гг. учеба в аспирантуре была делом совсем не таким обычным. Просто не было столько выпускников. Но в постспутниковую эру, когда стало больше и учащихся, и наставников для этих учащихся, специализация и разделение труда привели к тому, что исследования стали проводиться «группой специалистов по экономике труда» университета Х или «группой специалистов по государственным финансам» университета Y. Теперь будущие аспиранты воспитываются в этих группах точно так же, как они воспитываются в лаборатории профессора Х или профессора Y. Ушли в прошлое те времена, когда профессор экономики мог целое десятилетие руководить подготовкой диссертаций по многим специальностям. Такого больше нет, как нет в наши дни и того, чтобы физик-теоретик руководил подготовкой экспериментальной диссертации.
Большая наука возникла в ходе Второй мировой войны вместе с колоссальной работой по созданию атомной бомбы и непосредственным участием ученых в решении военных задач. Проектирование и производство самолетов, радаров, систем наведения, вычислительных систем – все это появилось в военный период благодаря сотрудничеству ученых, инженеров, специалистов по военному планированию и стратегии, а также ученых, занимающихся общественными науками, и особенно экономистов. Инструменты и симметрия в анализе, которые Самуэльсон исследовал в своей довоенной диссертации, полностью использовались во время войны, когда оптимизационный анализ стал главным в деятельности исследовательских групп экономистов, подключенных Советом по прикладной математике к работе Радиационной лаборатории Массачусетского технологического института, Группы статистических исследований в г. Колумбия и вскоре возникшего центра RAND в Санта-Монике. Дело не только в том, что благодаря этим связям экономическая наука стала более «научной», но и в том, что она стала больше напоминать то, что мы сегодня считаем наукой. Пиаровский призыв продолжить государственную поддержку науки на таком же высоком (как в военное время) уровне, был сделан Ванневаром Бушем в его книге «Наука: бесконечная граница» (1945){11}, но, конечно, экономическая наука была на этой границе. В результате экономика как наука должна была «вкусить от щедрот» Национального научного фонда, а также получить поддержку через армию, военно-воздушные силы и управление исследованиями ВМС.
В собранных в книге беседах обнаруживается не столько акцент на отдельных технических деталях, новшествах и анализе, сколько связь проблем, которые изучали интервьюируемые, с вопросами более общего характера. В интервью Леонтьева мы находим даже несколько жалоб на излишнее внимание экономистов к методам экономического анализа. Тем не менее нельзя сказать, чтобы эти методы вообще не обсуждались. Слушая более молодых экономистов (Фишера, Касса, Лукаса), мы узнаем из научных бесед о проблемах, которые, как предполагается, будут решены. До некоторой степени это, конечно, сугубо американская точка зрения. Проблемы в работе, с которыми сталкивались Жак Дрез и Янош Корнаи, совершенно отличаются от тех, которые знакомы экономистам в Соединенных Штатах. Тем не менее эта книга подтверждает, что направление, господствующее сегодня в экономической науке, – во многом американское изобретение, и его интеллектуальную мощь поддерживает американская система высшего образования, а именно рост в послевоенный период количества университетов, занимающихся наукой. Хотя Волкер долгое время состоял на государственной службе, а Фишер в последние годы работал в частном секторе, экономическая теория – университетская дисциплина. Это не просто предмет, который преподается в университетах, потому что имеет большое значение для государственной политики. Конечно, по сравнению с прошлыми временами, положение изменилось. Эти беседы отражают судьбы тех, кто внес вклад в развитие экономической науки. Их исследования – это валюта, используемая в отдельных научных сообществах. Преподавание, научное руководство аспирантами и разработка новых методов экономического анализа, пригодных для решения возникающих экономических проблем – этими видами деятельности занимаются в основном в университетах, а не в научно-исследовательских институтах или государственных учреждениях.
Еще одной особенностью этих бесед, которая заинтересовала бы историков, является то, что, хотя экономические исследования проводятся в университетах, нередко сами исследователи привлекают к ним другие круги. Это все равно, как если бы ядерные физики, все еще активно занимаясь наукой, выносили свои проблемы на обсуждение широкой публики. Особое внимание здесь нужно обратить на работу, проделанную Мартином Фельдштейном в Национальном бюро экономических исследований, а также Полом Волкером, занимавшим высокие должности в государственных структурах. Корнаи может тоже рассказать интересные истории о связи экономики с политикой, истории, которые все более узнаваемы, поскольку историки считают: история экономической мысли – это не просто повествование о том, как зародились и получили развитие и распространение великие идеи, но и о том, как эти идеи преодолели границы жестко организованных профессиональных сообществ и стали достоянием более широкого круга людей, интересующихся экономикой. Это рассказ о растущем значении экономистов в общественной жизни. Процесс возрастания такого значения складывался под влиянием двух факторов – президентства Рузвельта и создания в 1940-х гг. Экономического совета при президенте США (после принятия закона о занятости 1946 г.). Историки стали понимать, что история экономической мысли не просто история, рассказанная самими учеными-исследователями, а история изменения значения и влияния идей (см. Bernstein, 2001).
В этой передаче идей или экономических знаний конечными потребителями являются не только государство и военные. Существует также множество фондов, которые длительное время спонсировали экономическую науку и экономические исследования в собственных интересах. Хорошо известна история поддержки фондом Рокфеллера международных исследований в области экономического цикла в период между двумя мировыми войнами, и многие современные работы по экономическим циклам, а также эконометрические модели восходят, конечно, к тем годам. Фонд Волкера (не имеющий отношения к Полу Волкеру) в 1940-х гг. финансировал реконструкцию экономического факультета Чикагского университета и помог автору «Капитализма и свободы» [Милтону Фридману] опубликовать эту книгу; кроме того, он выделил средства на приглашение Хайека в Чикаго. Всем этим я хочу сказать, что идеи экономистов дают всходы. Как замечательно выразился Кейнс, «на самом деле, вряд ли миром правит что-либо еще» (Keynes, 1936, p. 383). Поэтому собранные здесь интервью позволят глубже узнать о возникновении и развитии экономических идей, а значит помогут лучше понять наш мир.
Barber, W.J. (1975) The Kennedy years: purposeful pedagogy. In C.D. Goodwin (ed.), Exhortation and Control: The Search for a Wage-Price Policy 1945–1971. Washington, D.C.: The Brookings Institution.
Bernstein, M. (2001) A Perilous Progress: Economists and Public Purpose in Twentieth-Century America. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Brush, S.G. (1995) Scientists as historians. Osiris 10, 215–231.
Bush, V. (1945) Science: The Endless Frontier. Washington, D.C.: Government Printing Office.
Davis, J.R. (1971) The New Economics and the Old Economists. Ames, IA: University of Iowa Press.
DeVorkin, D.H. (1990) Interviewing physicists and astronomers: methods of oral history. In J. Roche (ed.), Phisicists Look Back: Studies in the History of Phisics, pp. 44–65. Bristol and New York: Adam Hilger.
Everette, S.E. (1992) Oral History: Techniques and Procedures, U.S. Army Center for Military History; available at www.army.mil/cmh-pg/books/oral.htm
Gaudilliere, J.-P. (1997) The living scientist syndrome: memory and history of molecular regulation. In T. Soderqvist (ed.), The Historiography of Contemporary Scence and Technology. Amsterdam: Harwood Academic Publishers.
Houson, S. & Winch, D. (1977) The Economic Advisory Council, 1930–1939: A Study in Economic Advice During Depression and Recovery. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.
Hughes, J. (1997) Whigs, prigs, and politics: problems in the contemporary history of science. In T. Soderquist (ed.), The Historiography of Contemporary Science and Technology. Amsterdam: Harwood Academic Publishers.
Hutchison, T.W. (1968) Economics and Economic Policy in Britain, 1946–1966: Some Aspects of their Interrelation. London: George Allen & Unwin.
Keynes, J.M. (1936) The General Theory of Employment, Interest, and Money. New York: Harcourt, Brace & World.
Klamer, A. (1984) Conversations with Economists. Totowa, NJ: Rowman & Allanheld.
Kragh, H. (1987) An Introduction to the Historiography of Science. New York: Cambridge University Press.
Mirowski P.E. (2002) Machine Dreams. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Morgan, M.S. & Rutherford, M. (eds.) (1998) From Interwar Pluralism to Postwar Neoclassicism. Durham, NC: Duke University Press.
Weil, A. (1978) History of Mathematics: Why and How. International Congress of Mathematicians, Helsinki, Academia Scientiarum Fennica.
Weintraub, E.R. (1999) How should we write the history of twentieth century economics? Oxford Review of Economic Policy 15(4), 139–152.
Weintraub, E.R. (2002) How Economics Became a Mathematical Science. Durham, NC: Duke University Press.
Weintraub, E.R. (ed.) (2002a) The Future of the History of Economics. Durham, NC: Duke University Press.
Weintraub, E.R. (2005) Autobiographical memory and the historiography of economics. Journal of the History of Economic Thought 27(2), 1–11.
Yonay, Y.P. (1998) The Struggle over the Soul of Economics: Institutionalist and Neoclassical Economics in America between the Wars. Princeton, NJ: Princeton University Press.
1. Интервью с Василием Леонтьевым
Беседовал Данкан Фоули
Колледж Барнарда, Колумбийский университет
14 апреля 1997 г.
Василий Леонтьев – один из тех, кто определил облик экономической науки XX века. Он разработал теорию анализа «затраты – выпуск» и методы построения на основе технико-экономических данных таблиц «затраты – выпуск», ставших самым мощным и широко используемым инструментом структурно-экономического анализа. В 1940-е и 1950-е гг. эта теория сыграла также важную роль в уточнении концепции общего экономического равновесия. Кроме того, Леонтьев внес фундаментальный вклад в развитие теорий спроса, международной торговли и экономического роста. В круг его научных интересов входили монетаристская теория, эконометрика, экономика охраны окружающей среды, проблемы народонаселения, распределения, разоружения, индуцированного технического прогресса, международного перелива капитала, роста, экономического планирования, а также советской и других социалистических экономик. Леонтьев активно участвовал в разработке национальной и международной политики в области технологий, торговли, демографии, экологии и контроля над вооружениями. Также он был влиятельным критиком современных экономических теорий, методов и подходов. Нобелевскую премию по экономике Леонтьев получил в 1973 г.
Наша беседа с Василием Леонтьевым состоялась 14 апреля 1997 г. в его нью-йоркской квартире в одном из небоскребов рядом с парком «Вашингтон-скуэр». Леонтьев сидел на диване в гостиной, а миссис Леонтьева занималась своими делами где-то в глубине квартиры и время от времени осведомлялась о его самочувствии. В записи голос Леонтьева звучит то уверенно и громко, то едва не превращается в шепот. Он то оживлен, то задумчив, то озадачен, то вновь воодушевляется – но при этом остается всегда обаятельным. Иногда его слова заглушают часы, отбивающие каждые четверть часа, и характерный шум нью-йоркской улицы. Я отредактировал текст интервью, чтобы сделать его более связным и легким для понимания.
Рис. 1.1. Василий Леонтьев
Фоули: Была большая дискуссия о связи метода «затраты – выпуск» со схемами воспроизводства из второго тома «Капитала» Маркса. Какую роль сыграл Маркс, и сыграл ли вообще, в вашем становлении как экономиста? Вдохновили ли вас его схемы воспроизводства? Повлияли ли они на ваши взгляды?
Леонтьев: Дипломную работу я писал в России и именно там изучал марксизм, но не являюсь воинствующим экономистом-марксистом. Разрабатывая свой метод «затраты – выпуск», я пытался устранить недостатки классического и неоклассического анализа спроса и предложения. Я всегда считал его ужасно бессистемным. Полагаю, вы читали мое президентское послание?[5] Мне казалось, что теория общего равновесия не объясняет, как использовать фактические данные, и я специально разработал метод «затраты – выпуск», чтобы обеспечить фактическую основу, регистрировать факты систематическим образом и тем самым сделать механизм функционирования системы более понятным.
Фоули: Сыграла ли структура марксовых схем воспроизводства какую-либо роль в формировании вашей концепции?
Леонтьев: На самом деле нет. Маркс не был хорошим математиком. Он все время путался в цифрах и формулах, его трудовая теория стоимости не слишком содержательна, но, в сущности, я интерпретирую Маркса, и Маркс интересен мне только как классический экономист. А повлиял на меня, возможно, Кенэ, его идеи. Очень трудно сказать, что именно на нас влияет. В университете я учился на экономиста. Уже тогда я регулярно читал всех экономистов начиная с XVII века. Я просто читал и читал и поэтому получил очень хорошую подготовку в области истории экономической мысли, и, как мне кажется, могу оценить состояние этой науки.
Фоули: В самые первые годы советской власти вы жили в Советском Союзе?
Леонтьев: Я уехал из Советского Союза в 1925 г. У меня возникли проблемы с властями, и я вынужден был уехать, чтобы продолжать работать.
Фоули: Думал ли кто-либо в то время о статистике как основе планирования в Советском Союзе?
Леонтьев: Нет. В сущности, первым, что имело к этому хоть какое-либо отношение, был анализ национального дохода. Как и любой подобный анализ, он был слишком обобщенным. Вам дается одна цифра, в то время как я считал, что для понимания того, как функционирует система, одной цифры недостаточно. Хочется выяснить, как это можно детализировать. Я не собирался улучшать систему – просто пытался разобраться, как она работает. Конечно, прежде чем исправлять, хорошо бы понять, но мне кажется, что понять, как работает экономическая система, – это вообще первая задача экономиста.
Фоули: Тогда, в 1925 г., вы эмигрировали в Берлин?
Леонтьев: Да, в Берлин. Я очень быстро защитил диссертацию. Я тогда работал с двумя профессорами – был ассистентом у профессора Зомбарта, очень интересного историка и экономиста, и у Борткевича, экономиста-математика. Но профессор Зомбарт в математике не разбирался.
Фоули: Интересовал ли их статистический аспект составления таблиц «затраты – выпуск»?
Леонтьев: Нет, хотя экономисты в своих эмпирических исследованиях обязаны опираться на факты. Но многие, особенно лучшие экономисты, любят теоретизировать, оперировать абстрактными категориями.
Фоули: Как долго вы пробыли в Берлине?
Леонтьев: Около двух лет. После получения степени я работал в Институте мировой экономики (большом институте в Киле). Меня пригласили в штат, и, в сущности, именно там я и разработал свой метод «затраты – выпуск».
Фоули: Занимались ли другие ученые в Киле этой проблемой или вопросами, с ней связанными?
Леонтьев: Нет, я действовал совершенно самостоятельно.
Фоули: Наверное это был колоссальный труд – создать статистическую основу для анализа «затраты – выпуск».
Леонтьев: Да, конечно. Я решил, что следует показать, как этот метод работает на практике, и попросил помочь в этом одного человека. Национальное бюро экономических исследований пригласило меня в Соединенные Штаты. Я получил кое-какие деньги от фондов, и мы с моим помощником работали очень много, использовали всю возможную информацию, включая техническую, и прежде всего, естественно, данные переписи. Перепись в США была лучшим статистическим документом развития экономики. Позднее меня пригласили в Гарвард – там я проработал 45 лет. Когда началась война, интерес к методу «затраты – выпуск» возрос. Я был своего рода консультантом по экономическому планированию – работал для военно-воздушных сил, что во время войны имело, конечно, большое значение. Самая лучшая матрица «затраты – выпуск» была построена в военно-воздушных силах. У них была и таблица «затраты – выпуск» для экономики Германии – это помогало им выбирать цели. Обычно я не вмешиваюсь в чьи-то дела, но если вы над чем-то работаете, то должны понимать соответствующие задачи. В случае ВВС это был выбор целей и тому подобного, поэтому метод «затраты – выпуск» и вызывал у них такой интерес.
Фоули: Как вы оценивали работу Кейнса в 1930-е гг.? Не изменилось ли с тех пор ваше отношение к нему?
Леонтьев: Нет, абсолютно нет. Мое отношение было довольно критическим, так как я считал, что он разработал свою теорию, чтобы подвести основу под собственные рекомендации в области политики. Кейнс был больше политиком, чем аналитиком. Я так никогда и не стал кейнсианцем, хотя и написал одним из первых ряд статей, посвященных его взглядам. Вы найдете их среди моих работ. Но я пытался анализировать его концепцию системно, то есть не политический аспект, а просто подход, который был, по-моему, слишком прагматичным. Хотите исправить систему – хорошо, но сначала опишите ее, а уж затем улучшайте.
Фоули: Была ли у вас в то время альтернативная теория экономической депрессии?
Леонтьев: Нет. Мне кажется, для теоретического осмысления экономических колебаний требуется прежде всего понимать, что эти процессы носят динамический характер. Я по-прежнему считаю, что эти колебания обусловлены определенного рода разницей, дифференциальными уравнениями. Структурные изменения имеют, конечно, большое значение, особенно сейчас. Динамика имеется всегда. Это система взаимосвязей, система уравнений, но количественный подход все равно важен. Поскольку я уделял много внимания связи между наблюдением и теорией, одновременно я разрабатывал теорию анализа по методу «затраты – выпуск», которая на самом деле является математической, и сам пытался собрать данные. Думаю, мне удалось повлиять на содержание курса экономической статистики.
Фоули: Да. Метод «затраты – выпуск» и анализ национального дохода – два важнейших достижения 1940–50-х гг.
Леонтьев: Согласен. Думаю, что здесь нет противопоставления. Метод «затраты – выпуск», на мой взгляд, просто намного более подробен. К примеру, Стоун, которому было поручено разработать систему показателей экономической статистики для ООН, придавал огромное значение методу «затраты – выпуск» как основе для агрегирования показателей при расчете национального дохода.
Фоули: В системе подобного рода обычно всегда пытаются смоделировать воздействия как со стороны спроса, так и со стороны предложения.
Леонтьев: Попытки отдельно анализировать спрос всегда вызывали у меня определенное беспокойство. Мне кажется, что хозяйства – это только часть всей системы. В правильной теории хозяйства – просто крупный сектор экономики.
Фоули: Это согласуется с идеей классической школы о том, что воспроизводство населения – один из аспектов воспроизводства экономической системы.
Леонтьев: Совершенно верно. Об этом писал еще Кенэ.
Фоули: О взаимосвязи между структурными изменениями и колебаниями деловой активности мы говорили и с Ричардом Гудвином.
Леонтьев: Ричард Гудвин – мой бывший студент. Он учился у меня, был моим ассистентом. Он не смог найти себе в Гарварде постоянную работу и уехал в Англию. Он был хорошим другом и очень интересным человеком.
Фоули: Мы как-то говорили об этом с Гудвином. В конце 1940-х у него была работа в Гарварде, но не постоянная.
Леонтьев: Да, постоянную работу он получить не смог, поэтому и уехал в Англию.
Фоули: Он сказал то же самое, но меня несколько удивило, что человек, занимавшийся в конце 1940-х такими исследованиями, не смог получить место в штате.
Леонтьев: Думаю, это из-за политики. Он был левым.
Фоули: И это перевесило его научные заслуги?
Леонтьев: Да, честно говоря, дело было именно в этом.
Фоули: Так вы и сегодня стали бы искать основную причину циклических колебаний экономики в лагах, в структурных изменениях со стороны предложения?
Леонтьев: Да, в структурных изменениях, но нужно быть очень осторожным, поскольку система, динамичная система, без структурных изменений имела бы лаги, а также скрытые внутренние причины колебаний. В настоящее время большое значение имеет, конечно, технический прогресс. Это существенный фактор экономических изменений и причина изменений социальных.
Фоули: Как вы считаете, эти колебания носят затухающий или взрывной характер?
Леонтьев: С точки зрения математики они не обязательно должны быть затухающими. Но тогда возникает вопрос, почему не происходит взрыва? Существуют некие силы, которые не дают взорваться, в том числе экономические – такие как политика и прочие нелинейные воздействия.
Фоули: В 1930-е гг. у вас были разногласия с Маршаком по поводу анализа спроса.
Леонтьев: Да, подробностей я теперь уже не помню, но, думаю, в подходе Маршака был логический изъян.
Фоули: Сыграло ли это какую-то роль в разработке метода «затраты – выпуск»?
Леонтьев: Это было уже после того, как я разработал метод «затраты – выпуск», который на самом деле был создан в период работы в Киле, а также в Национальном бюро. В Национальном бюро я вел «подрывную деятельность», так как при Митчелле оно занималось узкопрактическими вопросами, а у меня было очень сильное теоретическое чутье. Чтобы понять процесс, нужно иметь теорию. Там я организовал подпольный теоретический семинар. Он был подпольным, поскольку не соответствовал принципам Национального бюро.
Фоули: В 1940-е гг. между Национальным бюро и Фондом Коулза были довольно острые разногласия по поводу соотношения ролей эмпирического метода и теории. Купманс написал тогда очень острую статью.
Леонтьев: Поскольку я считал, что огромную, важнейшую роль играет математика, я был бы, конечно, на стороне Комиссии Коулза.
Фоули: Но институционально вы были ближе к Национальному бюро…
Леонтьев: Совершенно верно. Мне всегда казалось – и об этом я как раз писал в своем президентском послании – что если вы действительно хотите разбираться в эмпирической науке, то у вас должны быть факты. И проблема в том, как организовать эти факты. Теория, в сущности, и «организует» факты.
Фоули: Ваша позиция была своего рода синтезом двух этих точек зрения.
Леонтьев: Да, именно так.
Фоули: В 1940-е гг. Комиссия Коулза разработала весьма специфический подход к эконометрике и решению проблем измерения. Вызвал ли он у вас понимание?
Леонтьев: Нет. Я сразу выступил с критикой.
Фоули: Ожидали ли вы, что метод «затраты – выпуск» будет использоваться при разработке государственной политики после Второй мировой войны? Это период интересен тем, что служит образцом для последующих десятилетий.
Леонтьев: Прежде всего, не только государственной, но и отраслевой. Я вспоминаю, что когда значительно позднее возник вопрос о месте автомобильной промышленности в американской экономике, нашлась ассоциация промышленников, которая сказала: «Идите к Леонтьеву», поскольку я опубликовал одну работу, в которой в качестве примера использовалась автомобильная промышленность. Я опубликовал эмпирическую работу, а мой принцип, хоть мне и не всегда удавалось его соблюдать, заключался в том, чтобы использовать фактические данные всякий раз, как делаешь какой-либо теоретический вывод, – то есть не просто говорить, но действительно понимать, как это работает.