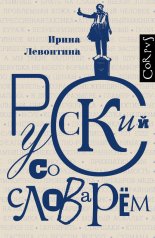О чем думают экономисты: Беседы с нобелевскими лауреатами Коллектив авторов

MD: Давайте поговорим о тех годах в Пенсильванском университете, которые связаны с моделями перекрывающихся поколений.
Касс: Если память мне не изменяет, мы с Карлом Шеллом снова стали обдумывать модель перекрывающихся поколений где-то в середине или конце 1970-х. Если нужно сказать точнее, то я бы назвал 1977 г. Расскажу, с чего все началось, насколько я помню. У нас с Карлом состоялась дискуссия, поскольку здесь проходил семинар, который вели младшие преподаватели, и мы в нем также участвовали. Нам пришлось вернуться к истокам и прочесть кое-какие классические работы по макроэкономике, которые люди хотели обсудить. Одной из таких работ была работа Лукаса 1972 г. Не помню, почему один из нас решил ее представить, но она заставила меня снова задуматься над тем, о чем я спрашивал Боба, – а именно о пространстве состояний, и мы с Карлом обсудили эту проблему. Карл сообразил, что мы можем формализовать идею о том, чтобы иметь в пространстве состояний произвольные переменные. Так Карл разработал первый пример равновесия солнечных пятен, думаю, именно тот, который он впоследствии использовал в своей так называемой лекции Маленво. Это линейная модель перекрывающихся поколений (OLG), в которой от солнечных пятен зависит распределение ресурсов домохозяйств, но не их благосостояние, и я раскритиковал этот пример. Я сказал: «Карл, этот пример неубедителен. С точки зрения благосостояния он значения не имеет».
Рис. 2.3. Капустник на экономическом факультете Пенсильванского университета, во время которого преподаватели и аспиранты исполняли пародии друг на друга. Касс выступает в сопровождении оркестра Рэнди Уайта, 3 марта 1998 г. Слева направо: Рэнди Райт, Дэвид Касс, Андрей Шевченко (аспирант-экономист), Гвен Юди (Университет Джорджтауна) и Боен Йованович (за фортепьяно)
Мы собирались на конференцию по теории роста, которую мы с Карлом организовали в Сквом-Лейк (штат Нью-Гемпшир). И после этого спора я почти все время, пока проходила конференция, провел у себя в номере, пытаясь разработать пример равновесия солнечных пятен в модели перекрывающихся поколений, при которой солнечные пятна действительно влияли бы на распределение ресурсов. Первым примером, который я подготовил, был пример с квадратичной функцией полезности. Он был таким сложным! Мы с Карлом рассказали о нем на конференции, но нашу идею никто не понял. Никто ничего не понимал до последнего дня, пока мы действительно не представили нашу работу, и тогда единственным, кто понял, что мы имеем в виду, был Стив Сэлоп. Мы были обескуражены.
MD: Речь шла об оптимизации в модели перекрывающихся поколений?
Касс: Да, это была модель перекрывающихся поколений, но в этой модели (как может подтвердить Стивен Спир, поскольку его диссертация была как раз об этом) вы должны очень осторожно выбирать свою функцию полезности. Помню, я решил, что не смогу получить равновесие солнечных пятен для стандартных параметрических форм, и мне понадобятся кросс-продуктовые параметры, поэтому… как бы то ни было, мы с Карлом вернулись к нашей идее и знали, что она очень перспективна. Реакция на нее со стороны наших коллег несколько обескуражила нас, поэтому к работе над ней мы приступили далеко не сразу. Энтузиазм Карла был колоссальным – он много об этой идее говорил. В конце 1970-х он отправился в Париж, где прочитал свою лекцию Маленво, на которую всегда ссылается, поскольку хочет, и совершенно справедливо, чтобы мы отстояли свой приоритет.
Среди тех, с кем он часто обсуждал эту тему, был Костас Азариадис. Думаю, что Карл неоднократно объяснял Костасу свою идею, и тот в конце концов ею заинтересовался и написал на эту тему работу. Он понял, что, используя не подход, основанный на полезности, а систему вероятностей Маркова первого порядка, можно получить равновесие солнечных пятен. Вообще-то эту мысль в целом развивает в своей диссертации Стив, решив проблему задолго до того, как это сделали, например, Азариадис и Геснери. Но кое за что я все же должен Костаса поблагодарить. Когда он написал свою работу или, возможно, еще до этого, мы поняли, что если собираемся развивать эту идею, то пора уже этим заняться.
MD: И это привело к появлению статьи в Journal of Political Economy?
Касс: В статье в JPE был описан простой стандартный пример, не требовавший использования схемы перекрывающихся поколений, хотя мы и основывались на одном из свойств модели перекрывающихся поколений – расхождении в результате ограничения участия на некоторых рынках. Гораздо позже мы написали работу, показывающую, что есть еще один аспект модели перекрывающихся поколений – каким-то образом в ней играет роль бесконечность времени. Мы разработали пример с полными рынками и неограниченным участием – попробую сейчас его описать. В принципе это была модель перекрывающихся поколений, где вся неопределенность существует только в первом периоде, вы получаете либо альфу, либо бету и можете купить страховку на любой случай, но из-за бесконечности модели вы все равно получите равновесие солнечных пятен. Поэтому можно сказать, что существуют две причины равновесия солнечных пятен: одна из них имеет отношение к временной структуре перекрывающихся поколений, а другая – к недостаточному доступу к рынкам активов.
МD: Кажется, Джим Пек исследовал вторую причину в своей диссертации?
Касс: Да, верно. Я довольно долго не очень задумывался о солнечных пятнах, особенно в модели перекрывающихся поколений, но он делает обобщение относительно нестационарных равновесий солнечных пятен в модели OLG. Думаю, солнечные пятна действительно интересны, но даже когда мы с Карлом написали статью для JPE, мой интерес изменился. И я стал обдумывать проблему общего равновесия, в которой вы можете создать модель конечной размерности. Конечно, у нас есть простая, но очень важная теорема, которая гласит, что если имеются все необходимые условия первой теоремы благосостояния, то невозможно получить солнечные пятна. Затем мы используем то, что Карл обычно называл теоремой филадельфийского фолка – она заключается в том, что если вы нарушите любое из этих условий, то можете получить равновесие солнечных пятен. Это не совсем верно, поскольку она говорит только о том случае, когда у вас есть теорема, в которой А, В и С предполагают D, и если вы откажетесь от одного из этих допущений, то скорее всего вывод будет неверным. Но, конечно, может быть и так, что вывод в любом варианте будет верным. Полагаю, что именно здесь мнения мое и Карла несколько расходятся, но он очень заинтересовался отсутствием выпуклости. Его примеры разработаны верно. Но не вполне правомерно заявлять, что если имеется какая-либо невыпуклость, это означает наличие солнечных пятен, поскольку (как указали Гераклес Полемарчакис и я) невыпуклость может наблюдаться в производстве. И, так как максимизация прибыли соотносится с гиперплоскостью, вы можете заменить все значения под гиперплоскостью и назвать это множеством производственных возможностей, и вы снова получите первую теорему благосостояния.
Пример в JPE – реальный простой пример, в котором есть два состояния мира, и мы в рамках модели перекрывающихся поколений рассматриваем два класса домохозяйств. В ответ на изменившиеся условия в мире один класс может продать активы, а другой не может, поскольку родился позже и поэтому обязан торговать только на рынке реального товара. Это один пример. Но мне захотелось придумать и другие примеры равновесия солнечных пятен. В частности, в начале 1980-х я отправился на год в Париж, и первое, чем я решил заняться, – это придумать другие примеры равновесия солнечных пятен в условиях отсутствующего рынка. Почему-то я решил, что это можно сделать с помощью модели, в которой у вас есть активы, но их недостаточно для изменения состояния мира. Так я заинтересовался неполными рынками. Это еще одна статья, которая мне очень нравится, – она называется «Основной пример». Мне с трудом удалось ее опубликовать, поскольку я написал ее в стиле, принятом в JPE, как своего рода продолжение первой статьи, а, по мнению сторонников чикагской школы, солнечные пятна ничего не объясняют и вообще неинтересны. Вот с чем мне пришлось столкнуться.
МD: В знаменитой публикации Карекена и Уоллеса Касс и Шелл, в частности, говорят, что, по определению, модель перекрывающихся поколений – единственная динамическая дезагрегированная модель, которая может считаться интересной макроэкономической моделью.
Касс: Здесь я должен вернуться к тому, как создавалась модель перекрывающихся поколений. Этой моделью я заинтересовался из-за солнечных пятен. А затем Окуно и Зилча (возможно, это произошло на той же конференции в Сквом-Лейк) представили доклад, в котором пытались доказать, что если ввести в модель перекрывающихся поколений деньги, то равновесие, при котором деньги будут иметь нетривиальную цену, обязательно будет парето-оптимальным. В их доказательстве был изъян.
МD: Нейл Уоллес не раз говорил об этом в Миннесоте.
Касс: В своей работе они пытались доказать то, во что верил Нейл. Я видел их доказательство, читал его очень внимательно – и в нем есть ошибка. Я решил, что оно, возможно, неверно, поскольку строится на определенных свойствах функций полезности и прочего, и поэтому решил придумать контрпример. Я придумал множество контрпримеров того, как можно ввести деньги и по той или иной причине (гетерогенности, нестационарности и т. д.) не получить парето-оптимальности. Я снова заинтересовался моделью перекрывающихся поколений. Мы с Карлом действительно в нее верили и стали работать над ней в более общем плане, когда завершили работу над солнечными пятнами. Мы действительно в то время считали ее единственной серьезной моделью, в которой деньги имели какое-либо значение. Конечно, впоследствии появились довольно известные работы, посвященные другим моделям, в которых деньги играют основную роль.
МD: Хотя с математической точки зрения эти модели не сильно отличаются от вашей?
Касс: Я как раз собирался об этом сказать. Модель Кийотаки-Райта мне очень нравится, но я уже говорил вам, Рэнди: мне кажется, что важнейшая особенность обеих этих моделей – неограниченность горизонта планирования. Ограничив свой поиск, вы тоже не добились бы, чтобы деньги имели какое-либо значение. Поэтому, хотя нам и не хватило фантазии придумать другую модель, а эта, например, была бы вашей моделью с поиском и неограниченным горизонтом, думаю, вы были правы, утверждая, что необходимость введения денег обусловлена временными границами модели. Я по-прежнему считаю, что деньги имеют ценность постольку, поскольку люди думают, что деньги будут ее иметь. И единственный способ заставить их думать именно таким образом – не принуждать людей инвестировать. И в этом модель Кийотаки-Райта схожа с моделью перекрывающихся поколений.
MD: Это интересно, поскольку существуют такие модели с неограниченным горизонтом, в которых деньги роли не играют. Поэтому горизонт не является достаточным условием.
Касс: Точно так же, как неограниченный горизонт не обязательно обеспечивает деньгам какую-то роль. Кроме того, у вас должно быть определенное несовершенство, какое-то нарушение условий действия первой теоремы благосостояния, например, ограничение участия или неконкурентное поведения (поисковая модель).
MD: Согласны ли вы с тем, что в монетаристской теории еще немало вопросов, которые только предстоит решить?
Касс: Да, конечно. Было бы хорошо, но, наверное, невозможно, иметь непротиворечивую модель, в которой мы могли бы уйти от того, что при бесконечном будущем деньги имеют ценность, но трудно представить себе, как это можно сделать. У Джона Геанакоплоса есть модель, модель неполных рынков с деньгами и с ограничениями, связанными с предоплатой. В этой модели деньги имеют ценность, поскольку их выпускает банк, и вы обязаны их ему возвращать. Но по большому счету банк эти деньги просто выбрасывает, и на самом деле эта модель не является закрытой. И это, конечно, ее недостаток.
MD: Какие проблемы возникают в связи с бесконечным горизонтом планирования?
Касс: Когда-то в 1980-е я изменил свое отношение к бесконечному горизонту. Думаю, что в итоге причина моих возражений была связана с рациональными ожиданиями, хотя я определил бы рациональные ожидания скорее с точки зрения общего равновесия, чем с позиций макроэкономики. В моем понимании рациональные ожидания означают, что у вас есть однозначно определенное пространство состояний, и что в этих состояниях каждый индивидуум разделяет общие ожидания относительно цен, которые будут превалировать в дальнейшем. В результате этих ожиданий на нынешних рынках установится равновесие, и когда наступит завтрашнее состояние, учитывая эти планы, единственным равновесием на рынке реального товара будет равновесие по ценам, которые прогнозируются. Но есть небольшая проблема: ведь возможно и другое равновесие. Ни у одной известной мне модели равновесия нет разумной процедуры реального достижения цен равновесия, поэтому неясно, почему фактические цены совпадут с прогнозируемыми. Возвращаясь к этому вопросу, скажу, что я в состоянии понять, почему могу захотеть использовать рациональные ожидания как эталон, если мы делаем не слишком долгосрочный прогноз. Но обычно при этом необходимо принять допущение, что вы знаете, какова мировая структура. Существует, на мой взгляд, большая разница между этим допущением и неявным допущением о том, что вы будете знать ее всегда. Эта проблема меня очень беспокоит.
MD: Считаете ли вы, что для каких-то релевантных вопросов целесообразнее использовать краткосрочную модель?
Касс: Думаю, что можно использовать краткосрочную модель, но когда вы достигнете определенного периода – при условии, что вы его достигнете, – у людей появятся основания ожидать, что за ним последует и другой период. Это своего рода индуктивный аргумент. Вы не можете «отсечь» мир потому, что в последнем периоде люди все равно будут ожидать наступления еще одного периода. Я имею в виду то, что мне понятен этот аргумент, но мне просто не нравится вывод, что модель должна быть бесконечноразмерной. Исходя из своего опыта я считаю, что бесконечноразмерные и конечноразмерные модели изоморфны. Но они не изоморфны с точки зрения наделения ролью бумажных денег, и это меня беспокоит. Поэтому я хочу ввести одно из тех искусственных допущений, над которыми я обычно смеялся. В частности, допущение о том, что люди получают пользу от того, что не тратят деньги, или что их вынуждают не тратить деньги, чтобы модель была закрытой. Для меня такое допущение предпочтительней введения бесконечного горизонта. Я совершил полный круг. Я знаю, что мы с Карлом в своей защите модели перекрывающихся поколений часто смеялись над подобными искусственными закрытыми моделями, но теперь я отношусь к ним с большей симпатией.
MD: Продолжая разговор о неполных рынках, можно сказать, что одна из нынешних тенденций в макроэкономическом анализе – финансовая интеграция.
Касс: Думаю, что введение финансов в макроэкономический анализ имеет первостепенное значение, но также я считаю, что предметом этого анализа в основном станут отсутствующие рынки.
MD: Кое-кто находит модели неполных рынков слишком специальными, так как определенная категория рынков просто закрыта.
Касс: Они действительно очень специальные, но первый шаг к пониманию этой проблемы – построение модели, в которой вы это допустили. Сейчас во многих работах делается попытка оправдать отсутствующие рынки, например, тем, что, если имеется пространство конечных состояний, то тогда идиосинкратические переменные должны казаться частью определения пространства состояний. Тогда вы не сможете получить рынки для идеосинкратического риска из-за проблемы морального риска. Другая возможность – недостаток информации. Сегодня люди пытаются создавать более формальные модели, работающие на основе стандартной, несовершенной в том или ином отношении информации, что приводит к тому, что вы получаете неполные рынки. Они хотят, чтобы эта неполнота стала эндогенной.
Еще один способ сделать это – сохранить структуру модели неполных рынков, но ввести агентов, оптимизирующих структуру активов. Не думаю, что эти модели очень удачны, наверное, потому, что они требуют, например, чтобы агенты, собирающиеся создать инструменты, могли прогнозировать (поскольку это равновесие Нэша), что будут вводить и затем делать другие агенты, и каковы будут равновесия. Чтобы построить формальную модель, вы обязаны сделать это серьезное допущение в отношении информации. Это служит примером того, какие проблемы могут возникать. Знаете, люди очень хорошо их осознают, хотя я все равно думаю, что много вещей, справедливых в модели, в которой неполные рынки просто допускаются, будут справедливыми и в моделях, в которых вы объясняете, почему у вас имеется неполнота. Я в этом убежден. Один из результатов моего изучения неполных рынков, которым я весьма доволен, – то, что я сделал предварительные наброски, по которым затем мы с Ивом Баласко написали работу. Джон Геанакоплос с Эндрю Масколеллом написали примерно в то же время статью, показывающую, что в условиях неполных рынков вы получаете значительную неопределенность равновесий в реальном смысле слова. Думаю, что этот результат сохранит свое значение.
MD: На самом деле мы возвращаемся таким образом к монетаристским моделям, поскольку все это предполагает ненейтральную денежно-кредитную политику в условиях неполных рынков.
Касс: Да, и я собираюсь сделать еще один шаг. Простейший вариант неопределенности возникает из-за того, что с неполными рынками вы можете выбрать в разные периоды разные масштабы цен. Но другая причина, порождающая еще большую неопределенность, – то, что вы можете сделать параметром модели структуру активов.
MD: Разве вы не говорили, что рациональные ожидания и рыночное авновесие еще не определяют окончательно всего, что касается солнечных пятен или динамики?
Касс: Верно. Это своего рода саморазрушение.
MD: Некоторые высказывают подобные суждения в силу приверженности кейнсианской макроэкономической теории. А вы?
Касс: Нет. Должен признать, что это своего рода аномалия, поскольку в конечном счете носит разрушительный характер. Я использовал как точку отсчета конкурентную модель равновесия, а у нее нет предсказательной силы, поэтому это своего рода саморазрушение. Мне это очень интересно. Мне интересно попытаться сообразить, что именно определяет равновесие. Я все еще нахожусь на том этапе, когда не знаю ответа.
MD: Это, безусловно, очень интересная интеллектуальная задача на будущее.
Касс: Да, это интеллектуальная головоломка. И должен признать, что на протяжении всей моей карьеры в экономике меня постоянно интересовала какая-нибудь интеллектуальная загадка, пусть и не модная, не имеющая никакого практического значения – и бог знает почему. Могу привести наглядный пример: я несколько лет работал над проблемой характеристики парето-оптимальности и эффективности в бесконечноразмерной модели роста.
MD: В чем, по вашему мнению, будущее микро- и макроанализа, теории общего равновесия и теории игр? Что впереди?
Касс: Я планирую свою работу на довольно краткосрочную перспективу. И так было всегда. Я думаю заранее только о следующей проблеме, над которой собираюсь работать. Я всегда оказывался в очень невыгодном положении, когда пытался получить гранты, поскольку не имел даже смутного представления о том, над чем буду работать в будущем!
MD: Значит, мы возвращаемся к вопросу, который, как вы сказали, Купманс задал в отношении рынка труда, не правда ли?
Касс: Да, возможно, вся проблема именно в этом! Мы совершили полный круг. Но вообще-то я знаю, что в науке большую роль играет счастливая случайность. Я имею в виду, что если бы вы сказали мне 15 лет назад, что я буду заниматься общим равновесием с неполными рынками, то я бы ответил: «Вы с ума сошли?» Счастливая случайность в данном случае состоит в том, что я хотел разработать примеры равновесий солнечных пятен с отсутствующими рынками и понял, что существует немало интересных вопросов, связанных с моделью, которую я хочу для этого использовать. В частности, причина, по которой я занялся неопределенностью, заключается в том, что в модели солнечных пятен, при условии отсутствующего финансового инструмента, вы получаете континуум равновесий солнечных пятен; это оказывается общим свойством неполных рынков. Вопрос, который я пытаюсь решить сейчас, – что может реально уменьшить количество равновесий. Максимум, на что можно надеяться – конечное число равновесий, и я не думаю, что ответ в том, чтобы ввести деньги для нормализации цен, поскольку все равно существует что-то, являющееся базовым элементом модели, ее эндогенным фактором, и это – структура активов. Ее необходимо эндогенизировать. Поэтому вопрос заключается в том, получаете ли вы по-прежнему неопределенность, когда действуете в соответствии с этой схемой. Мне это интересно.
MD: Так вы хотите эндогенизировать структуру активов?
Касс: Да, эндогенизировать структуру активов. Есть примеры, когда вы эндогенизируете структуру активов и как будто в определенном смысле объясняете равновесие, но на самом деле это не так. Хороший тому пример – работа Альберто Бизина, его диссертация, в которой он, в сущности, вводит идею, взятую из теории игр. Идея заключается в том, что некоторые домохозяйства начинают использовать новые финансовые инструменты, и делают это по методу Нэша. За данность берется то, что делают все остальные домохозяйства, и затем определяется изменение равновесия в зависимости от их действий, после чего ведется поиск оптимального решения. Основная проблема сегодня связана с тем, что равновесие Нэша, как известно, предполагает множество вариантов. Единственное, что при этом уменьшается, так это количество равновесий после того, как определен набор финансовых инструментов. Так или иначе, в его модели есть раздел, который касается реальной неопределенности и который показывает, что у вас не так уж много вариантов равновесий, связанных с данной структурой активов. Но зато у вас множество равновесий, связанных с равновесием Нэша. Вы просто отодвинули неопределенность на один шаг назад.
MD: Несколько минут назад вы рассказывали о том, как занимаетесь исследованиями, о том, как смотрите на модель и думаете о вопросах, на которые она, по вашему мнению, поможет ответить. Не могли бы вы продолжить эту тему?
Касс: То, что заставляет меня заниматься наукой, отличается от того, что заставляет заниматься наукой подавляющее число людей. Меня никогда не привлекало то, что многие называют проблемами реального мира. Во мне намного больше от структуралиста. Я изучаю некоторые вопросы потому, что для меня это интересные загадки, и не важно, какое экономическое значение они имеют.
MD: Интересная особенность вашей биографии как ученого – вы могли работать над этими проблемами по какой угодно причине (ничуть не интересуясь, скажем, реальной политикой), и все же модель Касса-Купманса – это основа современной теории экономического цикла, результаты вашей работы по перекрывающимся поколениям используются во многих практических исследованиях в области теории монетаризма, а выводы, сделанные вами в ходе изучения солнечных пятен, учитываются при разработке макроэкономической политики.
Касс: В этом и состоит красота истинно интеллектуальной научной дисциплины. В ней есть место для таких людей, как я.
MD: Где-то в самом низу пищевой цепи?
Касс: Нет… Вы просто что-то узнаете! Никогда не следует смеяться над тем, как подходит к вопросу интеллектуал. Ведь неизвестно, когда придуманное им в конце концов станет действительно интересным, но по другим причинам.
MD: Но на это может уйти лет 20 или 30.
Касс: На это может уйти вечность. Или это не случится никогда.
3. Интервью с Робертом Лукасом-младшим
Беседовал Беннетт Маккаллум
Университет Карнеги-Меллона
Лето 1998 г.
Роберт Лукас – один из признанных и влиятельнейших экономистов последних 25–30 лет, по крайней мере среди тех, кто занимается макроэкономикой и монетаризмом. Его работы заставили кардинально пересмотреть и оживить науку, увидеть влияние рациональных ожиданий. Благодаря ему появилась равновесная теория циклических колебаний, описание аналитических составляющих, необходимых при использовании эконометрических моделей для разработки государственной политики. За эти достижения в 1995 г. он был награжден Нобелевской премией по экономике. Кроме того, его значительный вклад по другим направлениям мог бы «потянуть» еще не на одну награду. Среди них – основополагающие труды по определению стоимости активов, экономическому росту и развитию, определению курса валют, наиболее благоприятной фискальной и инфляционной политике, инструментам анализа динамических рекурсивных моделей.
Чикагский университет сыграл особую роль в жизни ученого. Здесь он получил степень бакалавра и доктора наук и в 1975 г. приступил к работе на факультете. Он также был деканом экономического факультета Чикагского университета и на протяжении двух семестров – главным редактором Journal of Political Economy. Но несмотря на это, я и ряд моих коллег в Карнеги-Меллон любим время от времени вспоминать, что Роберт Лукас с 1963 по 1974 г. был здесь профессором в Высшей школе промышленного администрирования. В этот период он опубликовал свои основные научные труды, за которые впоследствии получил Нобелевскую премию. Поэтому я не мог удержаться от соблазна и не задать собеседнику несколько вопросов о времени, проведенном в нашем университете.
Многие исследователи были поражены знаниями Лукаса, а также ясностью мысли и элегантностью стиля его работ, выбором тем для изучения. Последнее подчеркивает всю серьезность целей ученого. В каждом из его проектов в основе решения проблемы лежал неподдельный интерес с точки зрения теоретических изысканий и одновременно – несомненная важность для перспективного развития экономической политики. Свои исследования Лукас никогда не направляет на решение задач незначительных, о чем он во время интервью еще раз напомнил.
По словам близких и коллег, Роберт Лукас – человек, который никогда не использует три слова, если можно обойтись одним, но его он выберет с особой тщательностью. Это интервью – яркое тому подтверждение. В отличие от обычной практики, используемой журналом при проведении интервью, это интервью – с разрешения редактора – прошло в заочной форме с помощью писем и электронной почты. В результате оно меньше, чем предыдущие интервью, но, думаю, читатели по достоинству его оценят. Несмотря на все трудности, связанные с проведением интервью, я получил от этой работы огромное удовольствие и узнал много нового.
Рис. 3.1. Роберт Лукас-младший
Маккаллум: Начнем с того, как и когда вы стали интересоваться экономикой и почему выбрали ее в качестве профессиональной деятельности.
Лукас: Когда мне было семь или восемь, мой отец как-то спросил, не заметил ли я, сколько грузовичков различных компаний приезжает в наш квартал: один из них привозил молоко от компании Darigold, другой – от Carnation и т. д. Мы насчитали пять или шесть компаний. Отец спросил, считаю ли я, что есть какая-то разница в молоке, которое те привозят. Я ответил – нет. Тогда он сказал, что при социализме молоко в квартал будет привозить всем один грузовик, а сэкономленное время и бензин будут использоваться для чего-нибудь еще.
Не думаю, что это можно считать моим первым серьезным разговором на экономические темы, но этот эпизод – самое раннее из того, что я помню.
Взгляды моих родителей сформировались в 1930-е, и они, как и я, не разделяли идеи свободного рынка. Мы считали, что экономикой необходимо управлять разумно, и каждый день мы обсуждали подробно, как это могло бы быть и что для этого необходимо сделать.
В 1950-е, поступая в Чикагский университет, я понимал, что научная деятельность для меня – это то, что нужно. В колледже мои интересы и предпочтения привели меня к изучению истории. Во время обучения в магистратуре я начал серьезно изучать экономику.
Маккаллум: А почему вы отправились учиться в Чикаго?
Лукас: Я мог остаться дома и поступить в Вашингтонский университет в Сиэтле. Но Чикагский университет дал мне стипендию, покрывающую все расходы на обучение. Это был шанс вырваться из родного города, что для меня в то время было необходимо.
Маккаллум: А почему вы решили переключиться на экономику?
Лукас: Я переключился на экономику с экономической истории, не имея ни малейшего представления о том, как работает экономика или чем занимаются экономисты. Но вскоре я открыл для себя, что важнейшую роль в экономике играют математические выкладки, и такой подход к обоснованию человеческого поведения мне был близок.
Маккаллум: Как вам удалось получить столь глубокие знания в математике?
Лукас: Все забывают, что в начале 1960-х, чтобы стать экономистом, больших математических познаний не требовалось. Еще в колледже, прежде чем серьезно заняться историей, я изучал вычислительную математику и дифференциальные уравнения. Из «Основ» Самуэльсона[7] я, как и другие мои коллеги, узнал об использовании математики в экономике. Во время учебы в магистратуре я прошел курс линейной алгебры и углубленный курс вычислительной математики. Кроме того, посещал курс математической статистики, который читали на факультете статистики Чикагского университета. Даже имея такой багаж знаний, я продолжал заниматься самообразованием и с большей частью того математического аппарата, который сейчас использую, я ознакомился уже после окончания магистратуры.
Маккаллум: Когда вы учились в аспирантуре Чикагского университета, кто из преподавателей оказал на вас большее влияние?
Лукас: Самое большое влияние, так или иначе, на всех студентов, и на меня в том числе, оказал Милтон Фридман. Оба его курса по теории цен были удивительны. Он просто изменил наше представление о мире. В то время я впитывал в себя все, как губка, многому научился и у других преподавателей. Эл Харбергер в то время занимался количественными моделями общего равновесия, которые и сегодня выглядят достаточно современно. Мартин Бейли, Карл Крист и Гарри Джонсон также были нашими учителями в области макроэкономики. Грег Льюис на одном из своих семинаров рассказал нам о своей книге о профсоюзах, из которой я также многое узнал.
Среди более молодых преподавателей я бы выделил Цви Грилихеса, который преподавал эконометрику и поддерживал таких «технарей», как я. Дейл Йоргенсон, работавший в университете по приглашению в 1962–1963 гг., также произвел на меня большое впечатление. И еще Дон Бир – он вел бесподобный курс математики для экономистов.
Рис. 3.2. Луис Чен, Роберт Лукас и Чи-Ва Иен. Пик Виктория, Гонконг
Макаллум: У меня ощущение, что Узава также в какой-то степени оказал на вас влияние. Я ошибаюсь?
Лукас: Узава пришел в Чикагский университет через год после того, как я его закончил, поэтому он не был моим преподавателем. Но я участвовал в двух летних конференциях по теории экономической динамики, организованных Узавой и Дэвидом Кассом – в Чикаго и в Йеле. Конференции дали мне возможность поближе познакомиться с лучшими молодыми экономистами-теоретиками. Мне импонировал идеализм и серьезный подход Узавы и Касса. Я был польщен тем, что завоевал такое доверие и меня пригласили на конференцию, где я узнал много нового.
Маккаллум: Чьи семинары-практикумы вы посещали регулярно?
Лукас: Тогда семинары-практикумы проводились реже, чем сейчас. Все, что касалось вопросов эконометрики и математической теории, рассматривалось на семинаре по эконометрике. Его вели Цви [Грилихес] и Лестер Телсер. Кроме меня, в нем постоянно принимали участие и Мертон Миллер и Дэн Орр из бизнес-школы. Эл Харбергер вел семинар-практикум по государственным финансам, который посещали все студенты, работавшие с ним, включая меня. Грег Льюис приглашал меня сделать доклад на своих семинарах по трудовым отношениям, но я посещал его семинары лишь время от времени.
Маккаллум: То есть вы не посещали семинары-практикумы по денежным системам и банкам?
Лукас: В те времена принять участие в семинаре-практикуме можно было только по приглашению, но меня на семинары по денежным системам и банкам никто не приглашал – на это не было и причин. Эта область не входила в сферу моих интересов. Меня больше интересовали эконометрика и государственные финансы. К тому же я не работал с Фридманом.
Маккаллум: Вы стали старшим преподавателем (доцентом. – Прим. пер.) в Карнеги-Меллоне (в то время Технологический институт Карнеги) в 1963 г. Это так?
Лукас: Да, я приступил к работе в Высшей школе промышленного администрирования в сентябре 1963 г. В то же время, что и Трен Долбир, Мел Хайнич, Морт Кэмиен, Лестер Лейв и Тим Магуайр. Мы были в первом наборе нового декана факультета Дика Сайерта.
Маккаллум: Как вы начали заниматься изучением рациональных ожиданий? Насколько сильно повлиял на вас Джон Мут?
Лукас: Когда я покидал Чикагский университет, Цви Грилихес посоветовал мне обратить внимание на работы Джона Мута, поскольку я мог бы у него многому научиться. Это был очень хороший совет! Я на самом деле многому научился у Джека, но прошло еще несколько лет, прежде чем я по-настоящему воспринял идею рациональных ожиданий. Это произошло во время работы с Эдом Прескоттом над «Инвестированием в условиях неопределенности».
Маккаллум: Как вы думаете, как Мут пришел к своей гипотезе рациональных ожиданий?
Лукас: Его статья «Рациональные ожидания и теория движения цен» очень информативна и интересна. Здесь можно увидеть, как повлияли на автора работы Герберта Саймона по поведенческой экономике и как Мут на них реагировал, а также как все это привело его к абсолютно неповеденческой гипотезе – рациональных ожиданий. (Однажды я пытался обсудить это с самим Гербертом как пример огромного влияния, которое он оказал на всех нас, но он обиделся и не принял мое предложение).
Джек был соавтором монографии «Планирование производства, запасов и рабочей силы», написанной совместно с Хоултом, Модильяни и Саймоном. Этот труд был посвящен нормативам, анализу операций. В нем описывалось, как менеджеры должны принимать решения с точки зрения своих ожиданий в отношении различных переменных – например, объема продаж. Я уверен, что именно работа над этой монографией подтолкнула Мута к мысли, что ожидания необходимо рассматривать более серьезно, не ограничиваясь их использованием в уравнениях регрессии для корректировки данных.
Один из главных уроков, которые я получил в Карнеги от Мута и, возможно, даже больше от Дейва Касса, заключался в том, что наиболее эффективно проблемы распределения можно рассматривать с точки зрения нормативов, даже если цель этого рассмотрения – просто объяснить поведение, а не изменить его.
Атмосфера Чикагского университета, когда я там учился, не располагала ни к какому изучению планирования – нас не учили размышлять. Например, о том, как необходимо распределить ресурсы в той или иной ситуации? Как люди должны использовать доступную им информацию, чтобы сформировать свои ожидания? Эти вопросы должны быть важнейшими для любого экономиста. Мой отец ошибался, когда думал, что при социализме доставка молока будет эффективной, но он был прав, когда думал о том, как она должна быть организована.
Маккаллум: Что еще в Высшей школе промышленного администрирования оказало влияние на вас в плане профессионального развития?
Лукас: Я уже упоминал о влиянии Герберта Саймона, Дэвида Касса и Эда Прескотта, когда отвечал на ваш вопрос о влиянии Мута. Если говорить в целом, то Высшая школа промышленного администрирования дала возможность пообщаться с разными людьми, чьи взгляды на экономику были мне близки – такими как Леонард Рэппинг и Алан Мелтцер, а также теми, кто мог рассматривать проблемы с таких сторон, что я никогда бы сам не додумался – среди них Саймон, Мут, Касс и Прескотт.
Маккаллум: Какова была атмосфера в Чикагском университете, когда вы вернулись в 1974–75 гг.? Что помогло вам двигаться дальше в профессиональном плане?
Лукас: В Чикаго впервые в жизни я начал на постоянной основе читать студентам курс макроэкономики (как Алан Мелтцер в Карнеги-Меллон). Это мне очень помогло. Я научился объединять идеи и мысли в одной области, чтобы донести их до студентов. Такой опыт мне помог написать «Что такое деловой цикл» (Understanding Business Cycles) и «Проблемы и методы в теории деловых циклов» (Problems and Methods in Business Cycle Theory).
Маккаллум: Вы получили Нобелевскую премию за развитие и изменение основ макроэкономического и монетаристского анализа, а также развитие и применение гипотезы рациональных ожиданий. Прежде чем мы перейдем к другим интересующим вас темам, вы не хотели бы рассказать немного об этом? Вам нравится, как эволюционирует макроэкономика?
Лукас: Как и большинству ученых, я полагаю, мне нравится, когда развиваются процессы, которые подтверждают мои сомнения и доказывают мои гипотезы. Поэтому я доволен успехами теории общего равновесия в макроэкономике и огорчен тем, что не говорится о теориях денег, которые привели к этим достижениям. Отдельное удовольствие – это ощущение того, как много я узнал, исследуя теорию реального делового цикла. И сегодня я рассматриваю взаимосвязь между теорией и данными, а также факторы колебаний совершенно по-другому, чем 15 лет назад.
Маккаллум: Насколько, по-вашему, существенна роль технологических шоков в деловых циклах с точки зрения количественной оценки?
Лукас: Ответ зависит от того, о каких циклах мы говорим. Если это депрессия 1930-х гг. в США или то, что случилось в Мексике в 1994 г. и что происходит сегодня в Индонезии, то тогда я могу сказать, что технологические шоки играют незначительную роль. С другой стороны, если же мы говорим о колебаниях в США в послевоенный период, влияние технологических и других факторов значительно выше и достигает 80 %.
Маккаллум: Но «технологические и другие факторы» могут включать в себя создание преференций, увеличение госрасходов, изменение условий торговли и возможно что-то еще. А как насчет чисто технологических шоков – шоков, относящихся только к сфере производства, – в США в послевоенное время?
Лукас: Я не знаю, как разделить упоминаемые мной 80 % между этими и другими факторами. Я не уверен, что существует такое понятие, как «чисто технологический шок». Для меня существуют две категории шоков: шоки, с которыми на конкурентных рынках можно справиться без каких-либо государственных интервенций (в том числе те, о которых шла речь), и шоки, которые требуют валютного регулирования и валютного контроля.
Рис. 3.3. Эд Прескотт, Том Сарждент, Роберт Лукас и Баз Брок на конференции
Маккаллум: Как вы считаете, можно ли рассматривать жесткость цен как важный экономический феномен?
Лукас: Да. На практике дефляционные процессы проходят более болезненно в современной экономике, чем мы ожидаем, исходя из монетаристской теории. Поэтому я сторонник того, что мы подразумеваем под «жесткостью цен».
Маккаллум: Среди монетаристов существуют разногласия в отношении главных целей Европейского центрального банка, важнейшими из них называют инфляцию и рост денежной массы. Что вы думаете по этому поводу?
Лукас: Это классический вопрос для любого центрального банка. Мне нравится политика, которую вы озвучили в вопросе, – формулирование цели с точки зрения номинального объема ВНП и затем использование правила постепенной реакции для монетарной базы, чтобы система продолжала двигаться к поставленной цели. Если вы захотите заменить «номинальный ВНП» на «уровень инфляции», такая политика будет выглядеть привлекательно, но уже меньше. Если же вы замените «монетарную базу» на «денежный агрегат М1», то такая политика, как мне кажется, будет выглядеть еще более привлекательной.
Если же вы замените «монетарную базу» на «краткосрочную процентную ставку», то получите версию той политики, которая сегодня, видимо, нравится всем. Я сторонник всего, что касается стабильности цен, но я не понимаю, как конкретно эта система работает. Кроме того, меня, как и Викселля и Питера Хауитта, беспокоит плохая динамика.
Маккаллум: Вы на самом деле считаете, что социальные расходы при циклических колебаниях невелики, как описано в вашем выступлении на Янссоновских чтениях (Jahnsson Lectures)? Насколько верны эти цифры?
Лукас: Я не пишу сказок! Я никогда ничего не пишу, чтобы просто кого-то спровоцировать! Может быть, те цифры, о которых вы говорите, слишком малы, но если это на самом деле так, то это моя ошибка, а не заведомо спланированная провокация, чтобы привлечь внимание к проблеме. Цифры, которые я приводил, касаются периода колебаний потребления в США в послевоенные годы, с учетом всех характерных рисков. Как уже говорилось в ходе чтений, расходы во время кризиса 1930-х гг. были значительно выше, поскольку в те годы отсутствовало страхование от безработицы и многое другое, что есть в современной системе соцобеспечения.
Причина, по которой эти расходы не столь велики, заключается в том, что они распределены в соответствии с колебаниями потребления, которые в послевоенные годы в США были незначительны. Как можно увеличивать расходную часть при условии, что уровень потребления почти не меняется? Не говоря уже о нерасположенности к огромным рискам. Конечно, такая пониженная изменчивость потребления может, в частности, иметь место в результате разумной денежно-кредитной политики, проводимой в эти годы. Я не утверждаю, что нестабильность денежно-кредитной системы не способна принести большого вреда, но только за прошедшие 50 лет в США этого не произошло.
Маккаллум: Давайте поговорим о микроэкономике. Как на ваш взгляд она изменилась, скажем, за последние 25 лет?
Лукас: За последние 15 лет во многих университетах (Чикагский к их числу не относится) микроэкономика стала синонимом теории игр, и это печально. Почти 99 % всех успешных моделей экономики до сих пор основываются на идее конкурентного равновесия. Но теория игр дала нам возможность рассуждать о распределении ресурсов, используя более конкретную, порой закрытую информацию, а также о проблемах репутации. Это огромный шаг вперед в сравнении с тем, что мы с вами изучали в магистратуре.
Маккаллум: Ряд ваших важнейших открытий связан с теорией определения стоимости активов, теорией экономического роста и развития, а также ролью экономической теории в эконометрике и анализе при выборе экономической политики. Давайте поговорим немного об этом. Как вы пришли к этим открытиям?
Лукас: Нагляднее всего это можно показать на примере того, как я писал свою работу по теории определения стоимости активов. Я проводил в своем офисе в Чикаго собеседование с Пентти Коури, который только что получил ученую степень. в Массачусетском технологическом институте и искал работу. Он не горел желанием тратить время на пустые разговоры и спросил меня сразу: «А как бы вы определили стоимость активов в такой модели экономики?» Коури описал модель, которая впоследствии вошла в мою работу. Я подошел к доске и начал писать уравнения Беллмана и равенства спроса и предложения, и через несколько минут стало очевидно, что нет необходимости выяснять стоимостную функцию, чтобы получить функциональное уравнение для определения стоимости активов. Коури не вмешивался в то, что я говорил и делал. Таким образом, я все написал сам, как и все остальное.
Маккаллум: А как насчет вашего большого интереса к концепциям экономического роста и развития? Это результат участия в Янссоновских чтениях или вы всегда интересовались этой областью?
Лукас: Я преподавал студентам курс по теории экономического развития в Карнеги-Меллоне. Он был в списке курсов по выбору. Сколько себя помню, я всегда интересовался этой областью. Но мои изыскания были в большей степени интуитивными. Я чувствовал, где могу добиться большего успеха. Я обнаружил, что в своих исследованиях деловых циклов съезжаю в колею, протоптанную многими учеными задолго до меня, и подумал, что было бы лучше найти себе еще какую-нибудь тему.
Маккаллум: В научных кругах многие довольно лестно отзываются о стиле ваших работ. Вы работаете над стилем?
Лукас: Спасибо за комплимент. Я очень много правлю и переписываю в своих работах, хотя в первую очередь думаю о логике изложения, а не о стиле. Кроме того, я много читаю. И среди этих авторов многие действительно по-настоящему хорошо пишут. Думаю, что-то я и у них перенял.
Маккаллум: Как вам удалось бросить курить?
Лукас: Я начал курить в 13 лет и бросил, когда мне исполнилось 56. Я плохой советчик в этом вопросе. Я избавился от никотиновой зависимости с помощью специальных никотиновых пластырей. Этому также способствовали и другие факторы – страх, постоянное недовольство близких, всеобщее неодобрение и т. д.
Маккаллум: В 1980-е гг. вы вместе с Полом Ромером сделали немало в области теории экономического роста. Вы были научным руководителем, когда Пол писал диссертацию? Расскажите о вашей совместной работе над этой темой.
Лукас: В своем курсе макроэкономики я долгое время использовал известную во многих странах модель Солоу – (экспериментальную) модель экономического роста. Пола интересовала эта тема, и он самостоятельно разработал модель, в основе которой лежали растущая доходность и экстерналии. Я ничего о ней не знал. Шервин Розен и Тед Шульц рассказали Полу о работе Эллина Янга. Но тут я тоже ни при чем.
Модель, о которой говорится в диссертации Ромера, заставляет по-новому взглянуть на специфические проблемы, которые до этого нигде особо не суммировались и не учитывались. Полу помог Жозе Шейнкман, в том числе и успешно защитить свою диссертацию.
Маккаллум: Нет ли у вас желания заняться разработкой экономической политики страны на практике? Как вы думаете, год-другой практической работы может существенно повлиять в ту или иную сторону на то, чем занимается экономист-теоретик?
Лукас: В конце 1960-х, когда Джордж Шульц был министром труда в администрации Никсона, он приглашал меня на работу в качестве советника. Тогда эту должность в итоге занял мой друг Джек Гулд. Это была интересная работа, поскольку Никсон рассчитывал на поддержку Шульца в гораздо большем спектре экономических вопросов, а не только тех, что непосредственно касались его ведомства. Позднее Шульц перешел на работу в Административно-бюджетное управление, и если бы я согласился тогда на его предложение, я бы перешел туда вместе с ним. Шульц звонил мне лично, чем поразил моего секретаря в университете, да и меня тоже. Но, так или иначе, в то время я был слишком увлечен своими исследованиями и не хотел прерывать работу и переезжать в Вашингтон.
Жалею ли я об этом? Когда я отказался от этой работы, Артур Лаффер оценил мой поступок. Думаю, что мне, Арту и экономике США порознь лучше, чем вместе, кроме того я могу получать какое-то удовольствие, помогая использовать закон Парето при принятии решений.
Маккаллум: Вы не думали о том, чтобы в какой-нибудь газете или популярном журнале вести постоянную колонку, посвященную вопросам экономики?
Лукас: Не сейчас, может быть позже. Мне нравится ощущать вкус открытия и интеллектуального прогресса, который я получаю, занимаясь теоретической экономикой. Для этого необходимо тратить много времени на проблемы, которые человек часто не понимает и, может быть, вряд ли когда-нибудь поймет. Это тяжелый труд. И чем старше и известнее вы становитесь, тем больше у вас в жизни появляется интересных и приятных вещей, а также причин не выполнять эту работу. Всё, что мне нужно, – это найти такие причины.
4. Интервью с Яношем Корнаи
Беседовал Оливье Бланшар
Массачусетский технологический институт
10 июня 1998 г.
Большинство из нас можно назвать «кабинетными экономистами». Независимо от того, будет ли наше мнение в итоге верным или ошибочным, мы потеряем не так много, самое большее – свою репутацию. Но это не относится к Яношу Корнаи. Большую часть жизни все, что он говорил, могло обернуться для него тюрьмой или чем-нибудь похуже. Он стоял перед тяжелым выбором. Он мог пойти по пути «самиздата» и публиковаться нелегально, но тем самым сузить аудиторию своих потенциальных читателей. С другой стороны, он мог, исключив из своих работ все, что подпадало под официальный запрет, публиковаться открыто и, тем самым, получить доступ к более широкой читательской аудитории. Все это не помешало ему в его стремлении донести до нас свои критические взгляды на социалистическую систему того времени. В этом интервью, я надеюсь, удастся показать, до какой степени переплелись жизнь и работа Яноша Корнаи, и как он пришел к тому, во что верит по сей день. Сегодня его жизнь протекает между Гарвардом и исследовательским институтом Коллегиум Будапешт. Наша беседа состоялась в моем офисе, когда я в июне 1998 г. посетил Гарвардский университет.
Рис. 4.1. Янош Корнаи, 1997 г.
Бланшар: Ваша первая книга «Сверхцентрализация управления экономикой» (Overcentralization in Economic Administration,1957) была посвящена проблемам плановой экономики. На первый взгляд, книга представляет собой технический анализ промышленности в условиях централизованного планирования. Но из предисловия, которое вы написали ко второму изданию книги в 1989 г., следует, что это была лишь часть большого исследования социалистической системы, многое из которого вы не хотели публиковать.
Можно ли сказать, что ваши взгляды формировались именно в то время? Рассматривали ли вы реформирование социалистической системы как решение ее проблем? (Вы коснулись этого вопроса в своем предисловии ко второму изданию вашей книги.) Какую часть исследований роли и внутренней движущей силы коммунистической партии (главная тема работы «Социалистическая система» (Socialist System), опубликованной в 1992 г.) вы уже провели к тому времени?
Корнаи: В моей жизни было несколько периодов. В молодости я поддерживал идеи социализма. Затем я стал все больше критиковать сталинский тип коммунизма.
Бланшар: А когда именно начался период разочарования в идеях коммунизма?
Корнаи: Это началось в 1953 г., после смерти Сталина, когда многое, что до этого времени тщательно скрывалось, вдруг стало известно, и это повлекло за собой изменения во всех коммунистических странах. Моя реакция была катарсической и была связана в большей степени с вопросами морали: ужасные преступления, совершенные системой, – тюремное заключение, пытки, убийства невинных людей – все это пошатнуло мою искреннюю веру в идеи коммунизма, то, во что я верил, стало вдруг наивным и постыдным. Одновременно, я начал осознавать, что режим был с экономической точки зрения также нефункционален и неэффективен, и только создавал дефицит товаров и подавлял любую инициативу и проявление самостоятельности.
«Сверхцентрализация» (Overcentralization) – это моя первая попытка изложить свои критические взгляды на социалистическую систему. Моя книга в то время привлекла внимание всей мировой общественности, поскольку это была первая работа, критикующая систему и написанная человеком, живущим в одной из стран Варшавского блока, а не кем-то из советологов. Я работал над книгой в течение 1955–1956 гг. Это была моя диссертация.
Бланшар: Вы сами выбирали тему диссертации? Был ли у вас научный руководитель?
Корнаи: Тему я выбрал сам. А научным руководителем был Тамаш Наги – профессор, преподаватель политэкономии в Будапештском экономическом университете имени Карла Маркса.
Бланшар: Вы писали свою работу примерно в одно время с происходившими тогда революционными событиями?
Корнаи: Да, я завершил ее в сентябре 1956 г., когда в Венгрии начали происходить серьезные изменения – как в политике, так и в сознании. Аналогичные события произошли в Праге 12 лет спустя, в 1968 г. Люди в Венгрии стали все более откровенно выражать свое отношение к существующей системе и все больше ее критиковать… Кстати, в Венгрии существует система открытой защиты диссертаций. Моя защита проходила за несколько недель до революционных событий 23 октября, на ней присутствовало несколько сот человек….
Бланшар: Как они узнали об этом мероприятии? Людская молва?
Корнаи: Да, безусловно. Черновики моей работы, уже ходившие в народе, также привлекли многих на это мероприятие. А после моей публичной защиты и вплоть до 23 октября в большинстве ежедневных газет появилось много статей с весьма положительными комментариями моей диссертации.
Но позвольте мне вернуться к моей личной истории, чтобы ответить на вопрос о том, можно ли путем реформ сделать социализм работающей системой. Почти 30 лет спустя, в предисловии ко второму изданию «Сверхцентрализации» я охарактеризовал ученого Корнаи периода 1954–1956 гг. как «наивного реформатора». Это была искренняя наивность – в то время я и не думал о том, что необходимы изменения на уровне политической системы, я принимал ее как данность и не выступал против нее. Государство как собственник для меня также было аксиомой, и конечно я не мог выступать за проведение приватизации. Мне хотелось совместить существующую систему с рыночной экономикой – примерно так, как через 20 лет это произошло во времена горбачевской перестройки. Этот этап моей жизни тоже можно назвать своего рода перестройкой. В этом предисловии я также упомянул тех, кого считал людьми, близкими мне по духу и взглядам: Дьёрдь Петер и Тибор Лиска в Венгрии, Влодзимеж Брус в Польше, Ота Сик в Чехословакии, и, конечно же, Михаил Горбачев в России. Их реформаторские идеи появились в разное время: Дьёрдь Петер был первым – он озвучил свои идеи еще в 1955 г., в то время как Михаил Горбачев начал свои реформы лишь в конце 1980-х гг. В моем списке есть как ученые, так и действующие политики. Несмотря на различия, их объединяло то, что в определенный момент своей жизни все они – включая меня в 1950-е гг. – думали, что можно было сохранить политическую структуру, в основе которой лежит монополия Коммунистической партии и государственная собственность, и все, что необходимо сделать, чтобы система работала, – это заменить бюрократический подход к управлению на рыночный.
Рис. 4.2. Во время поездки с лекциями в Индии. Калькутта, 1975 г.
Однако я изменил свое мнение, когда обнаружил причины, почему рыночный социализм не мог существовать. Я стал все чаще высказывать сомнения в возможности существования рыночного социализма, в том числе в своих более ранних работах. В ряде последующих работ я дискутировал по поводу своих наивных идей реформирования, но когда я писал книгу в 1955–1956 гг., я был еще очень наивен.
Бланшар: Эта книга была хорошо принята на Западе, но по меньшей мере не очень хорошо воспринята властями Венгрии. Насколько для вас был неожиданным такой прием дома? Как это отразилось на вас, на вашей работе?
Корнаи: Драматические и разрушительные события 1956 г. изменили мою жизнь, изменили мой взгляд на мир, мое мировоззрение. Этому способствовали и события, которые затронули меня лично. Один из моих близких друзей был не просто арестован, он был осужден и казнен. Многие из моих друзей были арестованы, другие эмигрировали, на меня же после вышедшей накануне революции книги повесили ярлык «предателя» идей социализма. Меня уволили, и я остался без работы.
Не только мои личные переживания, но в первую очередь великие исторические события – краткий миг победы и ужасное поражение, заставили меня пересмотреть свои взгляды. Я уже больше не мог поддерживать идею необходимости руководства страной Коммунистической партией по политическим и этическим причинам. Я не могу сказать, что это произошло мгновенно: переосмысление политических взглядов – это процесс, но все произошло довольно быстро.
События 1956 г. также разрушили и мою программу исследований. В течение долгих лет жестоких репрессий я не мог опубликовать все то, что хотел. Я руководствовался принципами самоцензуры, в основе которой лежало мое представление об ограничениях свободы высказывания в своих публикациях. Это повлияло и на мой выбор темы исследования, и на то, насколько далеко я мог зайти в обнародовании его результатов. В период репрессий, последовавших за событиями 1956 г., я решил выбрать для себя менее политизированную тему: математическое планирование, а точнее – использование линейного программирования в планировании, что в итоге привело меня к неоклассическим идеям.
Бланшар: Что касается математического программирования, вы самостоятельно изучили эту область или у вас уже были какие-то математические знания?
Корнаи: Нет, мне пришлось самому постигать эту дисциплину. Я посещал курсы по математике, линейной алгебре, вычислительной математике и т. п. Но практически я сам дошел до всего, изучая специальную литературу и работая с математиками и специалистами в области вычислительной техники, которые в свою очередь не были экономистами. Позднее меня пригласили в Вычислительный центр Венгерской академии наук, где я занимался линейным программированием. Из книги Дорфмана, Самуэльсона и Солоу, вышедшей в 1958 г., я узнал об использовании модели линейного программирования в экономике. Эта книга была для меня в то время своего рода библией. В этот период мне была очень близка неоклассическая теория, и какое-то время я принимал ее идеи практически безоговорочно.
Бланшар: Ваша следующая книга, ставшая известной, – «Антиравновесие» (Anti-Equilibrium, 1971). Эта серьезная работа была посвящена общей теории равновесия и ее недостаткам. Вы уже упоминали вкратце о вашем переходе от «Сверхцентрализации» к «Антиравновесию». Но когда вы разочаровались в идеях неоклассической теории?
Корнаи: В моей профессиональной жизни как экономиста было два периода разочарования. Первое – связанное с потерей веры в идеи марксизма, мы уже обсудили. Я начинал свою профессиональную карьеру как истинный последователь идей Маркса, затем я в них разочаровался и в итоге отверг их полностью. Но до сих пор я отношусь к Марксу с большим уважением, для меня он остается гением мысли. Многие его идеи и в наши дни живы и главное – практичны и эффективны. Однако он ошибался во многих фундаментальных вопросах. Затем наступил период моей безоговорочной приверженности неоклассической теории. И в этом было меньше эмоций, а больше всего – разума. Тем не менее, стремясь понять окружающий меня мир со всеми его сложностями, я начал задавать вопросы, но в неоклассической теории ответов не нашел. Эта неудовлетворенность подвигла меня на анализ сильных и слабых сторон теории. Я попытался тщательно все проанализировать и подойти к оценке критически. Мой отказ от идей неоклассической теории был лишен политической окраски. Все, что я хотел сделать, так это выявить недостатки теории.
С того времени я больше никогда не был заложником какой-либо доктрины. Меня можно назвать своего рода эклектичным экономистом, вобравшим в себя идеи различных школ. Я всегда начинаю выражать недовольство, когда кто-то пытается меня поместить в какую-то определенную «ячейку».
Бланшар: Насколько тесно вы общались с теми, кто в то время работал над общей теорией равновесия?
Корнаи: Совместно с Тамашем Липтаком я написал работу о двухуровневой системе планирования, которую потом напечатали в журнале Econometrica. Эдмон Маленво прочитал нашу статью и пригласил меня принять участие в конференции в Кембридже. Это было в 1963 г. Но к этому времени мой паспорт был аннулирован. Много лет подряд меня, например, приглашали в Лондонскую школу экономики, но выехать я не мог.
В 1962–1963 гг. объявили всеобщую политическую амнистию. После чего режим Яноша Кадара начал постепенно двигаться от политики репрессий в сторону так называемого «гуляшного коммунизма», более мягкого, либерального варианта коммунистического строя. С того времени все больше людей стали получать возможность выезжать за границу. В итоге я тоже получил разрешение поехать на конференцию в Кембридж.
Там я встретил несколько по-настоящему гениальных людей. С Эдмоном Маленво и Тьяллингом Купмансом мы, можно сказать, подружились. Они оба стали моими наставниками и очень мне помогли. На конференции я также встретил Роя Рэднера, Лайонела Маккензи и Роберта Дорфмана. Это было мое первое знакомство с Западом. Затем в 1968 г. по приглашению Кеннета Эрроу, я приехал в Стэнфорд. К тому времени я уже подготовил черновик «Антиравновесия», который и показал Эрроу и Купмансу. Они прочли мой труд и были очень щедры на комплименты. Они не защищали общую теорию равновесия или что-то еще, что я критиковал – даже наоборот. В результате оба настаивали на том, чтобы я опубликовал книгу.
Бланшар: Вероятно, они разделяли ваши взгляды…
Корнаи: Да, они во многом со мной согласились. Оба потом ссылались на мою книгу в своих нобелевских лекциях.
Бланшар: В своей книге «Антиравновесие» вы задаете несколько направлений для исследования. Спустя 27 лет с момента выхода книги были изучены многие вопросы: асимметричность информации; описание фирм с точки зрения теории игр; договорные отношения на рынке труда; роль государства и законов; невыполнение договоров и т. д. Вы довольны сегодняшним состоянием экономической науки?
Корнаи: Очень интересный вопрос, но прежде чем ответить на него, я бы хотел добавить еще один пункт в ваш список. Сегодня большой интерес проявляется к невальрасовой модели экономики, и это была одна из проблем, рассматриваемых мной в «Антиравновесии».
Рис. 4.3. Представление президентского обращения в рамках североамериканских встреч Эконометричес кого общества в Чикаго в 1978 г. Слева от Яноша Корнаи – Тьяллинг Куп манс, председатель этой сессии
Возвращаясь к вопросу, доволен ли я сегодняшним состоянием экономической науки, могу сказать одно. Да, я ощущаю большее удовлетворение состоянием науки сегодня, чем раньше. Когда я писал книгу, я думал, что необходимо попытаться дистанцироваться от идей неоклассической теории, которая казалась мне смирительной рубашкой в неменьшей степени, чем революционное мышление. Но жизнь доказала, что я ошибался. Прогресса можно достичь эволюционным путем намного чаще, чем я представлял себе.
Мне хотелось бы добавить еще пару слов личного характера. Я доволен тем прогрессом, который мы наблюдаем в изучении перечисленных нами направлений. Как автор книги, я немного огорчен тем, что эта работа не нашла должного отклика. Первыми и практически последними были высказывания Эрроу и Купманса, а затем все как-то сошло на нет.
Бланшар: Это была очень важная книга. На моей родине, во Франции, она стала одной из немногих, которая получила широкую известность. Об этом мало кто говорит, но ваша книга стала частью общедоступных знаний. То же самое случилось со многими другими вашими идеями. Может быть, это и означает успех…
Корнаи: Может быть, вы и правы, а может – и нет. Не знаю. В любом случае, мне кажется, что, задавая вопросы по теме, вы тем самым вряд ли упрочите свою репутацию, по крайней мере, в нашей профессии. Однако я все же верю, что для исследовательского процесса очень важно задавать вопросы по теме, даже если никто не сможет дать на них конструктивного ответа.
Бланшар: Как раз вопрос по теме. Как вы ощущали себя тогда и сейчас по отношению к господствующим западным экономическим течениям? Стали ли они вам ближе после того, как вас пригласили работать в Гарвард в 1986 г.?
Рис. 4.4. Конференция на корабле во время путешествия по реке Янцзы, Китай, 1985 г. Среди участников – Джеймс Тобин и Отмар Эммингер, экс-президент Бундесбанка
Корнаи: Если в двух словах, то можно сказать, что мои исследования лишь наполовину принадлежат главным направлениям в экономической науке. Общественная наука, на мой взгляд, не является набором конкретных утверждений об устройстве мира – это когнитивный процесс. Я уверен, что основные экономические течения, особенно сформулированные, сложившиеся неоклассические теории, играют важную, но пока еще ограниченную роль в этом процессе. Я бы выделил три основных этапа в когнитивном процессе. Сначала вы чувствуете, что есть какая-то научная загадка, и пытаетесь решить ее, основываясь в большей степени на здравом смысле и интуиции. Затем наступает следующая стадия, когда в процесс включается неоклассическая теория, которая пытается помочь отшлифовать вашу мысль с помощью разного рода предположений, определений и утверждений. Завершает процесс третий этап – интерпретация полученных результатов. На мой взгляд, то, что мы называем основными экономическими течениями, очень полезно и применимо на второй стадии процесса, но от них мало толку на первой и последней стадиях. Это не просто критика того, что экономисты – последователи основных течений, пишут и публикуют, а в большей степени критика того, как мы учим наших молодых и будущих коллег. Мы не учим их тому, что связано с первой и третьей стадией процесса, вместо этого мы слишком большой акцент делаем на вторую стадию и таким образом заставляем их мыслить ограниченно.
Бланшар: Я бы сказал, что скорее традиционный подход в экономической науке складывается сначала из того, что вы делаете что-то самостоятельно, потом публично, а третья стадия становится все более системным процессом.
Корнаи: Я согласен с тем, что вы сказали, но лишь отчасти. Формулирование правильного вопроса и попытка его решить на основе здравого смысла – это, бесспорно, делается самостоятельно. Если на ранней стадии исследователь будет связан со специальной терминологией и у него не будет возможности для публичных обсуждений научной загадки, его мышление будет весьма однобоким. Мы, скорее всего, обсудим далее проблемы посткоммунистического переходного периода, но сначала позвольте мне привести пример. В свое время шло активное обсуждение преимуществ градуализма как наиболее эффективного подхода к реформированию экономики по сравнению с теорией большого взрыва. Сегодня же вы можете найти немало прекрасных работ по теории большого взрыва. И одновременно существует масса интересных работ, рассказывающих о преимуществах градуализма. И что?!
В конце концов контекст определяет, как тот или иной феномен должен быть интерпретирован. А мы пока не учим наших студентов применять на практике теоремы и утверждения исходя из контекста. Вот почему многие западные экономисты, активно выступавшие в качестве советников правительств восточноевропейских стран и России в реформировании системы, в определенный момент осознали, что все зависит от контекста. Они не были к этому готовы, несмотря на то, что у них была очень хорошая база экономических знаний. У них не хватало знаний в области политологии, социологии, психологии, истории и т. п. Вы можете получить степень ученую степень в Гарварде или Массачусетском технологическом институте, не углубляясь в изучение этих предметов. И это не вина неоклассического подхода. Он предлагает программу рабочих исследований. Но с точки зрения развития мышления он односторонний и слишком узкий.
Бланшар: Что ж, пойдем дальше. В 1980 г. вы опубликовали работу «Экономика дефицита» (Economics of Shortage). После «Сверхцентрализации», за которую вас уволили и вам пришлось заняться математическим планированием, а также «Антиравновесия», изменившего вас в интеллектуальном и политическом плане, вы вновь возвращаетесь к проблемам соцсистемы. Вы уже касались этой темы, но не хотели бы поговорить об этом подробнее?
Корнаи: Да, конечно, мои предпочтения в работе с годами менялись. С одной стороны, какое-то направление было для меня постоянным, как например, устойчивый феномен невальрасового состояния экономики, особенно, при социалистической экономике дефицита или рынке продавцов. Я рассматривал эти проблемы в «Антиравновесии». Примерно треть книги посвящена вопросам, касающимся рынка продавцов в сравнении с рынком покупателей. В 1972 г. я написал книгу «Гонка или гармоничный рост», критикующую сталинскую модель роста. В этой книге я выступил против идеи несбалансированного роста. Но, с другой стороны, вы совершенно правы – с годами я переключился на вопросы, которые связаны с политикой в большей степени.
Рис. 4.5. Вручение юбилейного сборника в Коллегии Будапешт в январе 1998 г. Слева направо – Янош Корнаи, профессор Йено Колтай и доктор Янош Гакс
И тому было много причин. Прежде всего, Венгрия медленно, но верно двигалась в сторону ослабления ограничений на свободу слова. Другой причиной можно считать мою растущую мировую известность, прежде всего за счет работ по математической экономике и математическому планированию. Все это давало мне пространство для маневра у себя на родине. У меня был принцип – если я чувствовал, что в том или ином случае у меня были определенные ограничения, то я старался повысить эту ограничительную планку еще процентов на 20. И хотя общая тенденция того времени в Венгрии все же была направлена на постепенное расширение ограничений, я все же старался быть выше их. Такая стратегия позволила мне раскрывать в своих книгах хронические проблемы существовавшей системы, но одновременно держаться в рамках определенных политических табу.
Бланшар: Вы упоминали о том, что в 1956 или 1957 г. вас уволили. Вы потом вернулись?
Корнаи: Да, я вернулся. Самое смешное в этой истории, что один и тот же директор прославлял меня до октября 1956 г., потом осудил и уволил, а после 1956 г. пригласил обратно в Институт экономики – и я вернулся. Еще одна типичная для того времени вещь – это определенная последовательность событий: сначала я стал членом Американской и Британской академий и только затем – членом Венгерской академии наук. Я стал приглашенным профессором в Стэнфорде и Йеле, а уже после этого меня пригласили вести семинар в Будапештском экономическом университете, который, к слову, так и не предложил мне постоянного места профессора. Но власти Венгрии знали обо всем, что со мной происходит, поэтому они представляли степень моей востребованности за рубежом, что в итоге расширяло для меня возможности, связанные с публикацией работ.
Бланшар: Табу, которое вы упоминали, касалось роли коммунистической партии?
Корнаи: В то время в Венгрии существовало четыре табу. (В России и Чехословакии – намного больше). Во-первых, вы не можете ставить под сомнение принадлежность Венгрии к Варшавскому договору. Во-вторых, не обсуждается монополия на власть коммунистической партии. В-третьих, вы не вправе отрицать доминирующую роль государственной собственности. И, в-четвертых, нельзя критиковать Маркса. В отличие от России и Чехословакии, в Венгрии никто от вас не ждал, что вы будете говорить не то, что на самом деле думаете, – лишь бы показать свою лояльность. Вам было необходимо не затрагивать этих четырех вопросов.
Каждый должен был сделать свой тяжелый выбор – как жить дальше. Я говорю об этом, поскольку сегодня это отнюдь не очевидно. Одни решали уходить в подполье и публиковать работы в виде «самиздата», таким образом избегая табу, – что и сделали некоторые мои друзья. Я восхищался их смелостью. Цена такого выбора – отказ от более широкой аудитории. Другие выбирали побег за границу. Я выбрал совсем иной путь, как и некоторые другие представители венгерской интеллигенции. Я публиковал свои мысли официально, но многое недоговаривал. Это тоже было рискованно, особенно в моменты ухудшения общей политической ситуации в стране: например, при частичной реставрации сталинизма это могло закончиться увольнением и даже арестом. Это также было не менее рискованно и в обычной политической обстановке того времени. Путь, который я выбрал, заставил принять меня очень сложное решение: я должен был скрывать некоторые свои идеи и взгляды. Я никогда не лгал. Я всегда писал только правду или то, как я действительно думал, но умышленно всей правды я не писал. У меня оставалась надежда, и наверное, вполне оправданная, что многие читатели прочтут между строк все недосказанное. Иногда я даже пытался делать намеки, и – вполне возможно – небезуспешно.
Рис. 4.6. Совещание Научно-консультативного совета Европейского банка реконструкции и развития, Будапешт, 1992 г. Слева направо: Жан-Поль Фитусси, Кеннет Эрроу, Янош Корнаи и Джон Флеминг
Я написал «Экономику дефицита» в Швеции, где мы с женой много обсуждали во время наших продолжительных прогулок по лесу, какие главы не стоит включать, какой должен быть конец у книги и пр. Если вы внимательно прочтете вступление, то найдете темы, которые я намеренно исключил из обсуждения – в том числе монополию политической власти коммунистической партии и вопрос государственной собственности. Этим я хотел сказать своим читателям, что «знаю, что есть и другие вопросы, которые необходимо обсуждать; и пусть это будет вашим домашним заданием». Я горд тем, что многие читатели, в том числе из Китая, России и Польши, уже после 1990 г. признавались мне: они понимали, о чем я пытался сказать в этой работе.
Бланшар: Если бы вам надо было определить основной вклад «Экономики дефицита» в развитие экономической мысли, это могло бы быть введение понятия «мягкое бюджетное ограничение»? Сегодня, когда социализм как экономическая система практически не существует, насколько актуально это понятие? Какова его концепция?
Корнаи: Давайте разделим вопрос на две части. Сначала вы спросили меня, каков, на мой взгляд, основной вклад работы и сразу же перешли к вопросу мягкого бюджетного ограничения. В то время для читателя в Восточной Европе, России или Китае теория мягкого бюджетного ограничения не была столь важна. Для него главной идеей книги была мысль о системности дисфункциональных свойств социализма. Я хочу особо подчеркнуть, что этот посыл позволял мне дистанцироваться от остальных так называемых реформаторов, которые пытались внести лишь небольшие изменения в коммунистическую систему. И с такой точки зрения это революционная книга, ее главный вывод – косметические изменения и поверхностные реформы не смогут ничего изменить. Вы должны изменить всю систему, избавиться от ее дисфункциональных свойств. Это и есть главный посыл книги. И я думаю, что он оказал большое влияние. Люди в коммунистических странах намного меньше интересовались мягкими бюджетными ограничениями, им была интересно это главное утверждение. Вот почему книга выдержала три издания в Венгрии, было продано 100 000 экземпляров в Китае и 80 000 в России…
Бланшар: Получается, что тиражи ваших книг превышали тиражи некоторых триллеров?
Корнаи: Да, только гонорары за триллеры обычно больше. Я не получил ни цента за 100 000-ный тираж в Китае, только письмо от местного издателя, который информировал меня о том, что моя книга была признана «бестселлером года в номинации non-fiction». Из России я тоже мало что получил. Здесь самое главное – политическая и интеллектуальная отдача, а не денежное вознаграждение. Я был счастлив, что мои идеи дошли до столь широкого круга читателей.
Концепция же мягкого бюджетного ограничения оказала большее влияние на Западе, чем на Востоке. Она согласовывалась с неоклассической теорией, и в то же время немного отходила от нее и развивала ее. Думаю, поэтому моя концепция была и остается актуальной. Возможно были и другие важные открытия в моей работе, но я не связывал результаты со стандартной неоклассической теорией и поэтому не получил широкого отклика от моих коллег.
Отвечая на вторую часть вопроса по поводу мягкого бюджетного ограничения, хочу сказать, что это актуально не только для соцсистемы. Этот феномен широко распространен и практически доминирует при социалистической экономике, особенно при проведении рыночно-социалистических реформ, когда система становится менее жесткой и больше ориентирована на получение прибыли. Очень жаль, однако, что общая обоснованность концепции до конца не признана. По моему мнению, в несоциалистической рыночной экономике также очень много примеров, аналогичных синдрому мягкого бюджетного ограничения. Мой бывший студент из Лондонской школы экономики Чэн Ган Сюй сейчас пишет работу, посвященную анализу кризиса в Восточной Азии и использует эту же концепцию для описания происходившего там. Взаимоотношения между государством, банками и корпорациями показывают наличие признаков синдрома мягкого бюджетного ограничения. Помощь ненадежным заемщикам в Японии, Корее и Индонезии со стороны Международного валютного фонда – а они слишком большие, чтобы позволить им упасть, – опять же представляет собой пример использования мягкого бюджетного ограничения. Поэтому я считаю применение моей концепции во многих случаях обоснованной: в здравоохранении, в промышленности, везде, где государственный, финансовый и промышленный секторы так или иначе связаны друг с другом.
Бланшар: Я думаю, что сегодня у идеи мягкого бюджетного ограничения гораздо более широкое поле применения, чем вы очерчиваете. Безусловно, ее использовали и для описания азиатского кризиса. Но какое влияние оказала ваша работа внутри социалистического блока – как на реформы предпереходного периода, так и на сам переходный период?
Корнаи: Я думаю, что все ведущие реформаторы в соцстранах прочли «Сверхцентрализацию», и книга оказала какое-то влияние на их образ мыслей. Далее, они также изучали экономические реформы, которые прошли в Венгрии в 1968 г. К примеру, Китай взял венгерский опыт за образец, когда в 1970-е гг. руководство страны проводило реформы. Таким образом, опосредовано, но я оказал все же некоторое влияние на реформы. Как это всегда бывает с любого рода влиянием в интеллектуальной сфере, очень трудно его разделить на свое и чужое, поэтому я не могу определить точно свой вклад в этот процесс.
В любом случае, это влияние материализовалось только по прошествии большого отрезка времени – 10 или даже 20 лет с момента появления моей книги («Сверхцентрализация»). Ко времени начала первых рыночно-социалистических реформ в Венгрии, а затем в Китае, Польше и Советском Союзе, я уже отказался от идеи рыночного социализма. Я стал очень критично относиться к этой идее, делая акцент на ограничения реформирования социалистической системы. В таком духе были написаны все мои статьи по реформам в Венгрии, но, что более важно, таким должно было стать заключение, которое сделал бы читатель «Экономики дефицита». Один из моих друзей назвал подобное отношение к реформам «скептицизмом к преобразованиям». В 1970-х и 1980-х гг. такое скептическое отношение стало нарастать и в Восточной Европе. Это стало еще одним подтверждением того, что частичных реформ недостаточно. Думаю, что в осознании этот факта есть и моя доля участия.