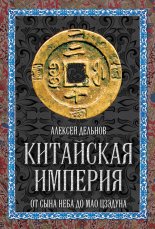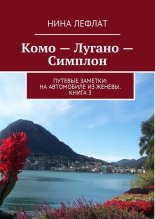Ворон. Волки Одина Кристиан Джайлс
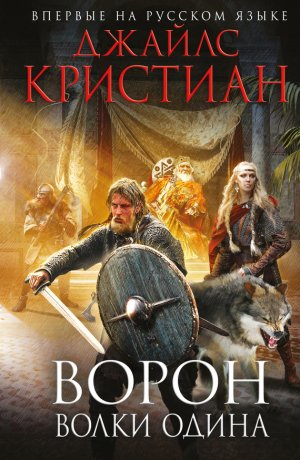
Кто-то хохотнул.
– Да не любых рабов, – пояснил я. – Их сначала обучали лучшие воины в мире, а уж потом выпускали на арену. – Я посмотрел на Сигурда. – Амфитеатр тогда был забит доверху – римляне жаждали крови.
– Шум, наверное, стоял, что гром гремел, – покачал тот головой.
– Красный Плащ себя императором, что ли, считает? – спросил Бьярни, ковыряя в зубах щепкой.
– Нет, он просто хитрый сукин сын, – ответил Улаф. – На чужой смерти богатеет.
Вокруг одобрительно загоготали. В неверном свете факелов и блеклом свете луны было видно, как блестят глаза воинов. Они говорили о доме, о женщинах, о погибших друзьях, пили кислое вино, разбавленный эль и ели свиные ребра в чесночном масле. Но глаза их сияли, как золотые солиды. Я пожалел о том, что заговорил о славе и богатстве, – это было все равно что бросить кость с мясом голодному псу и надеяться, что он ее не тронет.
Через несколько дней Сигурд велел нам заполнить трюмы съестными припасами и готовиться к отплытию. Если то, что Эгфрит узнал от своих братьев во Христе, было правдой и император Карл на самом деле ехал в Рим защитить Папу Римского от происков знатных вельмож, нам следовало убраться подальше. Мы и так вдоволь насмотрелись всяких диковин в древнем городе и напробовались как яств, вкус которых хотелось подольше задержать во рту, так и кислятины, от которой челюсть сводило. Еще и разжились серебром, продав меха, янтарь, кости и кое-что из оружия, захваченного у синелицых, хотя большую часть барыша тут же спустили на ставках. Пришла пора вновь отведать соленой морской воды, да и путь наш лежал на самом деле не в Рим, а в Миклагард. Итак, мы готовились к отплытию, не ведая, что Прядильщицы уготовили нам нечто иное.
– Скажи им, Ворон. Вот обрадуются-то!
Пенда, Гифа, Бальдред и Виглаф вернулись с базара у подножия Эсквилина – Грег сказал, что там лучшие копченые сыры в Риме. Каждый из уэссекцев тащил на плече по замасленному мешку, – за ними плыл сладковатый, с дымком, аромат ценного лакомства. Но не от сыра разгорелся их аппетит.
Я сердито выгнул брови.
– Не буду я ничего говорить.
Мимо прошел Ингольф Редкозубый с копченым окороком на плече. Все возбужденно гомонили, предвкушая, как снова пойдут Дорогой китов.
– Я бы сам сказал, если б не был честным христианином, – заявил Пенда, с ухмылкой глядя на Гифу и остальных. – Да только никак не выговорю ваши поганые языческие слова.
– Не буду говорить, – пригрозил я ему пальцем. – Да и утром отплываем. Слишком поздно.
– Скажи.
– Нет.
– Скажи.
– Хотя бы Сигурду, – встрял Бальдред, скаля гнилые зубы в черной бороде. Лоб его блестел от пота, день был жарким, а ходили за съестным далеко.
– Эй, Ворон, что там эти жалкие англикашки блеют? – спросил Свейн.
Он тащил бочонок эля по мокрой от дождя пристани и как раз остановился, чтоб поудобнее его перехватить. Дождь принес северо-восточный ветер, который теперь дул каждое утро до полудня. Именно он наполнит наши паруса и понесет корабли вниз по Тибру обратно в море.
Знал я, что не стоит рта раскрывать и лучше проглотить слова, что пузырятся в глотке, как шапка пены на добром эле, да та часть меня, которая любит смуту и радуется, слыша стук рунных плашек по палубе, не могла смолчать. Воин – тот, кто в звуке собственного сердца слышит звон меча, ударяющего о щит. Поэтому-то я и сообщил Свейну, Браму и всем, кто оказался рядом, весть, которую узнал от Пенды. Красный Плащ кинул клич о том, что лучшие воины со времен гладиаторов – Тео Грек, Берстук Вендский и Африканец – сразятся с тремя смельчаками, кто бы они ни были: африканцы, арабы, скандинавы, франки или венды. Такого Амфитеатр Флавиев не видел четыреста лет.
– Допустим, найдутся трое безумцев, – встрял отец Эгфрит, – и победят они каким-то чудом этих трех убийц. Что тогда?
– Получат тысячу двести пятьдесят либр [41], – сказал я. – Это…
– Столько серебра, сколько весят пять человек. – Сигурд поглядел на Улафа, и тот задумчиво потянул себя за бороду.
Вокруг шушукались и бормотали, пытаясь представить такую гору серебра.
– А в чем подвох? – с подозрением спросил Улаф.
– Тот, кто выйдет против этих троих, возможно, погибнет, Дядя, – ответил я. – К тому же за удовольствие с ними подраться нужно заплатить пятьсот либр Красному Плащу.
– Тогда эти смельчаки просто обязаны победить! – воскликнул Свейн, пожав могучими плечами.
– Красный Плащ при любом раскладе нагребет столько серебра, что сможет стать императором, – сказал Сигурд. – Дядя, собери всех на закате здесь, возле «Змея». Да скажи Асготу, чтоб руны принес.
Улаф кивнул и пошел вдоль пристани.
– А ты, Ворон, ступай отыщи Красного Плаща. Скажи ему, что братство волков, чьи корабли стоят в порту, принимает вызов и завтра же заплатит шестьсот либр, если он откажет всем остальным.
– Господин? – Голова моя поплыла, я не верил своим ушам.
Сигурд свирепо зыркнул на меня.
– Ворон, ты что же, думал, воины вроде нас струсят? Мы в Рим приехали руины разглядывать?.. Ты же знал, Ворон.
Он был прав. Я знал. Еще я знал, что какая-то часть меня любит смуту. Я кивнул ярлу. У норвежцев, датчан и англичан уже закипала кровь в жилах; они и думать забыли о том, чтобы ставить парус. Я отправился на поиски Красного Плаща.
Отец Эгфрит пошел со мной – латынь была нелишней, ибо мы понятия не имели, откуда родом Красный Плащ. Сначала святой отец отказывался, говоря, что он против наших кровожадных планов и лучше посетит церкви, монастыри и могилу святого Павла. Однако Сигурд пригрозил, что если он нам не поможет, то останется в Риме. Наверное, монах сначала даже обрадовался – ведь он отчаялся сделать из нас христиан, – но в то же время Эгфрит был любопытен, как сорока. Ему не меньше нас хотелось увидеть Миклагард, или Константинополь, как он его называл, тем более после Рима. И вот теперь он шел со мной по городу и мы спрашивали у всех, где найти богатого смуглого человека, который заправляет делами на арене. Те, кто понимал, о чем мы спрашиваем, смотрели на нас с подозрением и отказывались говорить – наверное, думали, что нас подослал Папа Лев или сам император.
– В амфитеатре они разговорчивее, – простонал я: нам только что заявили, что вообще не знают никакого Амфитеатра Флавиев. – Ты бы слышал, Эгфрит, какой там шум стоит. Как только уши выдерживают!
– Варварство, – ответил он. – Уверен, Богу больно это слушать.
– А вот наши боги придвинули бы скамью поближе, кубки медом наполнили и смотрели на бой, пока бы вся пролитая кровь до капли в землю не ушла, – сказал я.
– Это ты так думаешь. Потому что ты – язычник, Ворон, и душа твоя черна.
Базар редел, торговцы убирали товары, люди торопились домой. По ночам в городе было небезопасно. Солдаты, которые раньше обходили город с дозором, теперь охраняли Папу на Латеранском холме.
– А сюда нам зачем? – спросил Эгфрит, резко останавливаясь и обводя рукой вокруг.
Мы стояли на Форуме – площади между Палатином и Капитолием. В ушах звенело от стука молотков и лязга зубил: кто-то строил из руин дома-крепости – обозревать город и высматривать врагов. Одни строители, с ног до головы покрытые белой каменной пылью и оттого похожие на мертвецов, перекрикивались и спорили внизу. Другие взбирались вверх и спускались по деревянным подмостям, торчащим вокруг полупостроенных башен, словно гигантские ребра. Среди древних глыб носились мальчишки. Собаки дрались за объедки. Потаскухи терпеливо ждали, когда мужчины закончат работу. Пахло потом и навозом. Обточенные камни подвозили на повозках, запряженных волами.
– Думал, тебе здесь понравится, – ответил я, подмигивая. – Смотри, церквей сколько… – По краю площади стояли древние храмы, превращенные в христианские церкви. – Здесь, похоже, строят себе дома богачи. Река рядом, но не слишком – не затопит, если разольется, и от Папы далеко – можно делать все, что вздумается. Да гляди-ка, высоченные какие строят, и плевать им на всех оттуда.
Эгфриту пришлось признать, что на Форум мы пришли не зря, хотя в конце концов не мы нашли Красного Плаща, а он нас. Точнее, его люди. Мы подошли к толстяку, торговавшему фигами в меду, которых не стоит есть помногу зараз, если не хочешь весь день торчать над кадкой. Торговец говорил по-английски и понял, что я отрежу ему яйца и выброшу их собакам, если он не скажет нам то, что мы хотим знать. Эгфрит тут же меня отругал, не обращая внимания на мои угрозы, но мне было все равно, я слишком устал, ноги ныли – я и не думал, что будет так трудно найти человека, которого видели тысячи. Тут рядом с нами возник мальчишка с лицом, похожим на крысиную мордочку, а позади него – пять вооруженных воинов, и я вспомнил, что стоило мне схватить торговца фигами за жирную шею, как малец куда-то сорвался.
Толстяк заголосил, испуганно тыча пальцем в мою сторону, будто я тролль двухголовый. Солдаты окружили нас с Эгфритом – правда, копья не наставили.
– Можно подумать, я ему яйца отрезал, – проворчал я.
Вой и полные ужаса глаза толстяка вызывали у меня отвращение – иногда я забывал о своем кровавом глазе и о том, как он действует на других.
– Они хотят знать, зачем вам господин Гвидо, – сказал продавец фиг.
«Вот, значит, как его зовут», – подумал я. На самом деле Красного Плаща звали по-другому, но тогда мы этого не знали.
– Спроси у этих червивозадых пердюков с кислыми рожами, как ответить на призыв господина Гвидо сразиться с тремя трусливыми болванами, если его днем с огнем не сыщешь, – велел я толстяку.
Он выпучил на меня глаза, однако вопрос задал. К удивлению Эгфрита, да и моему тоже, один из солдат улыбнулся. Тогда я пожал плечами и передал им остальные слова Сигурда.
На пристань мы вернулись уже в сумерках. Нас ждали. У кораблей собрались все, пришла даже Кинетрит со Сколлом, который стал такой же частью братства, как и те, кто принес клятву во Франкии. Я поймал взгляд Сигурда и кивнул, сообщая, что вызов принят. Глаза его сверкнули, и он кивнул в ответ. На пристани было тихо: не зазывали в свои объятия потаскухи, никто не торговал жаренной в оливковом масле свининой, грибами с чесноком, хлебом. Не было ни точильщиков ножей, ни кожевников, ни мальчишек, таскающих бурдюки с вином с другого берега, – только воины со «Змея», «Фьорд-Элька», «Коня бурунов» и «Морской стрелы». Все окружили ярла, который возвышался в центре, как умбон на щите: золотые волосы заплетены в две толстые косы, зеленый плащ на могучем плече заколот брошью с волчьей головой, на поясе отцовский меч. Воинственный настрой ощущался в воздухе так же явно, как дым, какой бывает, если в костер бросить зеленые листья.
– Кого бы ни выставил Красный Плащ, любой из вас будет ему ровней. – Голос Сигурда ревел, как бурный речной поток. – Каждый из вас – победитель, умеющий сражаться любым оружием. Но я согласен с годи – в этом деле нужно большее, чем искусное владение копьем или мечом. Всем известно, что нить судьбы прядут норны. Поэтому выбирать не мне.
При этих словах лицо Свейна вытянулось – он, как никто другой, хотел сразиться на арене и не сомневался, что его выберут. Синелицый Велунд и датчанин Ингвар встали поближе к Сигурду – тоже хотели сразиться и заслужить себе место среди волков.
– Избранных назовет Асгот, – продолжал Сигурд, медленно обводя собравшихся взглядом. – Он раскинул руны, и мы поступим так, как они велят.
Ярл отступил на шаг, а вперед вышел Асгот с пятью крошечными мышиными черепами в засаленной седой бороде.
– Все решит бог войны, – объявил он; желтые глаза его безостановочно рыскали по лицам. – И уж поверьте, не ошибется. – Годи указал крючковатым пальцем на серебрящийся в лунном свете Тибр. – На том берегу, к северо-востоку от каменного воина, есть руины, поросшие шиповником. Там, на самом высоком дереве, я подвесил мешок. Пусть каждый, кто хочет сразиться на арене, положит в него до рассвета свою вещицу, только внутрь не заглядывать.
– Какую вещицу, Асгот? – спросил датчанин Бейнир, почесывая бороду.
– Такую, которая была с вами все это время, – ответил годи, прищурив один глаз, – и сохранила ваш запах. Амулет, который вы узнаете, даже если вам выколют глаза и отрубят руки. – В толпе начали перешептываться. – А поутру бог войны поможет нам выбрать, кого послать на бой.
Воины закивали и принялись обсуждать его слова, стараясь говорить потише, – негоже шуметь, когда знаешь, что ракушки на доске твоей судьбы двигает сам ас. Боги жестоки, и кричать в их присутствии будет только храбрец или глупец.
Из толпы выступил Улаф, высоко подняв два бурдюка с вином, словно трофей, добытый в тяжелом бою.
– Похоже, мы сегодня засидимся, так почему бы заодно винца не испить, а?
Дружные возгласы одобрения были ему ответом – ясно, что против доброй пирушки боги возражать не станут. Всю ночь мы бражничали, ведь скоро на глазах у тысяч людей трое воинов братства побьют римских чемпионов. Впереди ждала сверкающая слава, и освещаемые ее блеском норны пряли нити наших судеб.
Бурдюки переходили по кругу, и к нам вновь осмелились подойти торговцы едой, потаскухи и мальчишки с элем. Они сновали туда-сюда, как назойливые блохи, пока Бирньольф не швырнул одного в реку и его не унесло течением. После остальные нам не докучали – по крайней мере некоторое время.
Я объяснил уэссекцам, что делать, если они хотят выйти на арену.
– Мне не нужно сражаться с каким-то огромным черным ублюдком, чтоб доказать, что я отличаю один конец меча от другого, – сказал Бальдред, прикладываясь к бурдюку.
Краснорожий Виглаф кивнул, задумчиво ковыряя в носу.
– Пусть эти кровожадные дикари отдают себя на растерзание, – сказал он, вытирая палец о портки.
– А ты, Пенда? – спросил Гифа.
Тот вытащил из-за пазухи заплетенную в косу и перевязанную ленточками прядь рыжих волос. Я уже много раз видел, как он нюхает этот локон, но никогда не спрашивал его о нем. Та, что его подарила, осталась далеко.
Бальдред обхватил руками голову.
– Ты не соображаешь, что делаешь, – сказал он, потому что Пенда собирался положить локон в мешок Асгота.
– Если я попаду на арену, горе моему противнику. Мне наплевать, кто он, я ему кишки выпущу, – просто сказал Пенда, протягивая руку за бурдюком.
Мы с Виглафом многозначительно переглянулись, потому что оба знали, что это не бахвальство, а чистая правда. Пенда, наверное, родился с мечом в руке и тем напоминал мне Флоки Черного, хотя в остальном они были совершенно разные.
– А ты, Ворон? – спросил Бальдред, косясь на Пенду. – Докажи, что ты умнее, чем этот сукин сын.
Я улыбнулся и ответил, что не тороплюсь увидеть свои кишки.
– Вот и правильно, – произнес он с довольным кивком.
Пенда тоже одобрительно кивнул, и мы продолжили пировать, пока не свалились. Ночью я несколько раз просыпался и видел темные силуэты уходящих и приходящих воинов – мешок Асгота наполнялся.
Глава 16
Меня разбудил громкий рев. На большом каменном постаменте, оставшемся от древней статуи, рвался из пут огромный бык. Десять воинов, покраснев от натуги, удерживали его на месте, а Асгот выбирал, с какого боку подобраться, чтоб перерезать зверю глотку.
Рассвет был серым и промозглым. Густой туман заволок берега и пропитал сыростью одежду. Но ни он, ни головная боль не могли омрачить возбуждение, распространявшееся по лагерю, как огонь по сухой траве. Решающий день настал. Скоро все узнают, кому посчастливится сразиться в Амфитеатре Флавиев. На огне шипел жарящийся лук. Одни крошили жареную рыбу на теплый хлеб, другие нарезали копченый сыр. В воздухе не смолкал оживленный гул, смешивающийся с журчанием реки.
– У меня хорошее предчувствие, – сказал Брам, кидая готовую рыбину Бьярни, который ловко ее поймал и, дуя на руки, передал дальше. – Не терпится показать этим тощим карликам-датчанам, как у нас дела делаются.
Бык издал последний яростный рев, нож Асгота вонзился ему глубоко в глотку, и на камни ручьем хлынула кровь, курясь розоватым парком. Зверь рухнул на колени и закачался из стороны в сторону. Стоящие рядом отпрянули под дружный хохот товарищей, а Асгот воздел руки к небу, призывая Тюра, бога войны.
– Уверен, что и датчане, и римляне повеселятся, увидев воина, который дерется, как Грендель, – сказал Бьярни, едва удерживаясь от улыбки, – но по мне так лучше смотреть на того, у кого хоть какое-то умение есть. Поэтому Тюр выберет меня.
– Ха! Да ты ночью вставал, только чтоб в реку помочиться, – сказал Брам, вызвав усмешки.
– Пора, – объявил Сигурд, кладя руку на плечо Браму.
В небе пронеслась стая пронзительно кричащих чаек – они направлялись к морю, как и плывущие по реке рыбацкие лодки.
Все заговорили разом, подходя к туше быка, вокруг которой растекалась лужа крови и мочи. Такое крупное приношение должно было задобрить однорукого бога Тюра – храбрейшего из воинов.
– Асгот вытянет жребий трижды. – Сигурд поднял три пальца.
На этот раз на его плаще тускло поблескивала брошь с летящим оленем. Меня пронзила догадка – брошь с волчьей головой в Асготовом мешке.
– Каждая вещица укажет нам, кого боги хотят видеть на римской арене.
По знаку Сигурда Асгот окровавленными руками схватился за мешок. Старческие пальцы суетливо возились с узлом. Слышалось лишь тихое журчание реки да негромкие голоса на причале. Наконец узел поддался, Асгот обратил желтые глаза к небу и сунул руку в мешок. Произнеся несколько заклинаний, более древних, чем Рим, годи вытащил из мешка старый гребень с редкими зубцами. Все взгляды обратились к Свейну, чью кустистую рыжую бороду прорезала широкая, дерзкая улыбка. Воздух сотрясли одобрительные крики – кто, как не Свейн, сможет защитить честь братства. Силач вышел вперед и принял свою вещь из рук Асгота, потом повернулся к нам и поднял гребень высоко вверх, словно это серебряная гривна ярла. Крики стали еще громче. От всеобщего шума Сколл завыл, будто тоже поддерживая выбор. Наверное, римляне немало удивились, услышав леденящий душу вой с берега Тибра.
Свейн вернулся в строй, и снова в воздухе густым туманом повисло тягостное молчание. Воины нервно теребили бороды и сжимали в руках амулеты. Кто грыз ногти, кто покашливал; каждый гадал, какой ему уготован удел.
Асгот снова запустил руку в мешок, на этот раз медленнее, словно боялся, что его куснет за палец спрятавшаяся внутри острозубая тварь.
– Сейчас еще один Свейнов гребень вытащит! – рявкнули в толпе, но мало кто улыбнулся. Рука годи показалась из мешка, и тут же голос, который не спутаешь ни с каким другим, вскричал:
– Сиськи Фригг!
Асгот держал в руке медвежий коготь: черный, гладкий, острый, размером с палец. Я ухмыльнулся и оглянулся на Брама Медведя. Но он почему-то смотрел на меня, подняв бровь, и все остальные тоже.
– Чертов тупица, – прошипел Пенда.
Я ошарашенно повернулся к Асготу – от его взгляда внутри все похолодело, а колени чуть не подкосились. В руке у годи по-прежнему был амулет Брама на кожаном шнурке, однако на нем повисло старое куцее вороново перо. Такое же, как то, что Кинетрит давным-давно вплела мне в волосы в уэссекском лесу.
– А это считается? – спросил кто-то.
– Клади перо обратно, – крикнул Бьярни, – оно просто зацепилось.
– Правильно, клади обратно, – поддержал его Брам.
Все закивали и заулюлюкали, но Асгот покачал головой.
– Глупцы! Разве вы не видите в этом волю Тюра? – Он злобно оглядел собравшихся. – Трое выбраны. И изменить ничего нельзя.
– Если Асгот говорит, что так хотят боги, кто мы такие, чтобы спорить? – сказал Арнгрим, сдвинув брови.
– Сигурд, убьют же парня, – возразил Улаф.
Ярл нахмурился, но ничего не ответил. Тогда Улаф обратился к годи:
– Асгот, тяни еще, – указал он на мешок.
– Нельзя, Дядя, – сказал Сигурд громко, чтобы слышали все. – Перо вытащилось само, без Асгота, – значит, боги что-то задумали.
Губы годи скривились в ухмылке. Мне хотелось прокричать, что я не клал перо в мешок и не хочу на арену. Все это было чистой воды безумием, ведь единоборцы сражаются лучше меня. Я погибну. Мои кишки вываляют в пыли под радостный рев толпы. Даже если б я хотел сразиться, прошлой ночью я спал мертвецким сном, с пустым бурдюком под головой. Я бы в реку свалился, если б пошел по мосту туда, где висел мешок. И тут я понял, как Асготу удалось незаметно заполучить перо. Я зло зыркнул на годи, взглядом пообещав ему тысячу ужасных смертей.
– Я буду рядом, братишка. – Крепкая, точно ветвь могучего дуба, рука Свейна Рыжего обхватила меня за плечи.
Я пытался улыбнуться, однако лицо словно окаменело. Сказать им?.. Но кто поверит, что Асгот глухой ночью срезал перо с моих волос, пока я спал? Я выставлю себя ничтожным трусом, пытающимся уйти от судьбы. Меня ждет позор. Да и не совсем понятно, как Асгот это сделал. Хорошо, он взял перо и положил его в мешок, но сам ли он прицепил его к амулету Брама? Или это случайность? Может, это и правда воля Тюра? Я отвел полный ненависти взгляд от годи и посмотрел на Кинетрит, стоявшую по правую руку от старика. Знала ли она? Я не мог поверить, что она хочет моей смерти. Ее зеленые глаза смотрели на меня холодным безмолвным взглядом. Не выдержав, я отвернулся.
– А ну, поприветствуйте тех, кого избрал сам Тюр! – прокричал Бодвар.
Туманный воздух огласили приветственные крики. Нас хлопали по спинам, кто-то пошел за вином, хотя было еще раннее утро и моя голова еще звенела, будто щит под ударами меча.
Все последующие дни мы усердно готовились к поединку. У подножия Авентинского холма, под сенью Сервиевой стены, раскинулся поросший кустарником пустырь. Там пас овец, коз и лошадей пастух по имени Паскаль. За кубок, наполненный янтарем, пастух с радостью уступил нам половину пустыря. Сигурд и Флоки Черный изнуряли меня занятиями до полусмерти. Доходило до того, что все мое тело начинало дрожать и меня рвало. В основном мы бились на копьях с замотанными кожей наконечниками – ведь если хорошо владеешь копьем, то мечом и секирой тоже драться сможешь. Сигурд и Флоки нападали на меня снова и снова, так что мне приходилось отчаянно крутиться в обе стороны и отражать удары – во рту пересыхало, грудь разрывало частым дыханием. Стоило мне начать слабеть, как кто-нибудь из них ломал древко о мою ногу или плечо, и оставалось лишь удвоить силы, иначе было бы еще хуже. Подсчитывая синяки, я убеждал себя, что ни Сигурд, ни Флоки не станут меня калечить перед серьезным боем, хотя истерзанному телу от этого было не легче.
Силу тоже тренировали. Мы со Свейном и Брамом вставали плечом к плечу, сцепив щиты, а на нас скъялдборгом [42] шли семь, восемь или даже десять воинов, и две «стены» просто давили друг на друга что есть мочи. Сердце стучало, словно молот, в груди жгло, но мы продолжали напирать. И хотя с нами был Свейн, нас каждый раз теснили назад; ноги наши бороздили землю, лица сравнивались по цвету с римским вином, а одежда насквозь промокала от пота. Однако сколько бы пота я ни проливал и синяков ни получал, правда оставалась правдой: я и вполовину не был так силен, как Тео Грек, Берстук Вендский или синелицый Африканец. И все это понимали. Чем ближе подходил день поединка, тем холоднее обращались со мною некоторые воины, считая, что я недостоин защищать честь братства. А может, просто завидовали – ведь именно мне, а не им Тюр дал шанс обрести славу. Однако я думал иначе. И Пенда тоже.
– Ради всех святых, парень, никак не пойму, о чем ты думал? Они же вышколенные воины, а не какие-нибудь крестьяне, которых заставили выйти на арену. Грек – верткий, как рыба, и воин искусный. Да к тому же хитрый. Африканец, наверное, и Свейна поборол бы, а венд – прирожденный убийца, я бы глаз не сомкнул накануне поединка с ним.
– Убивал я воинов и получше, – сказал я, потягивая разбавленный эль в ночь накануне поединка.
Сначала Пенда молча учил меня своим лучшим приемам и движениям, но потом вино развязало ему язык, очень не вовремя, – ведь утром мне предстояло сразиться не на жизнь, а на смерть.
Он покачал головой. Его глаза блестели в отсветах пламени.
– Ты везунчик, парень, и чутье у тебя есть… И все же ты не готов. Угорь и тот прыгает лучше. – Губы его улыбались, но глаза – нет. – Хочешь вернуть им чертово серебро, что пустил плавать по франкской реке? – Он указал на сидящих неподалеку норвежцев.
Те тоже негромко переговаривались, прикидывая, сколько серебра на нас поставить, и споря о том, кому какой противник должен достаться, чтобы мы ушли с арены живыми.
Я покачал головой.
– Может, им это и не нравится, Пенда, но они знают: гнить бы сейчас нашим костям на дне той реки, если б мы не избавились от серебра.
– Тогда почему? Из-за нее? – спросил он. – Ты решил идти на смерть из-за Кинетрит?
От этого имени внутри у меня все перевернулось.
– Она мне безразлична, – солгал я.
Уэссексец расстроенно покачал головой – никак не мог взять в толк, зачем я вызвался сражаться с воинами, которые дерутся гораздо лучше меня. И я решился открыться ему, потому что Пенда – мой друг, и еще потому, что он чувствовал мой страх, как охотничий пес – лисий запах. Я рассказал ему, как получилось, что Асгот вытащил перо из мешка. Он слушал меня, выпучив глаза и открыв рот, а руки его сами сжались в кулаки.
– Вот же хитер, тварь коварная! – воскликнул он.
Я шикнул на него.
– Никому не говори. Поклянись, что не скажешь.
– Тебе не обязательно сражаться, – сказал Пенда, с трудом сдерживаясь, чтобы не кричать. – Да пусть еще чей-нибудь гребень вытащат, а ты поживешь.
– Что сделано, то сделано, – пожал я плечами. – Пути назад нет, иначе меня сочтут жалким трусом.
Уэссексец долго молчал, почесывая длинный шрам, пересекавший его лицо, – все пытался придумать, как мне избежать поединка.
– От судьбы не уйдешь, – сказал я, протягивая руку за лежащим у его ноги бурдюком.
Эля не хватило, чтоб забыться, а провести свою последнюю ночь в страхе не хотелось. Пенда передал мне бурдюк, к которому я немедленно приложился.
– Значит, придется тебе победить, – сказал он.
В этот самый момент раздались радостные возгласы со стороны моста. Мы повскакивали и вгляделись в освещаемую отблесками пламени темноту. Всем хотелось отвлечься от напряженного ожидания, которое повисло в лагере. По берегу шли Сигурд, Улаф и Рольф, у каждого из них на плече висело по свиной туше.
– Что, кто-то умер? – прокричал Сигурд. – Или наш корабль затонул в этой вонючей римской речушке? Почему у всех кислые рожи? Эй, Дядя, видал когда-нибудь таких жалких горемык?
Улаф покачал головой.
– Только среди христиан.
– Завтра слава о нас разнесется по всему Риму! – прокричал Сигурд, передавая тушу Арнвиду и Бодвару, чтоб те зажарили ее на костре. – Если уж это не повод для пира…
Уговаривать никого не пришлось. Бьярни нашел римлян, играющих на дудках и лире со струнами из конского волоса, Туфи и Бейнир привели танцовщиц. Все собрались вокруг большого костра, пили, смеялись, смотрели, как со свиных туш капает и с шипением сгорает в углях жир. Когда одну из туш обглодали до костей, Улаф встал, пошатываясь и расплескивая эль из серебряного рога.
– За Одина, Всеотца! – провозгласил он, поднимая рог.
– За Одина, Всеотца! – прокричали мы в ответ.
– Теперь пусть скажут наши единоборцы. – Улаф обвел пальцем толпу. – Свейн, рыжий ты бычина! Жаль мне того сукиного сына, что встретится с тобой в бою завтра. Быстро его прикончишь?
Раздались крики протеста.
– Ну-ка поднимись, Свейн, Торов сын, дай на тебя поглядеть.
Под приветственные крики силач встал, пряча улыбку в огромной бороде.
– Быть таким громадным и хорошо и плохо, да Свейн? – прокричал Бьярни, обращаясь к нам. – Дождь достает тебя первым, а вонь – последним!
– Что ты нам завтра покажешь, Свейн? – прорезался голос Сигурда сквозь общий хохот.
– Вспорю врагу брюхо, чтоб все видели, что он на завтрак сожрал, – ответил Свейн. – Потом придушу его же кишками.
Послышались одобрительные возгласы.
– Если и после этого не сдохнет, познакомлю с моим топором по имени Черепокол. Вряд ли ему понравится. – Он грустно покачал головой. – А жаль, топору-то он точно понравится.
Раздались крики:
– Хорошо сказано!
Наступило время похваляться своими подвигами, и чем витиеватее – тем лучше.
Свейн поднял кубок за братство и уселся на место.
– Брам, Брам, Брам! – Дружные крики становились все громче.
Медведь встал, освещенный бронзовыми отсветами пламени. В руке он сжимал сдувшийся бурдюк.
– Ну, Медведь! Позволишь своему сопернику уйти завтра с арены и похваляться, что он побил норвежца? – спросил Сигурд, намеренно поддевая известного своим гордым нравом воина.
– Ха! Пусть попробует уйти – без головы-то! – проревел Брам.
В глазах у меня поплыло, то ли от вина, то ли от страха.
– Я Брам, некоторые зовут меня Медведь. Я сражался за короля Горма [43] в крепости Фиркат. Тогда пролились реки крови, а волки и вороны объелись так, что волки не могли ходить, а вороны – летать. Я побил знаменитого воина короля Хьюгелака Улофа Свирепого и многих других. – Он не удержался от торжествующего взгляда в сторону датчан, ведь Хьюгелак – датский король, и все они слышали о могучем Улофе. – А в городе Рибы я победил великих воинов братьев Рандвера и Хрейдмара [44].
Послышались восхищенные возгласы.
– А как-то раз я переплыл море Каттегат, от города Гренана до острова Лесё. Тот, с кем мы плыли на спор, утонул.
Никто ему не возразил, хотя я не мог понять, как человек может плавать так далеко. Даже рыбы не могут.
– А не ты ли однажды тролля убил? – спросил Оск, сверкая обломками зубов в свете костра.
Брам обхватил свою похожую на гнездо бороду и смущенно улыбнулся.
– Помнится мне, мерзкая тварь… Вот только тролль ли это был… может, какой-нибудь Свейнов родственник… кузен, например.
Даже Свейн рассмеялся, а Брам пожал плечами.
– В темноте разве углядишь, да и пьян я был.
– Пьян? Ты? – Сигурд поднял брови в притворном изумлении. – Ушам своим не верю.
– Ага, и, кстати, мне это напомнило… – сказал Брам, размахивая бурдюком. – Я однажды перепил всех в округе.
– Хей! – вскричал Сигурд, поднимая рог в честь Брама. Все сделали то же самое.
– Незадачливый соплежуй, который сразится со мною завтра, пожалеет, что вылез на свет из чрева своей матери-свиньи.
Все кругом загоготали, а потом уставились на меня.
– Теперь ты, Ворон, – обратился ко мне Улаф. – А то эти два раздувшихся от гордости сукиных сына тебя перекаркают.
– Дай им то, чего они ждут, – пробормотал Пенда.
– Не хотел бы я встретиться с ним в бою! – сказал верзила Бейнир. – Взял и проткнул синелицего копьем, а тот просто поговорить хотел… Бешеный он.
– Да нечестно он дерется! – добавил Ирса Поросячье Рыло. – Помните того огромного франка, который прыгнул на борт «Змея»?
Все помнили.
– Так вот, бедняга никак не ожидал, что его заколют булавкой.
Поднялся смех, но Сигурд шикнул, чтоб все угомонились и дали мне сказать.
– Я благодарен Тюру за то, что буду сражаться бок о бок с этими двумя воинами. – Я показал на Свейна и Брама. – Ибо не знаю никого, кто умел бы так драться или пить. – Все снова подняли кубки и бурдюки. – Тому, кто выйдет завтра со мною на бой, не поздоровится. С тех пор как я стал одним из волков, меня многие пытались убить. Их уже давно черви едят, а я все еще жив.
По толпе пронесся гул – одни воины пересказывали мои слова другим.
– Говорят, мне благоволит сам Один: я много раз выживал там, где ждала верная смерть. За моей спиной говорят: «Красноглазого нельзя убить. Его защищает сам Копьеметатель». Вы перешептываетесь по ночам, думая, что я сплю и не слышу. Поговаривают даже, что я облечен в смерть, как в плащ, и что от меня лучше держаться подальше.
Мои слова не встречали возгласами, как слова Свейна и Брама. Но в толпе нарастал гул, словно бы позади разливалась река. Я умолк и медленно оглядел собравшихся, надеясь, что мой кровавый глаз выглядит достаточно зловеще.
– Так вот, все это – правда, – продолжал я. – Тот, кто сразится со мной завтра, прочувствует это на своей шкуре. Нового рассвета ему не видать. Я – Ворон, Несущий Смерть.
На меня смотрели широко раскрытые глаза, в зрачках которых плясали отблески пламени, и настороженные щелки под косматыми бровями. Не зная, что еще сказать или сделать, я схватил наш с Пендой бурдюк и поднял его высоко над головой.
– За Одина!
Воины подняли кубки, кто-то повторил мои слова, однако в толпе чувствовалась какая-то угрюмость.
– Куда мне до Свейна и Брама, – пробормотал я, вернувшись на место.
Потом хотел было глотнуть из бурдюка, но передумал – голова и так кружилась.
Пенда ничего не сказал, только неотрывно смотрел на меня, как только что остальные. Я снова повторил, что нужно чаще бахвалиться, тогда, глядишь, и получаться будет лучше.
– Я мало что понял из твоей речи, парень, – признался Пенда, – но никто не смеялся, это точно.
– Хотел бы я, чтобы этот старый вонючий козел перестал ухмыляться, – сказал я, кивая в сторону Асгота.
Годи раскинул руны на доске для тафла и закатил глаза, будто так мог увидеть то, что не видят другие. Рядом с ним стояла Кинетрит, поглаживая серебристую шерсть спящего Сколла.
– Если я переживу завтрашний день, то убью его, – процедил я.