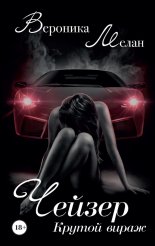Был ли Бог математиком? Галопом по божественной Вселенной с калькулятором, штангенциркулем и таблицами Брадиса Ливио Марио

Палимпсест Архимеда
В какой-то момент в Х веке (вероятно, в 975 году) некий безымянный писец переписал в Константинополе (ныне Стамбул) три важнейшие работы Архимеда – «Метод механических теорем», «Стомахион» и «О плавающих телах». Вероятно, это был результат общего интереса к греческой математике, который вспыхнул во многом благодаря византийскому ученому Льву Математику, жившему в IX веке. Однако в 1204 году участники Четвертого крестового похода соблазнились обещаниями награды и разграбили Константинополь. В последующие годы страсть к математике угасла, а раскол между западной католической церковью и восточной православной стал окончательным и бесповоротным. В какой-то момент до 1229 года манускрипт с работами Архимеда подвергся катастрофической переработке: рукопись разделили на отдельные листы пергамента и смыли все написанное, чтобы использовать его для христианской литургической книги. Писец по имени Иоанн Мирон завершил работу над литургической книгой 14 апреля 1229 года (Netz and Noel 2007). К счастью, в результате отмывания оригинальный текст не исчез бесследно. На рис. 12 приведена страница из манускрипта: горизонтальные линии – это текст молитв, а еле заметные вертикальные – математические трактаты Архимеда. К XVII веку палимпсест – переписанный документ – попал каким-то образом в Святую Землю, в монастырь Св. Саввы близ Вифлеема. В начале XIX века в библиотеке монастыря хранилось не меньше тысячи манускриптов. И все же по не вполне понятным причинам палимпсест Архимеда вернули в Константинополь. Затем, в 1840-е годы, подворье Иерусалимского храма Гроба Господня в Константинополе посетил знаменитый немецкий библеист Константин Тишендорф (1815–1874), первооткрыватель одного из самых ранних списков Библии, – и увидел там этот палимпсест. Судя по всему, Тишендофу показалось, что еле заметный математический текст представляет определенный интерес, поскольку он оторвал и выкрал один лист манускрипта. В 1879 году наследники Тишендорфа продали эту страницу библиотеке Кембриджского университета.
В 1899 году греческий ученый А. Пападопулос-Керамеус составил каталог всех манускриптов, хранившихся в подворье, и рукопись Архимеда значится в его каталоге как Ms. 355. Пападопулос-Керамеус сумел прочитать несколько строчек математического текста и привел их в каталоге, понимая, вероятно, что это может быть очень важное открытие. Это был поворотный момент в саге о манускрипте. Математический текст в каталоге привлек внимание датского филолога Йохана Людвига Гейберга (1854–1928). Гейберг понял, что текст принадлежит Архимеду, и в 1906 году приехал в Стамбул, изучил и сфотографировал палимпсест, а год спустя объявил о сенсационном открытии: в рукописи содержались два неизвестных ранее трактата Архимеда и один дошедший до нас лишь в латинском переводе. Но хотя Гейберг сумел прочитать и впоследствии опубликовал отрывки из манускрипта в своей книге о трудах Архимеда, остались большие пробелы. К несчастью, в какой-то момент после 1908 года манускрипт исчез из Стамбула при загадочных обстоятельствах – а когда всплыл снова, оказалось, что им владеет некое парижское семейство, которое утверждает, что приобрело его еще в 20-е годы. Палимпсест хранили в неподходящих условиях, и он был местами непоправимо поврежден плесенью, а три страницы, которые ранее перевел Гейберг, и вовсе пропали. Мало того, после 1929 года кто-то нарисовал на четырех страницах четыре миниатюры в византийском стиле. Впоследствии это французское семейство продало манускрипт владельцам аукциона «Кристи». Вопрос о праве собственности на манускрипт разбирался в 1998 году в нью-йоркском суде. Греческий православный патриархат Иерусалима заявил, что рукопись в 20-е годы похитили из одного из его монастырей, однако судья вынесла решение в пользу аукциона «Кристи». Вскоре после этого, 29 октября 1998 года, манускрипт был продан на аукционе «Кристи»; покупатель, пожелавший остаться неизвестным, заплатил за него 2 миллиона долларов. Новый владелец поместил манускрипт в Художественный музей Уолтерса в Балтиморе, где рукопись подвергли интенсивной консервации и тщательному исследованию. В арсенале современных ученых появились инструменты по распознаванию изображений, недоступные исследователям прошлого.
Рис. 12
Рис. 13
Ультрафиолетовый свет, многозональная съемка и даже направленные рентгеновские лучи (ими манускрипт облучали на Стэнфордском линейном ускорителе) уже позволили расшифровать части рукописи, которые раньше были не видны. Сейчас, когда я пишу эти строки, тщательное научное изучение рукописи Архимеда идет полным ходом. Мне выпала честь познакомиться с группой криминалистов, которые изучают палимпсест, и на рис. 13 я стою рядом с экспериментальной установкой, в которой каждую страницу палимпсеста облучают в разных диапазонах.[29]
Драма вокруг палимпсеста по своим масштабам вполне соответствует значению документа, который наконец-то позволил нам изучить научный метод великого геометра.
Метод
Когда читаешь любой древнегреческий геометрический трактат, невольно восхищаешься лаконичностью стиля и точностью формулировок и доказательств теорем, которым уже более двух тысяч лет.
Но чего в этих книгах точно не найдешь – это объяснений, каким образом эти теоремы пришли в голову автору. Выдающийся трактат Архимеда «Метод механических теорем» заполняет этот загадочный пробел – там рассказано, как сам Архимед убеждался в истинности некоторых теорем еще до того, как придумывал, как их доказать. Приведу отрывок из его послания математику Эратосфену Киренскому (ок. 276–194 гг. до н. э.) во введении к трактату (Dijksterhuis 1957).
В этой книге я шлю тебе доказательства этих теорем. Поскольку, как я уже упоминал, я знаю, что ты человек усердный, прекрасный учитель философии и очень интересуешься любыми математическими исследованиями, какие только ни попадутся тебе, я решил, что будет полезно описать и передать тебе в этой же книге некий особый метод, который даст тебе возможность ставить определенные математические вопросы при помощи механики (курсив мой. – М. Л.). Я уверен, что этот же метод не менее полезен при поиске доказательств тех же теорем. В некоторых случаях мне сначала становилось понятно, что происходит, благодаря механическому методу, а затем уже это было доказано геометрически, поскольку изучение этих случаев вышеуказанным методом не позволяет вывести настоящее доказательство. Ведь гораздо проще предоставить доказательство, когда мы уже получили определенные знания посредством указанного метода, чем найти его безо всяких знаний.
Архимед затрагивает здесь один из важнейших принципов научного и математического исследования в целом: зачастую гораздо труднее формулировать вопросы и теоремы, которые стоит исследовать, чем искать ответы на известные вопросы и доказательства известных теорем. Так как же Архимед находил новые теоремы? Опираясь на тончайшее понимание механики, равновесия и принципов рычага, он мысленно взвешивал тела и фигуры, чьи площади и объемы пытался найти, и сравнивал их вес с весом уже известных тел и фигур. А когда ему удавалось таким образом найти неизвестную площадь или объем, было уже гораздо легче геометрически доказать истинность ответа. Именно поэтому «Метод» начинается с ряда утверждений относительно центров тяжести и лишь затем переходит к геометрическим предположениям и их доказательствам.
Метод Архимеда не имеет себе равных по двум причинам. Во-первых, Архимед, в сущности, ввел понятие мысленного эксперимента в строгих научных исследованиях. Название этому инструменту, воображаемому опыту, проводимому вместо реального, – Gedankenexperiment, то есть «опыт, производимый в мыслях» (нем.) – дал физик Ханс Кристиан Эрстед, живший в XIX веке. В физике, где эта идея оказалась крайне плодотворной, мысленные эксперименты применяются либо для того, чтобы обеспечить понимание процессов еще до экспериментов реальных, либо в случаях, когда реальные эксперименты невозможны. Во-вторых – и это самое главное – Архимед освободил математику от несколько искусственных ограничений, которые наложили на нее Евклид и Платон. По мнению этих ученых мужей, математикой можно заниматься одним и только одним способом. Надо начинать с аксиом, а затем выстраивать несокрушимую последовательность логических шагов при помощи строго определенных инструментов. Однако вольнолюбивый Архимед решил для постановки и решения новых задач задействовать весь мыслимый арсенал. И не остановился перед тем, чтобы ради развития математики изучать и использовать связи между абстрактными математическими объектами (платоновскими формами) и физической реальностью (реальными телами или плоскими фигурами). И последний пример, подкрепляющий статус Архимеда-волшебника, – его предсказание интегрального и дифференциального исчисления, отрасли математики, которую формально разработал Ньютон (и независимо от него немецкий математик Лейбниц) лишь к концу XVII века[30]
Основная идея процесса интегрирования довольно проста (если ее понятно объяснить, конечно). Предположим, вам нужно найти площадь сегмента эллипса. Можете разделить эту площадь на много маленьких прямоугольничков одинаковой ширины и сложить площади этих прямоугольничков (рис. 14). Очевидно, что чем больше прямоугольничков мы сделаем, тем ближе сумма их площадей будет к истинной площади сегмента. Иначе говоря, на самом деле площадь сегмента равна пределу, к которому стремится сумма прямоугольничков, если их число увеличивается до бесконечности. Поиск этого предела и называется интегрированием. Архимед применял вариант вышеописанного метода для поиска объема и площади поверхности сферы, конуса, эллипсоидов и параболоидов (тел, которые получаются, если вращать эллипсы или параболы вокруг оси).
Среди основных задач дифференциального исчисления – поиск угла наклона касательной к данной кривой в данной точке, то есть той линии, которая касается кривой только в этой точке. Архимед решил эту задачу для частного случая спирали, тем самым предвосхитив далекое будущее – работы Ньютона и Лейбница. Сегодня области дифференциального и интегрального исчисления и их дочерние отрасли закладывают основу большинства математических моделей – будь то физика, инженерное дело, экономика или динамика популяций.
Рис. 14
Архимед изменил мир математики, перевернул представления об отношениях математики с мирозданием. Поскольку у него были как теоретические, так и практические интересы – поразительное сочетание! – он самой своей деятельностью предоставил первые не мифологические, а эмпирические доказательства того, что структура мироздания, очевидно, основана на математике. Идея, что математика – это язык Вселенной, а следовательно, Бог – математик, родилась именно в трудах Архимеда. И все же одного Архимед не сделал – он никогда не говорил об ограниченности применения своих математических моделей в реальных физических обстоятельствах. Например, теоретические рассуждения о рычагах в его трактатах предполагают, что опоры бесконечно твердые, а сами рычаги ничего не весят. Тем самым Архимед в некотором смысле открыл дорогу толкованию математических моделей «с соблюдением внешних приличий». То есть получалось, что математические модели отражают лишь то, что наблюдают люди, а не описывают подлинную физическую реальность. Разницу между математическим моделированием и физическим объяснением применительно к движению небесных тел первым подробно описал греческий математик Гемин (ок. 10 г. до н. э. – 60 г. н. э.) [Heath 1921]. Он провел грань между астрономами (или математиками), которые, по его мнению, лишь предлагали модели, которые повторяли бы наблюдаемое в небесах движение, и физиками, которые должны были искать объяснения реальному движению. Именно этому разграничению предстояло достигнуть пика во времена Галилея, о чем мы еще поговорим в этой главе.
Сам Архимед, как ни странно, считал своим важнейшим достижением открытие, что объем сферы, вписанной в цилиндр (рис. 15), всегда составляет ровно 2/3 объема цилиндра, если его высота равна его диаметру. Архимед так гордился этим результатом, что потребовал, чтобы его высекли на его надгробии (Plutarch ca. 75 AD). Примерно через 137 лет после смерти Архимеда знаменитый римский оратор Марк Туллий Цицерон (ок. 106–43 гг. до н. э.) обнаружил могилу великого математика. Вот как сам Цицерон описывал это событие – довольно трогательно[31]:
Когда я был квестором, я отыскал в Сиракузах его [Архимеда] могилу, со всех сторон заросшую терновником, словно изгородью, потому что сиракузяне совсем забыли о ней, словно ее и нет. Я знал несколько стишков, сочиненных для его надгробного памятника, где упоминается, что на вершине его поставлены шар и цилиндр. И вот, осматривая местность близ Акрагантских ворот, где очень много гробниц и могил, я приметил маленькую колонну, чуть-чуть возвышавшуюся из зарослей, на которой были очертания шара и цилиндра. Тотчас я сказал сиракузянам – со мной были первейшие граждане города, – что этого-то, видимо, я и ищу. Они послали косарей и расчистили место. Когда доступ к нему открылся, мы подошли к основанию памятника. Там была и надпись, но концы ее строчек стерлись от времени почти наполовину. Вот до какой степени славнейший, а некогда и ученейший греческий город позабыл памятник умнейшему из своих граждан: понадобился человек из Арпина, чтобы напомнить о нем (пер. М. Гаспарова).
Описывая величие Архимеда, Цицерон отнюдь не преувеличивал. Более того, я преднамеренно задал такие высокие стандарты для получения титула «волшебника», что для того, чтобы перейти от титана Архимеда к следующему кандидату, мы должны будем перепрыгнуть на целых восемнадцать столетий вперед и лишь тогда найдем фигуру подобной величины. В отличие от Архимеда, который заявил, что сдвинет Землю, этот волшебник утверждал, что Земля уже движется.
Рис. 15
Лучший ученик Архимеда
Галилео Галилей (рис. 16) родился в Пизе 15 февраля 1564 года[32]. Его отец Винченцо был музыкантом, а мать Джулия Амманнати отличалась исключительно острым умом, правда, была женщина не очень добрая и не выносила глупости. В 1581 году Галилей по совету отца поступил в Пизанский университет на факультет изящных искусств, чтобы изучать медицину. Однако сразу после поступления интерес к медицине угас, сменившись страстью к математике. Поэтому во время летних каникул в 1583 году Галилей уговорил придворного математика Тосканы Остилио Риччи (1540–1603) побеседовать с его отцом и убедить его, что призвание Галилея – математика. И в ближайшем же будущем вопрос удалось уладить – восторженный юноша был совершенно очарован трудами Архимеда: «Тот, кто прочтет его труды, – писал Галилей, – увидит яснее ясного, насколько все остальные умы проигрывают Архимеду и как мало остается надежды открыть что-то подобное тому, что открыл он»[33].
Рис. 16
В то время Галилей и не подозревал, что и сам обладает редчайшим интеллектом, ничем не уступающим уму его греческого наставника. Вдохновленный легендой об Архимеде и золотом венце, Галилей в 1586 году опубликовал небольшой трактат под названием «La Bilancetta» («Маленькое равновесие») о гидростатических весах собственного изобретения. Впоследствии он воздал дань наследию Архимеда и в литературоведческой лекции, которую прочитал во Флорентийской академии; тема лекции была несколько необычной – местоположение и размеры Дантова ада по данным «Божественной комедии».
В 1589 году Галилей был назначен заведующим кафедрой математики в Пизанском университете, отчасти благодаря настойчивым рекомендациям Христофора Клавия (1538–1612), авторитетного римского астронома и математика, которого Галилей посетил в 1587 году. Звезда молодого математика явно находилась на подъеме. Следующие три года Галилей посвятил изложению своих первых идей о теории движения. Эти сочинения, несомненно, вдохновленные трудами Архимеда, содержат поразительную смесь интересных идей и ошибочных утверждений. Например, Галилею первому пришло в голову, что проверять теории относительно падающих тел можно при помощи наклонной плоскости, которая замедляет движение, – однако он ошибочно утверждает, что если сбросить тело с башни, то «древесина в начале движения падает быстрее свинца»[34]
Направление интересов Галилея и общий ход его мыслительного процесса на этом этапе жизни были несколько неправильно истолкованы его первым биографом Винченцо Вивиани (1622–1703). Вивиани нарисовал популярный образ дотошного упорного экспериментатора, который извлекал новые идеи исключительно из внимательного наблюдения над природными явлениями[35]. На самом деле до 1592 года, когда Галилей перебрался в Падую, и направление интересов, и методология у него были чисто математическими. Он полагался в основном на мысленные эксперименты и на архимедово описание мира в терминах геометрических фигур, которые подчиняются математическим законам. В те годы главная претензия к Аристотелю у Галилея сводилась к тому, что Аристотель «не подозревал не только о глубоких и достаточно сложных открытиях геометрии, но и о самых элементарных принципах этой науки»[36]. Также Галилей считал, что Аристотель слишком полагался на чувственный опыт, «поскольку он на первый взгляд дает некоторое подобие истины». Сам же Галилей, напротив, советовал «всегда приводить не примеры, а умозаключения (ибо мы ищем причины следствий, а опыт их не выявляет»).
В 1591 году у Галилея умер отец, и молодой человек, понимая, что теперь он должен содержать семью, принял предложение о работе в Падуе, где ему предложили жалованье втрое больше. Следующие восемнадцать лет были самыми счастливыми в жизни Галилея. Помимо всего прочего, в Падуе он познакомился с Мариной Гамба, с которой у него завязались длительные и прочные отношения; он так и не женился на Марине, однако она родила ему троих детей – Виргинию, Ливию и Винченцо[37]. Четвертого августа 1597 года Галилей написал личное письмо великому немецкому астроному Иоганну Кеплеру с признанием, что он «уже давно» придерживается идей Коперника, и добавил, что гелиоцентрическая модель Коперника дала ему возможность объяснить целый ряд природных явлений, которые геоцентрическая доктрина не объясняла. Однако Галилей сокрушался по поводу того, что Коперника «высмеяли и зашикали» и тот удалился со сцены. Это письмо знаменовало судьбоносный рубеж – отход Галилея от аристотелевой астрономии; с тех пор раскол становился все глубже. Началось формирование современной астрофизики.
Звездный вестник
Вечером 9 октября 1604 года астрономы в Вероне, Риме и Падуе в изумлении обнаружили новую звезду, которая вскоре засияла так ярко, что затмила все остальные звезды в небе. Метеоролог Ян Бруновский, имперский чиновник из Праги, также видел ее 10 октября и в сильнейшем волнении тут же сообщил о ней Кеплеру. Из-за пасмурной погоды Кеплер смог пронаблюдать звезду только 17 октября, однако, начав наблюдения, тщательно записывал все, что видел, примерно в течение года, а затем, в 1606 году, выпустил книгу о «новой звезде». Сегодня мы знаем, что небесный спектакль, разыгравшийся в 1604 году, знаменовал вовсе не рождение новой звезды, а гибель старой в результате взрыва. Это событие, которое сейчас называется «сверхновой Кеплера», вызвало в Падуе настоящую сенсацию. Галилею удалось пронаблюдать новую звезду своими глазами в конце октября 1604 года, а в декабре и январе он прочитал три публичные лекции, на которые пришло очень много слушателей. Галилей призывал ставить знания выше суеверий и продемонстрировал, что отсутствие наблюдаемого сдвига (параллакса) в положении новой звезды (на фоне неподвижных звезд) доказывало, что новая звезда находилась дальше Луны. Значение этого наблюдения трудно преувеличить. В мире Аристотеля любые изменения в небесах были ограничены ближней стороной Луны, а сфера неподвижных звезд, расположенная гораздо дальше, считалась незыблемой и неизменной.
Впрочем, незыблемость этой неизменной сферы была нарушена еще в 1572 году, когда датский астроном Тихо Браге (1546–1601) пронаблюдал еще один звездный взрыв – теперь это называется «сверхновая Тихо».
Событие 1604 года вбило очередной гвоздь в крышку гроба аристотелевой космологии. Однако подлинный прорыв в понимании Вселенной опирался не на область теоретических умозаключений и не на наблюдения, сделанные невооруженным глазом. Скорее это был результат простых экспериментов с выпуклыми и вогнутыми стеклянными линзами: если правильно подобрать две линзы и держать их на расстоянии около 33 сантиметров друг от друга, далекие предметы покажутся гораздо ближе. К 1608 году подобные подзорные трубы появились по всей Европе, и на соответствующий патент претендовали одновременно один голландский и два фламандских изготовителя очков. Слухи о чудесном инструменте достигли ушей венецианского богослова Паоло Сарпи, который рассказал о нем Галилею примерно в мае 1609 года. Сарпи не терпелось удостовериться, что слухи не пустые, и он навел справки о подзорной трубе в письме своему другу, парижанину Жаку Бадоверу. Галилей, по своим собственным словам, «страстно мечтал об этой прелестной вещице». Впоследствии он описал эти события в трактате «Звездный вестник», который вышел в марте 1610 года[38].
Месяцев десять тому назад до наших ушей дошел слух, что некоторый нидерландец приготовил подзорную трубу, при помощи которой зримые предметы, хотя бы удаленные на большое расстояние от глаз наблюдателя, были отчетливо видны как бы вблизи; об его удивительном действии рассказывали некоторые сведущие; им одни верили, другие же их отвергали. Через несколько дней после этого я получил письменное подтверждение от благородного француза Якова Бальдовера из Парижа; это было поводом, что я целиком отдался исследованию причин, а также придумыванию средств, которые позволили бы мне стать изобретателем подобного прибора; немного погодя, углубившись в теорию преломления, я этого добился. (Здесь и далее пер. И. Веселовского.)
Здесь Галилей применяет совершенно такой же творчески-практический метод умозаключений, что и Архимед: как только он узнал, что телескоп в принципе можно построить, у него ушло совсем немного времени на то, чтобы взять и создать этот прибор самостоятельно. Более того, в период с августа 1609 по март 1610 года Галилей с его выдающейся изобретательностью сумел превратить телескоп из устройства, которое увеличивает предметы в восемь раз, в прибор, который сокращает видимое расстояние до них в двадцать раз. Это само по себе значительное техническое достижение, однако величие Галилея должно было проявиться не в практическом «ноу-хау», а в том, как именно он стал применять свою увеличительную трубу (которую он назвал «perspicillum»). Галилей не стал ни высматривать далекие корабли из венецианской гавани, ни разглядывать падуанские крыши, а нацелил телескоп в небеса. Последующие события не имели прецедента в истории науки. Как пишет историк Ноэл Свердлов[39]: «За два месяца – декабрь и январь [1609 и 1610 года соответственно] он совершил столько открытий, перевернувших мир, что ни до него, ни после такое никому не удавалось». В честь четырехсотлетней годовщины первых наблюдений Галилея 2009 год был даже назван Международным годом астрономии.
Чем же Галилей заслужил славу корифея науки? Вот лишь несколько из его поразительных достижений.
Направив телескоп на Луну и внимательно изучив так называемый терминатор – линию, разделяющую темную и освещенную части лунного диска – Галилей обнаружил, что поверхность этого небесного тела неровная, на ней есть горы, кратеры и обширные равнины[40]. Он смотрел, как на затянутой тьмой стороне диска возникают яркие пятна света и как эти точки расширяются и распространяются – в точности как свет восходящего солнца на вершинах гор. Он даже определил высоту одной горы, исходя из геометрии освещения, и оказалось, что она больше шести километров. Но и это не все. Галилей увидел, что темная часть Луны (в первой и четвертой четверти) тоже слабо освещена – и сделал вывод, что все дело в отраженном свете с Земли. Галилей утверждал, что не только Земля освещается полной Луной, но и лунная поверхность залита отраженным светом с Земли.
Многие из этих открытий не стали полной неожиданностью, однако данные Галилея были так убедительны, что вывели научные диспуты на абсолютно новый уровень. До Галилея земное и небесное, мирское и божественное были четко разделены. Разница была отнюдь не только научной и философской. На мнимой непохожести Земли и небес был построен мощный корпус мифологии, религии, романтической поэзии и эстетических принципов. А теперь Галилей утверждал нечто совершенно немыслимое. В пику аристотелевой доктрине Галилей рассматривал Землю и небесное тело – Луну – на одинаковых основаниях: у обеих, оказывается, плотная неровная поверхность и обе отражают солнечный свет.
Галилей двинулся и дальше Луны и начал наблюдать планеты – это название дали «странницам» ночного неба древние греки. Седьмого января 1610 года Галилей направил телескоп на Юпитер и с удивлением обнаружил три новые звезды, которые пересекали диск планеты по прямой линии – две с запада на восток, одна с востока на запад. В последующие ночи положение этих звезд относительно Юпитера изменилось. Тринадцатого января Галилей заметил четвертую такую звезду. Не прошло и недели после этого открытия, как Галилей пришел к поразительному выводу: четыре новые звезды – это спутники, которые вращаются вокруг Юпитера по орбитам, совсем как Луна вокруг Земли.
Способность сразу распознавать судьбоносные открытия – характерная черта всех тех, кто оказал значительное влияние на историю науки. Но у многих знаменитых ученых есть и другая особенность – умение доступно рассказывать о своих открытиях. Галилей был мастером и в том и в другом. Он опасался, что кто-то другой тоже может открыть спутники Юпитера, и поспешил обнародовать свои результаты: трактат «Звездный вестник» вышел в свет в Венеции уже к весне 1610 года. В ту пору жизни Галилей еще увлекался политической игрой и посвятил книгу великому герцогу Тосканскому Козимо II Медичи, а спутники назвал «звездами Медичи». Два года спустя, проделав, по собственным словам, «атлантов труд», Галилей вычислил орбитальные периоды спутников, то есть время, за которое каждый из них совершает полный оборот вокруг Юпитера, с точностью до нескольких минут. «Звездный вестник» мгновенно стал бестселлером: первый тираж в пятьсот экземпляров был тут же распродан, и Галилей прославился по всей Европе.
Значимость открытия спутников Юпитера трудно преувеличить. Мало того, что со времен наблюдений древнегреческих астрономов это были первые небесные тела, пополнившие состав Солнечной системы, – само существование этих спутников мгновенно отмело один из самых веских доводов против учения Коперника[41]. Сторонники Аристотеля утверждали, что Земля никак не может вращаться вокруг Солнца, поскольку вокруг нее самой уже вращается Луна. Разве может во Вселенной быть два независимых центра вращения – и Солнце, и Земля? Открытие Галилея однозначно показало, что у планеты могут быть спутники, в то время как сама планета вращается вокруг Солнца.
Другое важное открытие, которое Галилей сделал в 1610 году, – это фазы Венеры. Согласно геоцентрической модели, Венера должна двигаться по маленькому кругу (эпициклу), наложенному на ее орбиту вокруг Земли. Центр эпицикла, как предполагалось, лежит на линии, соединяющей Землю и Солнце (как на рис. 17, а, масштаб не соблюден). В таком случае можно было бы ожидать, что с Земли Венера всегда будет выглядеть как полумесяц несколько варьирующейся ширины. Однако по модели Коперника Венера меняет облик от маленького яркого диска, когда планета находится по ту сторону от Солнца (при взгляде с Земли), до большого и почти темного диска, когда Венера проходит от Солнца с той же стороны, что и Земля (рис. 17, b). В промежутках между этими точками Венера должна миновать всю последовательность фаз, подобных фазам Луны. Галилей написал об этом важном различии в предсказаниях двух моделей своему бывшему студенту Бенедетто Кастелли (1578–1643) и провел важнейшие наблюдения в октябре-декабре 1610 года. Вердикт был очевиден. Наблюдения окончательно подтвердили правильность прогноза Коперника, и было доказано, что Венера и в самом деле вращается вокруг Солнца. Одиннадцатого декабря шутник Галилей послал Кеплеру загадочную анаграмму «Haec immatura a me iam frustra leguntur oy» («Я это уже изучаю слишком рано, но тщетно»)[42]. Кеплер безуспешно пытался расшифровать послание и в конце концов признал свое поражение[43]. В следующем письме – от 1 января 1611 года – Галилей наконец переставляет буквы в анаграмме, и получается «Cynthiae figuras aemulatur mater amorum» («Мать любви [Венера] подражает фигурам Кинфии [Луны]»).
Рис. 17
Все вышеописанные открытия касались либо планет в Солнечной системе – небесных тел, которые вращаются вокруг Солнца и отражают его свет, – либо спутников, которые вращаются вокруг этих планет. Однако Галилей сделал и два очень важных открытия, которые касаются звезд – небесных тел наподобие Солнца, которые испускают собственный свет. Сначала он наблюдал само Солнце. По аристотелевой модели Солнце символизирует сверхъестественное совершенство и незыблемость. Представьте себе, каким потрясением было узнать, что поверхность Солнца далека от совершенства. Она покрыта пятнами, темными участками, которые то появляются, то исчезают, поскольку Солнце вращается вокруг своей оси. На рис. 18 приведены зарисовки солнечных пятен, сделанные собственноручно Галилеем. Коллега Галилея Федерико Цези (1585–1630) писал об этих рисунках, что они «приводят в восторг как изображенными на них чудесами, так и точностью исполнения». На самом деле Галилей не первым увидел пятна на Солнце и даже не первым о них написал. Один памфлет на эту тему – «Три письма о пятнах на Солнце», написанный ученым-иезуитом Кристофом Шайнером (1573–1650) – привел Галилея в такое негодование, что он твердо решил опубликовать подробный ответ. Шайнер утверждал, что пятна никак не могут быть прямо на поверхности Солнца[44]. Основывался он отчасти на том, что пятна были, по его мнению, слишком темные (он считал, что они темнее темных частей лунного диска), а отчасти на том, что они не всегда появлялись на одних и тех же местах. Поэтому Шайнер полагал, что это мелкие планеты, которые вращаются вокруг Солнца. В своем трактате «Istoria e Dimostrazioni Intorno Alle Macchie Solari» («История и демонстрация солнечных пятен») Галилей последовательно опровергает все доводы Шайнера. С дотошностью, остроумием и сарказмом, который заставил бы аплодировать стоя самого Оскара Уайльда, Галилей показал, что пятна на самом деле вообще не темные, а только кажутся темными на фоне яркой поверхности Солнца. Кроме того, работа Галилея не оставила никаких сомнений в том, что пятна находятся непосредственно на поверхности Солнца (к тому, как именно он это доказал, я еще вернусь в этой главе).
Рис. 18
Наблюдения Галилея над другими звездами были, несомненно, первыми вылазками человека в космос, лежащий за пределами Солнечной системы. Когда Галилей пытался наблюдать звезды в телескоп, то обнаружил, что изображение звезд, в отличие от Луны и планет, практически не удается увеличить. Вывод был очевиден: расстояние до звезд гораздо больше, чем до планет. Это само по себе было неожиданно, но самым фантастическим оказалось даже не это, а собственно количество относительно неярких звезд, которые можно было разглядеть в телескоп. Только на небольшом участке в окрестностях созвездия Орион Галилей насчитал целых пятьсот до того неизвестных звезд. А когда он обратил свой телескоп на Млечный Путь – полосу тусклого света, пересекающую ночное небо, – его ждал еще больший сюрприз. Даже этот яркий мазок на небе, на первый взгляд ровно окрашенный, распался на бесчисленное множество звезд, о которых никто до тех пор даже не подозревал. Вселенная внезапно расширилась. Вот как Галилей писал об этом суховатым ученым языком.
Третьим предметом нашего наблюдения была сущность – или материя – Млечного Пути. При помощи зрительной трубы ее можно настолько ощутительно наблюдать, что все споры, которые в течение стольких веков мучили философов, уничтожаются наглядным свидетельством, и мы избавимся от многословных диспутов. Действительно, Галаксия является не чем иным, как собранием многочисленных звезд, расположенных группами. В какую бы его область ни направить зрительную трубу, сейчас же взгляду представляется громадное множество звезд, многие из которых кажутся достаточно большими и хорошо заметными. Множество же более мелких не поддается исследованию.
Некоторые современники Галилея отнеслись к его открытиям с искренним восторгом. Галилею удалось воспламенить воображение и ученых, и людей, далеких от науки, по всей Европе. Шотландский поэт Томас Сегетт ликовал.
Колумб подарил человечеству земли,
которые покоряли кровопролитием,
Галилей – новые миры, которые ничем никому не грозят.
Что лучше?[45]
Сэр Генри Воттон, английский дипломат в Венеции, раздобыл экземпляр «Звездного вестника» в первый же день продаж (Curzon 2004). Он немедленно отправил книгу английскому королю Якову I, приложив письмо, где, в частности, говорилось следующее.
Настоящим сообщаю Его Величеству престраннейшее известие (я так называю его с полным правом), какое только доводилось ему получать из моей части света; заключается оно в прилагаемой книге (вышедшей не далее как сегодня), сочинил которую профессор математики из Падуи; заручившись помощью некоего оптического инструмента, он… открыл четыре новые планеты, которые вертятся вокруг сферы Юпитера, а также множество других неизвестных неподвижных звезд.
Обо всех достижениях Галилея можно написать целые тома – и они и в самом деле написаны, – однако это выходит за рамки нашей книги. Здесь же я расскажу лишь о том, как эти поразительные открытия повлияли на мировоззрение самого Галилея. В частности, посмотрим, какой ему виделась связь между математикой и огромным ширящимся космосом.
Великая книга природы
Философ науки Александр Койре (1892–1964) как-то заметил, что суть переворота, который Галилей произвел в научном мышлении, можно выразить в одной фразе: он открыл, что математика – это грамматика науки. Последователи Аристотеля довольствовались качественными описаниями природных явлений, и даже эти качественные описания обосновывали авторитетом Аристотеля, а Галилей настаивал, что ученые должны прислушиваться к самой природе, а ключ к расшифровке языка Вселенной – математические соотношения и геометрические модели. Насколько резко различаются эти подходы, видно на примере сочинений выдающихся приверженцев обеих сторон. Вот как пишет последователь Аристотеля Джорджио Корезио: «Поэтому заключим, что если человек не желает трудиться во тьме, пусть советуется с Аристотелем, великолепным толкователем природы» (Coresio 1612. Цитируется также в Shea 1972). К этому другой сторонник Аристотеля, пизанский философ Винченцо ди Грациа, добавляет следующее[46].
Прежде чем обсуждать доказательства Галилея, необходимо, пожалуй, доказать, насколько далеки от истины все те, кто желает доказывать факты, связанные с природой, средствами математических рассуждений, – если я не ошибаюсь, Галилей принадлежит именно к ним. Все науки и все искусства основаны на собственных принципах, у них есть свои причины избирать средства для доказательства тех или иных особых качеств предмета их изучения. Следовательно, нам нельзя применять принципы одной науки для доказательства свойств другой (курсив мой. – М. Л.). Поэтому всякий, кто полагает, будто может доказывать свойства природных явлений математическими средствами, попросту безумен, ведь это совсем разные науки. Естествоиспытатель изучает природные тела, которые обладают движением в своем естественном, обычном состоянии, а математик отрешен от всякого движения.
А Галилея представления, подобные идее герметической выделенности отдельных отраслей науки, приводили в настоящее бешенство. В черновике к трактату о гидростатике «Рассуждение о плавающих телах» он писал о математике как о мощном двигателе, который позволит человечеству раскрыть подлинные тайны природы (цит. у Shea 1972).
Ожидаю жесточайшего отпора со стороны одного из моих противников – так и слышу, как он кричит мне в ухо, что одно дело – исследовать что-то с точки зрения физики и совсем другое – с точки зрения математики, что геометры должны заниматься своими фантазиями и не совать нос в философские материи, где выводы делаются иначе, чем в математике. Как будто на свете может быть не одна истина, а несколько, как будто геометрия в наши дни – препятствие на пути к подлинной философии, как будто невозможно одновременно быть и философом, и геометром, и если человек знает геометрию, из этого прямо следует, что он не знает физику и не может строить умозаключений относительно физических материй, не может подходить к ним физически! Подобные выводы столь же глупы, как и рассуждения одного врача, который в припадке хандры заявил, будто великий доктор Аквапенденте [итальянский анатом Иероним Фабриций (1537–1619) из Аквапенденте], будучи знаменитым хирургом и знатоком анатомии, должен довольствоваться своими скальпелями и притираниями и не пытаться лечить больных терапевтически, словно познания в хирургии противоположны познаниям в терапии, словно одно исключает второе.
Простой пример того, как подобная разница в подходах к данным наблюдений способна полностью изменить толкование природного явления, – это открытие солнечных пятен. Как я уже упоминал, астроном-иезуит Кристоф Шайнер наблюдал эти пятна тщательно и профессионально, однако его фундаментальной ошибкой стала убежденность в аристотелевском представлении об идеальных небесах, которая целиком и полностью повлияла на его рассуждения. Впоследствии, когда Шайнер обнаружил, что пятна не возвращаются на прежние места в прежнем порядке, он тут же заявил, что способен «освободить Солнце от увечий-пятен». Твердая уверенность в незыблемости небес ограничила его воображение и помешала даже задуматься о том, что пятна могут меняться, пусть и по непонятной пока причине[47]. Поэтому он решил, что пятна – это наверняка звезды, которые вращаются вокруг Солнца, как же иначе! А Галилей повел наступление на вопрос о расстоянии пятен от поверхности Солнца совершенно иначе. Он выявил три наблюдаемых явления, нуждавшихся в объяснении: во-первых, когда пятна оказывались ближе к краю солнечного диска, они казались же, чем когда они были ближе к центру. Во-вторых, промежутки между пятнами увеличивались по мере приближения пятен к центру диска. Наконец, ближе к центру пятна двигались быстрее, чем ближе к краю. Галилей при помощи одного-единственного геометрического построения сумел показать, что гипотеза, что пятна находятся на поверхности Солнца и перемещаются вместе с ней, соответствует всем наблюдаемым фактам. Подробное объяснение, которое предложил Галилей, было основано на феномене зрительного сокращения изображения на сфере – то, что фигуры на сферической поверхности ближе к краям кажутся же и ближе друг к другу (на рис. 19 показано, как это проявляется на примере окружностей, начерченных на сферической поверхности).
Доказательство, которое предложил Галилей, оказало колоссальное воздействие на становление научного метода. Он показал, что данные наблюдений становятся осмысленными описаниями реальности только тогда, когда удается вписать их в соответствующую математическую теорию. Но если не удается истолковать их в широком теоретическом контексте, те же самые данные способны привести к ошибочным выводам.
Рис. 19
Галилей никогда не упускал возможности от души поспорить. Самое красноречивое изложение его представлений о природе математики и ее роли в естественных науках появляется в его еще одной острой публикации – трактате «Пробирных дел мастер» (Galilei 1623). Этот блестящий, мастерски написанный трактат стяжал такую славу, что папа Урбан VIII, садясь за трапезу, приказывал читать себе вслух выдержки оттуда. Парадоксально, но факт: главный тезис «Пробирных дел мастера» был откровенно ошибочным. Галилей пытался доказать, что кометы – это на самом деле оптический обман, результат особенностей отражения света на ближней стороне Луны.
История написания «Пробирных дел мастера» напоминает либретто итальянской оперы. Осенью 1618 года на небе появилось три кометы подряд. Особенно примечательной была третья – она оставалась видимой почти три месяца. В 1619 году Орацио Грасси, математик из Римской иезуитской коллегии, анонимно опубликовал памфлет о своих наблюдениях этих комет. Грасси по следам великого датского астронома Тихо Браге сделал вывод, что кометы находятся где-то между Солнцем и Луной. Памфлет прошел бы незамеченным, если бы Галилей не решил поспорить, поскольку ему сказали, что некоторые иезуиты сочли работу Грасси ударом по сторонникам Коперника. Ответил Галилей в виде лекций, которые по большей части написал он сам, а прочитал его ученик Марио Гвидуччи[48]. В печатной версии лекций «Беседы о кометах» Галилей нападает непосредственно на Грасси и Тихо Браге. На сей раз была очередь Грасси оскорбиться. Под псевдонимом Лотарио Сарси, притворившись собственным учеником, Грасси опубликовал едкий ответ, в котором критиковал Галилея прямо и недвусмысленно (ответ назывался «Астрономические и философские весы, на которых взвешиваются представления Галилео Галилея о кометах, а также соображения, которые представил во Флорентийской академии Марио Гвидуччи»). Защищая свое применение методов Тихо Браге для определения расстояний, Грасси под именем своего ученика утверждал следующее.
Предположим, мой наставник следовал методам Тихо. Разве это преступление? Кому еще надо было следовать? Птолемею [александрийскому астроному, основоположнику гелиоцентрической системы]? Шеям его последователей грозит теперь обнаженный меч Марса, который стал еще ближе. Копернику? Но всякий набожный человек скорее призовет отвернуться от него, высмеет и отринет его гипотезу, недавно осужденную. Следовательно, единственным, кого мы с радостью сделаем своим проводником среди неведомого коловращения звезд, может быть только Тихо.
Этот отрывок – прекрасная иллюстрация того, по какой тонкой грани вынуждены были ходить иезуитские математики в начале XVII века. С одной стороны, Грасси критиковал Галилея совершенно обоснованно и необыкновенно проницательно. С другой, поскольку Грасси был вынужден всеми силами отмежевываться от Коперника, он, в сущности, надел на себя смирительную рубашку, которая мешала всем его рассуждениям.
Друзья Галилея так испугались, что нападки Грасси могут подорвать авторитет Галилея, что убедили ученого ответить. Это и привео к публикации «Пробирных дел мастера» в 1623 году (подзаголовок пояснял, что это документ, «в котором с помощью особо чувствительных и точных весов будут взвешены доводы, содержащиеся в “Астрономических и философских весах” Лотарио Сарси из Сигуэнсы» (здесь и далее пер. Ю. Данилова).
Как я уже отмечал, в трактате «Пробирных дел мастер» Галилей яснее и красноречивее всего сформулировал свои представления об отношениях между математикой и Вселенной. Приведу этот замечательный отрывок.
Сдается мне, что я распознал у Сарси твердое убеждение в том, будто при философствовании необычайно важно опираться на мнение какого-нибудь знаменитого автора, словно наш разум непременно должен быть обручен с чьими-то рассуждениями, ибо в противном случае он пуст и бесплоден. Он [Сарси], по-видимому, полагает, что философия – книга чьих-то вымыслов, такая же, как «Илиада» или «Неистовый Орланд» – книги, для которых менее всего значит, истинно ли то, что в них написано. В действительности же, синьор Сарси, все обстоит не так. Философия написана в величественной книге (я имею в виду Вселенную), которая постоянно открыта нашему взору, но понять ее может лишь тот, кто сначала научиться постигать ее язык и толковать знаки, которыми она написана. Написана же она на языке математики, и знаки ее – треугольники, круги и другие геометрические фигуры, без которых человек не смог бы понять в ней ни единого слова; без них он был бы обречен блуждать в потемках по лабиринту (курсив мой. – М. Л.).
Потрясающе, правда? Галилей считал, что знает ответ на вопрос, почему математика так хорошо объясняет природу, за несколько сотен лет до того, как этот вопрос был задан! Для него математика – просто язык Вселенной. Хочешь понять Вселенную, считал Галилей, – изучи этот язык. А значит, Бог точно математик.
Полный диапазон идей, высказанных в сочинениях Галилея, рисует еще более подробную картину его представлений о математике. Во-первых, мы должны понять, что для Галилея математика, в сущности, сводилась к геометрии. Он не слишком интересовался выражением величин в абсолютных числах. Природные явления Галилей описывал в основном в терминах пропорционального соотношения тех или иных величин, относительных количеств. В этом Галилей опять же проявил себя как верный ученик Архимеда, чьи принципы рычага и метод сопоставительной геометрии Галилей применял очень широко и в полной мере. Второе, что интересно отметить, – это разграничение между ролью геометрии и логики, которое он особенно четко провел в своей последней книге. Сама эта книга – «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки» – написана в форме живых диалогов трех собеседников Сальвиати, Сагредо и Симпличио, чьи роли совершенно ясно разграничены. Сальвиати, в сущности, выразитель идей самого Галилея. Аристократ Сагредо, любитель философии, – человек, чей разум уже избавился от иллюзий аристотелевского здравого смысла, а следовательно, его можно убедить доводами новой математической науки. Симпличио же, которого в предыдущих работах Галилей описывал как бездумного приверженца Аристотеля, подавленного его авторитетом, предстает здесь как ученый широких взглядов. На второй день диспута у Сагредо с Симпличио происходит интересный разговор.
Сагредо. Что мы с вами скажем на это, синьор Симпличио? Не должны ли мы признать, что геометрия является самым могущественным средством для изощрения наших умственных способностей и дает нам возможность правильно мыслить и рассуждать? Не прав ли был Платон, требуя от своих учеников прежде всего основательного знакомства с математикой? (Здесь и далее пер. С. Долгова.)
Симпличио, по всей видимости, соглашается и приводит сравнение с логикой.
Симпличио. Действительно, я начинаю сознавать, что логика, представляющая прекрасное средство для правильного построения наших рассуждений, не может направлять мысль с изобретательностью и остротой геометрии.
Тогда Сагредо ставит вопрос острее.
Сагредо. Мне кажется, что логика учит нас познавать, правильно ли сделаны выводы из готовых уже рассуждений и доказательств; но чтобы она могла научить нас находить и строить такие рассуждения и доказательства – этому я не верю.
Что хотел сказать Галилей, очевидно: он был убежден, что геометрия – инструмент открытия новых истин. А логика была для него, напротив, средством для критики и оценки уже сделанных открытий. В главе 7 мы рассмотрим иную точку зрения, согласно которой вся математика происходит из логики.
Как же Галилей пришел к мысли, что математика – это язык природы? Ведь философские выводы подобного масштаба не возникают на пустом месте. И в самом деле, корни этой концепции можно проследить до сочинений Архимеда. Греческий наставник первым применил математику для объяснения природных явлений. А затем природа математики, пройдя извилистый путь – через руки средневековых арифметиков и итальянских придворных математиков, – завоевала наконец статус темы, достойной обсуждения. В конце концов некоторые иезуитские математики-современники Галилея, в частности Христофор Клавий, также признали, что математика, вероятно, занимает какую-то промежуточную позицию между метафизикой – философскими принципами природы бытия – и физической реальностью. В предисловии («Prolegomena») к своим «Схолиям к “Началам” Евклида» Клавий писал так.
Поскольку математические дисциплины изучают предметы, которые считаются обособленными от любой мыслимой материи, пусть ими и пронизаны материальные предметы, очевидно, что они занимают промежуточное место между метафизикой и естественными науками, если мы задумаемся об их субъекте.
Галилей не мог удовольствоваться ролью математики как простого посредника или проводника. Он сделал еще один смелый шаг – приравнял математику к родному языку Господа Бога. Однако это отождествление подняло еще одну серьезную проблему – и она оказала самое серьезное влияние на жизнь Галилея.
Наука и богословие
Согласно Галилею, Бог, создавая природу, говорил на языке математики. Согласно догматам католической церкви, Бог был «автором» Библии. Как же полагалось поступать в тех случаях, когда математически обоснованные научные объяснения явно противоречат Писанию? На Тридентском соборе 1546 года богословы дали на этот вопрос совершенно недвусмысленный ответ: «Никто не смеет толковать Священное Писание, полагаясь на собственные суждения и искажая его в соответствии с собственными представлениями, в противоположность тому смыслу, в каком понимает его Святая Матерь Церковь, которой одной пристало судить о том, каким подлинным смыслом и значением оно обладало или обладает». Соответственно, когда в 1616 году богословов попросили высказать свое мнение о гелиоцентрической космологической модели Коперника, они заключили, что это «официальная ересь, поскольку она явно во многих местах противоречит смыслу Священного Писания». Иначе говоря, на самом деле суть возражений церкви против того, что Галилей был сторонником Коперника, сводилась не столько к тому, что он сместил Землю из центра мироздания, сколько к тому, что он посягнул на единоличное право церкви толковать Писание[49]. В обстановке, когда католическая церковь и без того чувствовала себя в осаде из-за яростных споров с протестантскими теологами, Галилей и церковь неминуемо должны были столкнуться.
К концу 1613 года события стали развиваться лавинообразно. Бывший ученик Галилея Бенедетто Кастелли представил недавние астрономические открытия великому герцогу Тосканскому и его свите. Нетрудно догадаться, что от него потребовали объяснить очевидное расхождение между космологией Коперника и некоторыми библейскими текстами – например, истории о том, как Господь остановил Солнце и Луну, чтобы Иисус Навин и израильтяне окончательно победили своих врагов в долине Аиалонской. И хотя Кастелли утверждал, что «бился как настоящий воин», защищая учение Коперника, вести об этом споре несколько встревожили Галилея и он счел нужным выразить собственные представления о противоречиях между наукой и Священным Писанием. В длинном письме Кастелли, датированном 21 декабря 1613 года, Галилей пишет следующее[50].
Однако же в Священном Писании, дабы приблизить его к пониманию большинства, приходилось говорить многое такое, что на первый взгляд отличается от буквального значения. Напротив, природа неумолима и неизменна, ей все равно, доступны ли для человеческого понимания ее тайные причины и рабочие приемы, и ради этого она никогда не отклоняется от предписанных законов. Поэтому мне представляется, что никакое природное явление, которое показывает нам опыт или которое с необходимостью следует из полученных данных, не следует подвергать сомнению из-за отрывков из Писания, которые содержат тысячи слов, допускающих различное толкование, ибо каждая фраза Писания не подчиняется таким жестким законам, как каждое явление природы.
Такое толкование смысла библейских стихов с очевидностью противоречило воззрениям более прямолинейных богословов. Например, доминиканец Доминго Баньес в 1584 году писал: «Дух Святой не просто вдохновил все, что содержится в Священном Писании, он продиктовал и предложил каждое слово, которым оно написано»[51]. Галилея это, как видно, не убеждало. В своем письме Кастелли он добавил:
Я склонен думать, что авторитет Священного Писания должен убеждать людей в тех истинах, которые необходимы для их спасения, в том, что, будучи неизмеримо выше человеческого понимания, не может быть разъяснено никаким исследованием, никакими другими средствами, кроме как явлением Духа Святого. Но чтобы тот самый Бог, который даровал нам чувства, разум и понимание, не позволял нам ими пользоваться и желал познакомить нас какими-то иными способами с теми знаниями, которые мы вполне можем приобрести самостоятельно при помощи всех этих качеств, – вот в такое я, пожалуй, вовсе не обязан верить, особенно применительно к тем наукам, о которых в Священном Писании сказано лишь отрывочно и с противоречивыми выводами, а ведь именно так обстоит дело с астрономией, о которой там говорится так мало, что даже не все планеты перечислены.
Копия письма Галилея попала в Конгрегацию доктрины веры, где всегда рассматривались вопросы чистоты вероучения, а там – в руки влиятельного кардинала Роберто Беллармина (1542–1621). Поначалу кардинал Беллармин относился к учению Коперника вполне терпимо, поскольку полагал, что гелиоцентрическая модель в целом – это «возможность сохранить лицо по примеру тех, кто предложил гипотезу об эпициклах, но сам никогда не верил в их существование». Беллармин, как и многие его предшественники, также считал математические модели, выдвигаемые астрономами, просто уловками с целью описать то, что люди наблюдают, не привязываясь к физической реальности. Подобные измышления с целью «сохранить лицо», утверждал кардинал, не доказывают, что Земля на самом деле движется. Поэтому Беллармин не видел в книге Коперника «De Revolutionibus» никакой особой угрозы, хотя спешил добавить, что заявление, что Земля будто бы движется, не просто «раздражает всех схоластов, философов и богословов», но и «вредит Вере, поскольку предполагает, что Священное Писание – ложь».
Подробности остальной части этой трагической истории выходят за рамки темы нашей книги, поэтому я опишу их лишь кратко. Конгрегация Списка запрещенных книг в 1616 году запретила книгу Коперника. Дальнейшие попытки Галилея ссылаться на всевозможные отрывки из самого почитаемого раннего богослова – блаженного Августина – в поддержку своего толкования отношений между естественными науками и Писанием особой симпатии не снискали[52]. Несмотря на красноречивые послания, основной мыслью которых было отсутствие всякого несоответствия (кроме самого поверхностного) между теорией Коперника и библейскими текстами, богословы того времени считали, что Галилей своими доводами вторгается в сферу их компетенции. Впрочем, у тех же богословов хватало цинизма безо всякого стеснения высказывать мнения по научным вопросам.
Галилей понимал, что над ним сгущаются тучи, однако был убежден, что здравый смысл возобладает, а ведь когда речь заходит о вопросах религии и веры, полагаться на здравый смысл – самое гибельное заблуждение. В феврале 1632 года Галилей выпустил свой «Диалог о двух важнейших системах мира» (на рис. 20 приведен титульный лист первого издания). В этом полемическом тексте Галилей подробнейшим образом изложил свои идеи как идеи последователя Коперника. Более того, он заявил, что если люди будут заниматься естественными науками с опорой на язык механического равновесия и математики, то познают божественный разум. Иначе говоря, если человек находит решение задачи при помощи геометрических пропорций, то полученное при этом понимание и следующие из него открытия божественны. Реакция церкви была решительной и молниеносной. Уже в августе того же 1632 года «Диалог» был запрещен и изъят из продажи. В сентябре Галилея вызвали в Рим, чтобы защищаться от обвинений в ереси. Двенадцатого апреля 1633 года начался процесс, и 22 июня 1633 года был вынесен вердикт, что Галилей находится «под сильным подозрением в ереси (здесь и далее выдержки из материалов процесса в пер. И. Григулевича)». Судьи обвинили Галилея в том, что он «считает за истину и распространяет в народе лжеучение, по которому Солнце находится в центре мира неподвижно, а Земля движется вокруг оси суточным вращением».
Приговор был суровым.
Рис. 20
Мы постановили книгу под заглавием «Диалог» Галилео Галилея запретить, а тебя самого заключить в тюрьму при Св. Судилище на неопределенное время. Для спасительного же покаяния твоего предписываем, чтобы ты в продолжении 3 лет раз в неделю прочитывал 7 покаянных псалмов. Право уменьшать, изменять и отменять, вполне или отчасти, что-либо из вышеуказанных наказаний и исправлений оставляем за собою (de Santillana 1955).
Галилею было уже почти семьдесят лет, и он не смог сопротивляться подобному давлению. Дух его был сломлен, и Галилей написал письмо с отречением, в котором соглашался со всем: «…дабы я покинул ложное мнение, полагающее… будто Солнце есть центр Вселенной и неподвижно, Земля же не центр и движется». В заключение он говорит так.
Посему, желая изгнать из мыслей ваших, высокопочтенные господа кардиналы, равно как и из ума всякого истинного христианина, это подозрение, законно против меня возбужденное, от чистого сердца и с непритворной верою отрекаюсь, проклинаю, возненавидев вышеуказанную ересь, заблуждение или секту, не согласную со Cв. Церковью.
Клянусь впредь никогда не говорить и не рассуждать, ни устно, ни письменно, о чем бы то ни было, могущем восстановить против меня такое подозрение (de Santillana 1955).
Последняя книга Галилея – «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки» – вышла в июле 1638 года. Рукопись контрабандой вывезли из Италии и опубликовали в Голландии, в Лейдене. Содержание этой книги в полной мере соответствует смыслу легендарных слов «Eppur si muove» – «И все-таки она вертится». Эта мятежная фраза, которую, по преданию, Галилей пробормотал на суде, на самом деле, возможно, никогда не была произнесена.
Тридцать первого октября 1992 года католическая церковь решила наконец «реабилитировать» Галилея. Папа Иоанн Павел II признал, что Галилей все это время был прав, однако не желал прямо критиковать Инквизицию и потому выразился так.
Как ни парадоксально, Галилей, человек искренне верующий, оказался в этом вопросе [очевидные расхождения между наукой и Писанием] гораздо дальновиднее, чем его противники-богословы. Большинство теологов не понимали, что существует формальная грань между самим Священным Писанием и его толкованием, и это привело к тому, что они неоправданно переносили в поле религиозной доктрины вопрос, который на самом деле принадлежит сфере научного исследования.
Журналисты всего мира так и набросились на эту сенсацию, словно на лакомый кусок. Газета «Лос-Анджелес Таймс» провозгласила: «Теперь Земля официально вращается вокруг Солнца – даже для Ватикана». Однако не всех происходящее забавляло. Некоторым казалось, что это mea culpa церковь произнесла очень уж тихо и очень уж поздно. Испанский исследователь трудов Галилея Антонио Бельтран Мари отмечал следующее (Beltrn Mari 1994. См. также Frova and Marenzana 1998).
То обстоятельство, что Папа Римский до сих пор полагает, будто наделен авторитетом заявлять что бы то ни было о Галилее и его научных воззрениях показывает, что с точки зрения Папы ничего не изменилось. Он ведет себя совершенно так же, как и судьи на процессе Галилея, ошибку которых теперь признает.
На самом же деле следует признать, что Иоанн Павел II оказался в безвыходной ситуации. Какое бы решение он ни принял – то ли игнорировать эту проблему и оставить историю с осуждением Галилея до лучших времен, то ли признать наконец, что церковь совершила ошибку, – его все равно раскритиковали бы. И все же в наше время, когда библейский креационизм пытаются представить альтернативной «научной» теорией (под неубедительно завуалированной личиной «разумного замысла»), приятно сознавать, что Галилей уже вступил в эту битву почти 400 лет назад – и победил!
Глава 4
Волшебники: скептик и титан
В одном из семи скетчей, вошедших в фильм «Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить», Вуди Аллен играет придворного шута, который потешает средневекового короля и его свиту. Шут воспылал страстью к королеве и дает ей афродизиак, рассчитывая ее соблазнить. Королева отвечает шуту взаимностью – но увы: на ней пояс верности с огромным висячим замком. Очутившись в этой неловкой ситуации в спальне королевы, шут нервно бормочет: «Надо быстренько что-то придумать, пока не наступило Возрождение и мы все не начали писать картины!»
Шутки шутками, а эта гипербола – вполне понятное описание того, что делалось в Европе в XV и XVI веках. Эпоха Возрождения и в самом деле породила такое изобилие шедевров живописи, скульптуры и архитектуры, что и в наши дни эти поразительные произведения искусства составляют львиную долю нашей культуры. Что же касается науки, то именно в эпоху Возрождения произошла гелиоцентрическая революция в астрономии, вождями которой были Коперник, Кеплер и особенно Галилей. Новые представления о Вселенной, которое обеспечили наблюдения Галилея при помощи телескопа и открытия, которые он сделал на основе опытов по механике, возможно, послужили основным стимулом для математических открытий следующего века. Появились первые признаки крушения аристотелевской философии и сомнений в теологической идеологии церкви, и философы начали искать новый фундамент для чертогов человеческих познаний. Математика с ее определенным (на первый взгляд) корпусом незыблемых истин, казалось, была самым подходящим кандидатом на роль новой отправной точки.
Тем, кто взял на себя достаточно честолюбивую задачу открыть формулу, которая так или иначе упорядочит все рациональное мышление и объединит все познания и в науке, и в этике, стал юный французский офицер и аристократ Рене Декарт.
Мечтатель
Декарта[53] (рис. 21) принято считать и первым великим современным философом, и первым современным биологом. Если к этим внушительным титулам добавить еще то обстоятельство, что английский философ-эмпирик Джон Стюарт Милл (1806–1873) назвал одно из достижений Декарта в математике «величайшим шагом, сделанным в прогрессе точных наук за всю их историю» (Цит. по Sedgwick and Tyler 1917), начинаешь понимать, каким неизмеримо мощным интеллектом обладал Декарт.
Рис. 21
Рене Декарт родился 31 марта 1596 года во французском городе Лаэ. В честь своего самого знаменитого уроженца город в 1801 году был переименован в Лаэ-Декарт, а с 1967 года называется просто Декарт. В восемь лет Декарт поступил в иезуитскую коллегию Ла Флеш, где изучал латынь, древнегреческий язык, математику, физику и схоластическую философию до 1612 года. Поскольку Декарт был довольно слабого здоровья, ему позволялось вставать позже других, хотя его соученики поднимались ни свет ни заря – в пять часов утра. Став взрослым, он по-прежнему посвящал раннее утро размышлениям в постели и однажды признался французскому математику Блезу Паскалю, что для него единственный способ сохранять здоровье и творческие силы – это никогда не вставать, пока не захочется. Вскоре мы убедимся, что это утверждение оказалось пророческим до трагизма.
После коллегии Ла Флеш Декарт окончил университет города Пуатье и получил степень бакалавра права, однако юриспруденцией никогда не занимался. Декарт обладал пытливым умом и мечтал повидать мир, поэтому решил пойти на службу в армию принца Морица Оранского, которая тогда стояла в городе Бреда в Соединенных Провинциях (в Нидерландах). Именно в городе Бреда произошла случайная встреча, которая оказала сильнейшее воздействие на интеллектуальное развитие Декарта. Легенда гласит, что Декарт гулял по улицам и вдруг увидел доску, на которой была написана какая-то трудная математическая задача. Декарт попросил первого встречного перевести текст с голландского либо на латынь, либо на французский. Несколько часов спустя Декарт сумел решить задачу, тем самым доказав самому себе, что и вправду обладает определенными способностями к математике. А прохожий-переводчик оказался не кем иным, как голландским математиком и физиком Исааком Бекманом (1588–1637), влияние которого на физико-математические изыскания Декарта ощущалось еще много лет[54]. Следующие девять лет Декарт провел в метаниях между бурной парижской жизнью и службой в нескольких армиях. В Европе, терзаемой религиозными и политическими распрями, в самом начале Тридцатилетней войны Декарту было довольно просто находить себе битвы и присоединяться к батальонам на марше, будь то в Праге, Германии или Трансильвании. Однако в этот же период, по собственному выражению, он «с головой погрузился в изучение математики».
Десятого ноября 1619 года Декарту приснилось три сна, которые не просто оказали колоссальное воздействие на всю его оставшуюся жизнь, но и, возможно, знаменовали зарю современного мира[55]. Впоследствии, описывая эти события, Декарт писал в записных книжках: «Я был полон восторга и открыл основы изумительной науки». О чем же были эти судьбоносные сны?
На самом деле два из трех снов были страшные. В первом сне Декарт попал в сильнейшую бурю, и ветер развернул его, заставив крутануться на левой пятке. Кроме того, Декарта очень пугало непреходящее ощущение, что при каждом шаге он может упасть. Появился какой-то старик и попытался подарить ему заморскую дыню. Второй сон тоже был кошмаром. Декарт оказался запертым в комнате, кругом били зловещие молнии и летали искры. Третий сон представлял собой резкий контраст с первыми двумя – это была картина спокойного сосредоточенного размышления. Декарт осматривал комнату и видел, как на столе то появляются, то исчезают книги. В числе прочего там появился поэтический сборник под названием «Corpus Poetarum» и энциклопедия. Декарт открыл сборник наугад и увидел первую строку стихотворения римского поэта Авсония, жившего в IV веке. Строка гласила: «Quod vitae sectabor iter?» – «Какую дорогу в жизни мне избрать?» Словно бы из ниоткуда появился загадочный незнакомец и процитировал другую фразу – «Est et non» («Да и нет» или «Существует или нет»). Декарт хотел показать ему строку Авсония,но тут видение развеялось.
Как часто бывает со снами, подлинная их ценность состоит не в непосредственном содержании, которое бывает причудливым и запутанным, а в интерпретации, которую предпочитает дать им сам сновидец. В случае Декарта три загадочных сна привели к потрясающим последствиям. Декарт решил, что энциклопедия символизирует коллективное научное знание, а поэтический сборник – философию, откровение и энтузиазм. «Да и нет» – одну из знаменитых противоположностей Пифагора – он истолковал как истинное и ложное. (Что касается дыни, то неудивительно, что некоторые психоаналитические интерпретации предполагают эротические ассоциации с ней.) Декарт был совершенно уверен, что сны подталкивают его в направлении унификации всего корпуса человеческих знаний посредством логических рассуждений. В 1621 году он подал в отставку, однако продолжил путешествовать и изучать математику в течение еще пяти лет. Все, с кем он в то время встречался, в том числе влиятельный духовный лидер кардинал Пьер де Берюль (1575–1629), приходили в восхищение от остроты и ясности его ума. Многие уговаривали Декарта обнародовать его соображения. Будь на месте Декарта другой молодой человек, подобные мудрые отеческие советы оказали бы на него такое же воздействие, как лаконичная профориентация «Пластмассы!» на героя Дастина Хоффмана из фильма «Выпускник», однако Декарт был непохож на других. Поскольку он уже поставил перед собой цель искать истину, убедить его оказалось легко. Он переехал в Голландию, где в то время была относительно спокойная обстановка, способствующая интеллектуальным занятиям, и в течение следующих 20 лет выпускал одну гениальную книгу за другой.
Рис. 22
Первый свой шедевр об основах науки – «Рассуждение о методе, чтобы хорошо направлять свой разум и отыскивать истину в науках» – Декарт опубликовал в 1637 году (на рис. 22 приведен титульный лист первого издания). К этому трактату он написал три поразительных приложения – об оптике, метеорологии и геометрии. Затем вышла работа по философии – «Размышления о первой философии» (1641) и по физике – «Первоначала философии» (1644). К этому времени Декарт уже прославился по всей Европе, и среди его почитателей и корреспондентов была, например, принцесса-изгнанница Елизавета Богемская (1618–1680). В 1649 году Декарт получил приглашение обучать философии саму королеву Кристину Шведскую (1626–1689) – фигуру весьма колоритную. У Декарта всегда была слабость к особам голубой крови, и он согласился. Более того, его письмо к королеве было так полно восхищенных слов, подобающих придворному XVII века, что сегодня его невозможно читать без усмешки: «Осмелюсь возразить Ее Величеству, что она не в силах отдать мне приказание столь трудное, чтобы я не был всегда готов сделать все возможное, дабы исполнить его, и что будь я даже шведом или финном по рождению, я не мог бы проявить большего рвения и лучше подходить для служения Вам». Двадцатитрехлетняя королева, отличавшаяся стальным характером, потребовала, чтобы Декарт наставлял ее в философии ни свет ни заря – в пять часов утра. В стране, где было так холодно, что, как писал Декарт другу, даже мысли замерзали, это оказалось смертельно[56]. «Я здесь не в своей стихии, – писал Декарт, – и желаю только отдыха и покоя, а эти блага не могут подарить тебе даже самые могущественные короли на свете, если ты сам не в состоянии их себе обеспечить». Декарт всего несколько месяцев сражался с суровой шведской зимой темными утренними часами, чего умудрялся избегать всю жизнь, а потом подхватил воспаление легких. И умер в возрасте пятидесяти трех лет 11 февраля 1650 года в четыре часа утра, словно хотел уклониться от очередной побудки. Человек, чьи труды знаменовали начало современной эпохи, пал жертвой собственного снобизма и капризов юной королевы.
Рис. 23
Декарт был похоронен в Швеции, однако в 1667 году его останки частично перевезли во Францию. Там их несколько раз переносили с места на место[57], но в конце концов похоронили 26 февраля 1819 года в одной часовне собора Сен-Жермен-де-Пре. На рис. 23 мое фото рядом с простой черной мемориальной доской, установленной в честь Декарта. Череп, считавшийся черепом Декарта, переходил в Швеции из рук в руки, пока его не приобрел химик по фамилии Берцелиус, который перевез его во Францию. Теперь череп хранится в Музее естественных наук – филиале Музея человека в Париже. Его часто выставляют в витрине напротив черепа неандертальца.
Что значит «современный»
Когда на человека вешают ярлык «современный», то обычно имеют в виду, что он из тех, кто способен спокойно общаться со своими собратьями по профессии, живущими в ХХ, а теперь уже и в XXI веке. Подлинно современным человеком Декарта делает то, что он осмелился подвергнуть сомнению все философские и научные утверждения, сделанные до него[58]. Как-то раз он отметил, что образование лишь усилило его растерянность и заставило осознать собственное невежество. В своем прославленном «Рассуждении о методе» Декарт писал: «О философии скажу одно: …в течение многих веков она разрабатывается превосходнейшими умами и, несмотря на это, в ней доныне нет положения, которое не служило бы предметом споров и, следовательно, не было бы сомнительным (здесь и далее цитаты из “Рассуждения о методе” даны в пер. Г. Слюсарева и А. Юшкевича)». Хотя судьба многих философских идей самого Декарта свидетельствует о таких же существенных недочетах в его предпосылках, на которые указывали более поздние философы, освежающий скептицизм, с которым он относился даже к самым основным понятиям, делает его, конечно, современным до мозга костей. Однако главное для нашей книги даже не это: Декарт понимал, что методы и процесс рассуждений в математике приводит именно к той определенности, которой так не хватало схоластической философии прежних времен[59]. Он недвусмысленно провозглашал следующее:
Те длинные цепи выводов, сплошь простых и легких, которыми геометры обычно пользуются, чтобы дойти до своих наиболее трудных доказательств, дали мне возможность представить себе, что и все вещи, которые могут стать для людей предметом знания, находятся между собой в такой же последовательности (курсив мой. – М. Л.). Таким образом, если воздерживаться от того, чтобы принимать за истинное что-либо, что таковым не является, и всегда соблюдать порядок, в каком следует выводить одно из другого, то не может существовать истин ни столь отдаленных, чтобы они были недостижимы, ни столь сокровенных, чтобы нельзя было их раскрыть.
В некотором смысле это смелое заявление идет даже дальше воззрений Галилея. Не только физическая Вселенная написана на языке математики – логике математики следует все человеческое знание. По словам Декарта: «Я убежден, что она [математика] превосходит любое другое знание, переданное нам людьми, так как она служит источником всех других знаний» (Пер. М. Гранцева). Поэтому одной из целей Декарта стало продемонстрировать, что мир физики, который для него был реальностью, подлежащей математическому описанию, можно изобразить, не полагаясь на чувственное восприятие, которое так часто нас подводит. Он настаивает, что разум должен тщательно просеивать все то, что видит глаз, и обращать восприятие в идеи. В конце концов, утверждал Декарт, «сон никогда не может быть отличен от бодрствования с помощью верных признаков» (Здесь и далее цитаты из «Размышлений о первой философии» даны в переводе С. Шейнман-Топштейн). Однако Декарт задавался и таким вопросом: если все, что мы воспринимаем как реальность, на самом деле только сон, откуда мы знаем, что и Земля, и небо – не своего рода «сонный обман», который наслал на наши чувства некий «злобный демон, наделенный беспредельным могуществом»? Или, как выразился однажды Вуди Аллен: «Вдруг все лишь иллюзия и ничего на самом деле не существует? В таком случае я, конечно, переплатил за ковер».
Этот шквал болезненных сомнений и привел Декарта к формулировке его самого знаменитого принципа: «Cogito ergo sum» – «Я мыслю, следовательно, существую»[60]. Иначе говоря, за любыми мыслями обязательно стоит сознание. Как ни парадоксально, в самом акте сомнений сомневаться нельзя! На этом довольно шатком основании Декарт попытался построить полный алгоритм поиска надежных знаний. Декарт вплотную занимался всем, что его интересовало, – философией, оптикой, механикой, медициной, эмбриологией, метеорологией – и везде оставил свой значительный след. И все же, несмотря на убежденность в способности человека строить причинно-следственные связи, Декарт не считал, что фундаментальные открытия можно совершать при помощи одной лишь логики. В сущности, он пришел к тому же выводу, что и Галилей: «Я заметил, что в логике ее силлогизмы и большинство других правил служат больше для объяснения другим того, что нам известно, или… учат тому, чтобы говорить, не задумываясь о том, чего не знаешь, вместо того чтобы познавать это». Декарт пошел другим путем и, поставив перед собой поистине героическую цель заново изобрести или заложить основы целых научных дисциплин, попытался применить принципы, которые он получил при помощи математического метода, чтобы точно знать, что он на верном пути. Эти строгие законы он описал в своих «Правилах для руководства ума». Начинать надо с истин, в которых нет никаких сомнений (подобно аксиомам в евклидовой геометрии), трудные задачи следует разбивать на более простые, переходить от зачаточного к сложному и дважды проверять всю процедуру, дабы убедиться, что не было упущено ни одного возможного решения. Нет нужды говорить, что даже столь тщательно выстроенный и строгий процесс не обеспечил выводам Декарта полную безошибочность. Более того, хотя Декарт прославился в основном колоссальными прорывами в философии, именно его достижения в математике сохраняют актуальность и по сей день. Расскажу об одной его идее, простой, как все гениальное. Это ее Джон Стюарт Милл назвал «величайшим шагом, сделанным в прогрессе точных наук за всю их историю».
Математика карты Нью-Йорка
Рис. 24
Взгляните на фрагмент карты Манхэттена на рис. 24. Если вы стоите на углу Тридцать четвертой улицы и Восьмой авеню, а у вас назначено свидание на углу Пятьдесят девятой улицы и Пятой авеню, найти дорогу не составит труда, верно? Именно в этом и заключалась идея новой геометрии по Декарту. Он снабдил свое «Рассуждение о методе» приложением «Геометрия» объемом в 106 страниц[61]. Трудно поверить, что эта поразительно простая концепция совершила настоящую революцию в математике. Начал Декарт с почти что тривиального факта: как показывает карта Манхэттена, пара чисел однозначно определяет положение точки на плоскости (например, точка А на рис. 25, а). Затем, опираясь на этот факт, Декарт разработал мощную теорию кривых – аналитическую геометрию. В честь Декарта пара перпендикулярных прямых, которая дает нам систему отсчета, получила название «Декартова система координат». По традиции горизонтальную линию называют «ось х», вертикальную – «ось у», а точку их пересечения – «начало координат». Например, точка, обозначенная А на рис. 25, а, имеет координаты х = 3 и у = 5, что принято обозначать упорядоченной парой чисел (3, 5) (обратите внимание, что начало координат обозначается (0, 0)). А теперь предположим, что мы хотим как-то охарактеризовать все точки на плоскости, которые находятся на расстоянии ровно 5 единиц от начала координат. Разумеется, это и есть геометрическое определение окружности с центром в начале координат и с радиусом в 5 единиц (рис. 25, b). Если вы возьмете точку (3, 4) на этой окружности, то окажется, что ее координаты удовлетворяют равенству 32 + 42 = 52. Более того, легко показать (при помощи теоремы Пифагора), что координаты (x, y) любой точки этой окружности удовлетворяют равенству х2 + у2 = 52. Но и этого мало: точки на окружности – это единственные точки на плоскости, для которых верно уравнение х2 + у2 = 52. Это значит, что алгебраическое уравнение х2 + у2 = 52 характеризует окружность точно и однозначно. Иначе говоря, Декарт открыл[62] способ выразить геометрическую кривую алгебраическим уравнением или численно – и наоборот. Наверное, когда речь идет просто об окружности, кажется, будто в этом нет ничего особенно интересного, однако все на свете графики – будь то недельные колебания фондовой биржи, температура на Северном полюсе за последние сто лет или темп расширения Вселенной – основаны на гениальной идее Декарта. Алгебра и геометрия внезапно перестали быть двумя независимыми отраслями математики и превратились в два представления одних и тех же истин. Уравнение, описывающее кривую, неявно содержит все мыслимые свойства этой кривой, в том числе, например, все теоремы евклидовой геометрии. Но и это еще не все. Декарт показал, что если начертить в одной и той же системе координат разные кривые, то точки их пересечения задаются общими решениями соответствующих алгебраических уравнений. Таким образом Декарт сумел задействовать мощности алгебры, чтобы исправить неприятные недостатки классической геометрии. Например, Евклид определял точку как сущность, не имеющую ни частей, ни величины. Это довольно темное определение навсегда кануло в забвение, когда Декарт определил точку на плоскости просто как упорядоченную пару чисел (x, y). Но даже эти открытия – всего лишь верхушка айсберга. Если две переменные величины x и y можно соотнести таким образом, чтобы каждому значению х соответствовало одно и только одно значение у, они составляют так называемую функцию, а функции воистину вездесущи. Когда вы отслеживаете уменьшение веса во время диеты, рост вашего ребенка в дни рождения или зависимость расхода топлива от скорости вождения, все эти данные можно выразить в виде функций.
Рис. 25
Функции – это хлеб насущный современных физиков, статистиков и экономистов. Если много повторяющихся научных экспериментов или наблюдений дают одни и те же функциональные соотношения, то они иногда получают почетное звание законов природы – математических правил поведения, которым, оказывается, подчиняются все природные явления. Например, закон всемирного тяготения Ньютона, к которому мы еще вернемся в этой главе, гласит, что если расстояние между двумя точечными массами удвоить, то сила притяжении между ними всегда уменьшается в четыре раза. Таким образом, идеи Декарта открыли дверь систематической «математизации» практически всего чего угодно – вот она, самая суть идеи, что Бог – математик. С чисто математической точки зрения, установив эквивалентность двух отраслей математики, алгебры и геометрии, которые, как полагали раньше, вообще не связаны друг с другом, Декарт расширил горизонты математики и проложил дорогу современному анализу, который позволяет математикам безо всякого труда переходить от одной математической субдисциплины к другой. Таким образом, математика не просто получила возможность описывать широкий диапазон явлений, но и сама по себе стала шире, богаче и всеохватнее. Как выразился великий математик Жозеф-Луи Лагранж (1736–1813): «Пока алгебра и геометрия следовали разными путями, прогресс их был медленным, а область применения ограниченной. Однако когда эти две науки объединились, то напитались свежими соками друг от друга и с тех пор бодро шагают к совершенству».
Несмотря на все важнейшие достижения Декарта в математике, сфера его научных интересов математикой не ограничивалась. Он говорил, что наука – будто дерево: корни ее – метафизика, ствол – физика, а три основные ветви –механика, медицина и мораль. Выбор ветвей может поначалу показаться неожиданным, но на самом деле ветви прекрасно символизируют три главные области, в которых Декарт хотел применить свои новые идеи: Вселенная, человеческий организм и человеческое поведение. Первые четыре года своего пребывания в Голландии – с 1629 по 1633 – Декарт писал трактат по физике и космологии «Мир» («Le Monde»)[63]. Однако, когда книга была уже готова к печати, Декарт получил крайне неприятные известия. В письме к своему другу и критику естествоиспытателю Марену Мерсенну (1588–1648) он жаловался.
Я собирался послать вам мой «Мир» в подарок на Новый год, и еще две недели назад я был полон решимости отправить вам хотя бы часть, если всю книгу не удастся напечатать вовремя. Однако вынужден сказать, что за это время я взял на себя труд поинтересоваться в Лейдене и Амстердаме, можно ли там достать «Диалог о двух системах мира» Галилея, поскольку я вроде бы слышал, что его напечатали в Италии в минувшем году. Мне сообщили, что его и вправду напечатали, однако весь тираж немедленно сожгли в Риме, а самого Галилея отдали под суд и заключили в тюрьму. Я пришел в такой ужас, что едва не решил сжечь все свои бумаги или по крайней мере сделать так, чтобы их никто не увидел. Ведь я не мог даже помыслить, чтобы Галилей – итальянец и, насколько я понимаю, в добрых отношениях с Папой – был обвинен в преступлении по какой бы то ни было причине, кроме того, что он попытался, а так, несомненно, и было, заявить, что Земля движется. Я знаю, что эту точку зрения уже осудили некоторые кардиналы, но, кажется, слышал, что о ней все равно публично рассуждают в Риме. Должен признать, что если это представление ложно, значит, ложны и все основные принципы моей философии (курсив мой. – М. Л.), ведь его можно легко вывести из них. И оно так тесно вплетено в каждую фразу моего трактата, что я не могу убрать его, не нанеся ущерба всей работе. Однако я ни за что на свете не хотел бы публиковать книгу, в которой даже одно-единственное слово вызвало бы неодобрение церкви, поэтому предпочел отозвать трактат из печати, лишь бы не выпускать его в изуродованном виде.
От идеи публиковать «Мир» Декарт и вправду отказался (правда, незавершенная рукопись все же увидела свет в 1664 году), однако большинство результатов включил в свои «Первоначала философии», которые вышли в 1644 году. В этом систематическом рассуждении Декарт сформулировал свои законы природы и теорию вихрей. Два из этих законов сильно напоминают знаменитые Первый и Второй законы Ньютона, но остальные, в сущности, неверны[64]. Согласно теории вихрей, Солнце находится в эпицентре смерча, возникшего в вечной вселенской материи. Планеты вращаются в этом вихре, словно листья в речном водовороте. В свою очередь, планеты формируют свои вторичные вихри, которые движут спутниками. Хотя теория вихрей Декарта – это полнейшее заблуждение (на что беспощадно указывал впоследствии Ньютон), она все равно вызвала интерес, поскольку это была первая серьезная попытка сформулировать теорию Вселенной в целом, основанную на тех же законах, что действуют на поверхности Земли. Иначе говоря, для Декарта не было разницы между явлениями земными и небесными: Земля для него была частью Вселенной, подчиняющейся единым физическим законам.
К сожалению, Декарт нарушил собственные принципы и не заложил в основу своей подробной теории ни непротиворечивой математической модели, ни наблюдательных данных. Тем не менее сценарий Декарта, по которому Солнце и планеты так или иначе возмущали однородную материю Вселенной вокруг них, содержал некоторые элементы, которые значительно позднее стали краеугольным камнем теории гравитации Эйнштейна. Согласно эйнштейновой общей теории относительности, гравитация – это не какая-то загадочная сила, которая действует на огромных пространствах космоса. Правильнее сказать, что массивные тела вроде Солнца искажают пространство вокруг себя: примерно так же батут провиснет, если положить на него увесистый шар для боулинга. А планеты просто движутся в этом искаженном пространстве по кратчайшим возможным траекториям.
Я преднамеренно исключил из этого крайне сжатого изложения идей Декарта практически все его фундаментальные философские идеи, поскольку это увело бы нас слишком далеко от природы математики (о его представлениях о Боге мы еще поговорим в этой главе). Однако я не могу устоять перед искушением процитировать здесь забавное замечание английского математика Уолтера Уильяма Роуза Болла (1850–1925), сделанное в 1908 году:
Что касается его [Декарта] философских теорий, достаточно сказать, что он разбирал те же вопросы, которые обсуждались последние две тысячи лет – и, вероятно, с тем же жаром будут обсуждаться еще две тысячи лет. Едва ли стоит упоминать, что сами эти вопросы очень важны и интересны, однако на них так и не было дано никаких ответов по существу, которые можно было бы строго доказать либо опровергнуть: удается разве что сделать то или иное объяснение более или менее вероятным, и всякий раз, когда философ вроде Декарта полагал, что он наконец-то дал окончательный ответ на какой-то вопрос, у его последователей оставалась возможность указать на логические несообразности в его аргументации. Я где-то читал, что философия всегда занималась в основном взаимоотношениями Бога, Человека и Природы. Первыми философами были древние греки, которые в основном занимались отношениями Бога и Природы, а с Человеком разбирались отдельно. Христианская церковь была так поглощена отношениями Бога и Человека, что полностью пренебрегала Природой. Наконец, современные философы озабочены главным образом отношениями Человека и Природы. Насколько точно подобное историческое обобщение представлений, превалировавших в различные эпохи, я сейчас обсуждать не хочу, однако та часть этого утверждения, которая относится к современной философии, обозначает все недостатки сочинений Декарта.
Свой трактат о геометрии Декарт завершает следующими словами: «И я надеюсь, что наши потомки будут благодарны мне не только за то, что я здесь разъяснил, но и за то, что мною было добровольно опущено, с целью предоставить им самим удовольствие найти это» (рис. 26). Он и представить себе не мог, что человек, которому в год его, Декарта, смерти сравнялось всего восемь лет, продвинет его представления о математике как о сердце науки далеко вперед. Этот непревзойденный гений, пожалуй, имел возможность получить «удовольствие найти это» столько раз, сколько не выпадало на долю больше никому за всю историю человечества.
Рис. 26
И стал свет
Великому английскому поэту XVIII века Александеру Поупу (1688–1744) в год смерти Ньютона исполнилось тридцать девять лет (на рис. 27 изображена могила Ньютона в Вестминстерском аббатстве)[65]. Поуп попытался подвести итог достижениям Ньютона в своей известной эпиграмме.
Был этот мир извечной тьмой окутан.
«Да будет свет!» – И вот явился Ньютон.
(Пер. С. Маршака).
Спустя почти сто лет после смерти Ньютона лорд Байрон (1788–1824) вписал в свою эпическую поэму «Дон Жуан» следующие строки.
Впервые от Адамовых времен
О яблоке разумное сужденье
С паденьем и с законом тайных сил
Ум смертного логично согласил.
(Пер. Т. Гнедич)
Рис. 27
В глазах последующих поколений ученых Ньютон и в самом деле был и остается фигурой мифологического масштаба, пусть даже и опровергавшей эти самые мифы. Знаменитые слова Ньютона «Если я и видел дальше других, то лишь потому, что стоял на плечах гигантов» зачастую приводят как образец смирения и великодушия, с которыми ученые должны судить о величайших своих открытиях. Но на самом деле Ньютон, вероятно, вложил в эту фразу завуалированный сарказм – она содержится в ответе на письмо человека, которого он считал своим заклятым научным врагом: это был плодовитый физик и биолог Роберт Гук (1635–1703)[66]. Гук не раз и не два обвинял Ньютона в том, что тот крадет у него идеи – сначала по теории света, затем по теории всемирного тяготения. Двадцатого января 1676 года Гук избрал более миролюбивый тон и в личном письме к Ньютону объявил: «И ваши рассуждения, и мои [касательно теории света], думается мне, направлены на одно и то же, то есть на открытие истины, и я полагаю, что оба мы вполне способны вытерпеть возражения». Ньютон решил сыграть в его игры. В своем ответе на письмо Гука, датированном 5 февраля 1676 года, он писал[67]: «Декарт сделал хороший шаг вперед [речь идет о декартовой теории света]. Вы сделали несколько важных дополнений, в особенности – подвергнув философскому осмыслению цвета тонких пластин. Если я и видел дальше других, то лишь потому, что стоял на плечах гигантов». Поскольку Гук был далеко не гигантом, а, наоборот, коротышкой и к тому же сильно сутулился, самая знаменитая цитата из Ньютона вполне могла означать попросту, что Гуку он решительно ничем не обязан! К тому же Ньютон никогда не упускал случая поддеть Гука, утверждал, что его теория не оставила камня на камне «от всего, что он [Гук] говорил», и отказывался публиковать собственную книгу о свете – «Оптику» – до смерти Гука. Все это свидетельствует о том, что такое толкование его высказывания имеет полное право на существование. Однако когда дело дошло до теории всемирного тяготения, вражда между учеными достигла кульминации[68]. Когда Ньютон услышал, что Гук претендует на авторство закона всемирного тяготения, его обуяла такая жажда мщения, что он педантично искоренил любые упоминания о Гуке из последней части своей книги по этому вопросу. Двадцатого июня 1668 года Ньютон так писал своему другу астроному Эдмонду Галлею (1656–1742).
Ему [Гуку] лучше было бы отказаться от этого дела, потому что он неспособен сделать его. Ведь по его словам совершенно ясно, что он не понимал, что с этим делать. Разве это не чудовищно? Математики, которые все выясняют, согласуют и вообще делают все дело, должны довольствоваться тем, что они всего лишь сухие вычислители и поденщики, а этот, который не делает ничего, только притворяется и сует свой нос куда попало, получит славу за все изобретения как своих последователей, так и всех, кто был до него.
Ньютон совершенно недвусмысленно указал, почему он считал, что у Гука нет никаких заслуг: Гук не умел формулировать свои идеи на языке математики. И в самом деле, то качество, которое, собственно, и выделяет теории Ньютона из общего ряда, та присущая им особенность, которая и превращает их в нерушимые законы природы, – это и есть тот самый факт, что все они выражены на кристально ясном, самосогласованном языке математических уравнений. А теоретические идеи Гука, напротив, при всей своей – во многих случаях – изобретательности, выглядели всего лишь как собрание подозрений, домыслов и натяжек[69].
Кстати, в феврале 2006 года были обнаружены рукописные протоколы заседаний Королевского общества с 1661 по 1682 год, которые долгое время считались утраченными. Рукописи, содержащие более 520 страниц, начертанных рукой самого Гука, были обнаружены в одном доме в Гемпшире, где, видимо, последние полвека хранились в буфете. В протоколах за декабрь 1679 года речь идет о переписке между Гуком и Ньютоном, где они обсуждали эксперимент, который подтверждал бы, что Земля вращается.
Ньютон – вернемся к его научной стратегии – опирался на концепцию Декарта, гласящую, что Вселенную можно описать математически, и превратил ее в рабочую реальность. В предисловии к своему фундаментальному труду «Математические начала натуральной философии» («Philosophiae Naturalis Principia Mathematica» или просто «Principia») он провозгласил следующее[70].
…Сочинение это нами предлагается как математические основания физики. Вся трудность физики, как будет видно, состоит в том, чтобы по явлениям движения распознать силы природы, а затем по этим силам объяснить остальные явления. Для этой цели предназначены общие предложения, изложенные в книгах первой и второй. В третьей же книге мы даем пример вышеупомянутого приложения, объясняя систему мира, ибо здесь из небесных явлений, при помощи предложений, доказанных в предыдущих книгах, математически выводятся силы тяготения тел к Солнцу и отдельным планетам. Затем по этим силам, также при помощи математических предложений, выводятся движения планет, комет, Луны и моря (здесь и далее пер. А. Крылова).
Как только мы поймем, что Ньютон в своих «Началах» и в самом деле выполнил все обещания, которые дал в предисловии, остается только ахнуть от восхищения. Очевиден также намек на превосходство сочинения Ньютона над трудами Декарта: Ньютон решил назвать свою книгу «Математические начала» в пику «Первоначалам философии» Декарта. Того же метода математических рассуждений Ньютон придерживается и в своем трактате, в большей степени основанном на экспериментальных данных – в книге о свете «Оптика» (Newton 1730). Он открывает книгу следующим предуведомлением: «Мое намерение в этой книге – не объяснять свойства света гипотезами, но изложить и доказать их рассуждением и опытами. Для этого я предпосылаю следующие определения и аксиомы (здесь и далее пер. С. Вавилова)». И далее излагает свои мысли так, словно пишет книгу о евклидовой геометрии – дает краткие описания и утверждения. Затем, в конце книги, Ньютон еще раз подчеркивает: «Как в математике, так и в натуральной философии исследование трудных предметов методом анализа всегда должно предшествовать методу соединения».
Мастерство, с которым Ньютон владел математическим аппаратом, иначе как чудесным не назовешь. Этот гений, по странному историческому совпадению родившийся в год смерти Галилея, сформулировал фундаментальные законы механики, расшифровал законы, описывающие движение планет, заложил теоретическую основу явлений света и цвета, а также основы интегрального и дифференциального исчисления. Одних этих достижений было бы достаточно, чтобы отвести Ньютону почетное место в галерее самых выдающихся ученых. Однако на первое место на пьедестале почета волшебников – на месте, отведенном для величайшего ученого всех времен и народов – его поставили именно труды по гравитации. Эти труды заполнили пропасть между Землей и небесами, позволили свести воедино астрономию и физику и поместили всю Вселенную под один математический «зонтик». Как же появился на свет этот шедевр – «Начала»?
Я задумался о том, что тяготение простирается до самой Луны
Уильям Стьюкли (1687–1765), врач и антиквар, друг Ньютона (несмотря на почти сорокалетнюю разницу в возрасте), впоследствии стал первым биографом великого ученого. В своих «Мемуарах о жизни сэра Исаака Ньютона» («Memoirs of Sir Isaac Newton’s Life» он рассказал нам одну из самых знаменитых легенд в истории науки[71].
Пятнадцатого апреля 1726 года я навестил сэра Исаака в его квартире в доме Орбелла в Кенсингтоне, и мы с ним пообедали и провели целый день вдвоем… После обеда, поскольку погода стояла теплая, мы вышли в сад попить чаю в тени яблонь – только он и я. Помимо всего прочего, он рассказал мне, что идея всемирного тяготения пришла ему в голову точно в таких же обстоятельствах, только значительно раньше [в 1666 году, когда Ньютон приехал из Кембриджа домой из-за эпидемии]. Это было связано с падением яблока, когда Ньютон сидел в задумчивости. И он подумал: почему яблоко всегда падает перпендикулярно земле? Почему оно летит не вбок и не вверх, но всегда только к центру Земли? Несомненно, причина в том, что Земля его притягивает. Должно быть, в веществе заключена какая-то притягательная сила, причем сумма притягательной силы вещества Земли сосредоточена, как видно, в центре Земли, а не с какой-то ее стороны. Именно поэтому яблоко падает перпендикулярно, то есть к центру. Таким образом, если вещество притягивает вещество, это должно быть пропорционально его количеству. Поэтому и яблоко притягивает Землю, как и Земля – яблоко. То есть существует сила, которую мы зовем тяготением, которая распространяется через всю Вселенную… Таково было рождение этих поразительных открытий, благодаря чему он выстроил философию на прочном фундаменте, к вящему изумлению всей Европы.
Когда произошла легендарная история с яблоком – именно в 1666 году или нет, – в сущности, неважно; главное – эта легенда сильно недооценивает гениальность и уникальную глубину аналитического мышления Ньютона[72].
Хотя нет никаких сомнений, что первую свою рукопись о теории гравитации Ньютон написал до 1669 года, ему не нужно было своими глазами увидеть падение яблока, чтобы понять, что Земля притягивает тела вблизи своей поверхности. Да и формулировка закона всемирного тяготения не могла опираться исключительно на зрелище падающего яблока. Более того, многое указывает, что некоторые важнейшие понятия, без которых Ньютон не мог заявить о существовании универсальной силы тяготения, сложились лишь к 1684–85 годам. Идеи такого масштаба в анналах науки столь редки, что даже человек феноменального интеллекта – такой как Ньютон – мог прийти к ней лишь посредством длинной цепочки интеллектуальных шагов.
Все началось, вероятно, еще в юности Ньютона, при крайне неудачном знакомстве с «Началами» Евклида, объемистым трактатом по геометрии[73]. По признанию самого Ньютона, сначала он «читал только формулировки теорем», поскольку, по его мнению, они были до того очевидны, что он «не понимал, кому может быть интересно писать для них доказательства». Первой теоремой в трактате, которая заставила его задуматься и написать несколько строчек рассуждений, была теорема о том, что «в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен квадратам двух других сторон» – теорема Пифагора. Как ни странно, хотя Ньютон во время обучения в Колледже Св. Троицы в Кембридже читал книги по математике, многие работы, доступные в его время, прошли мимо него. Очевидно, они ему были просто не нужны!
Пожалуй, самое сильное влияние на направление математической и научной мысли Ньютона оказала именно «Геометрия» Декарта. Ньютон прочитал ее в 1664 году и перечитывал несколько раз, пока «постепенно не овладел всем ее содержанием». Идея функций и их свободных переменных обеспечивала гибкость, которая и открыла перед Ньютоном поистине безграничные возможности. Аналитическая геометрия не только проложила Ньютону путь к дифференциальному и интегральному исчислению, а тем самым и к изучению свойств функций, их графиков и касательных к ним – она воспламенила у Ньютона исследовательский дух. Позади остались занудные построения при помощи циркуля и линейки – на смену им пришли произвольные кривые, выраженные алгебраически. Затем, в 1665–66 годах, на Лондон обрушилась страшная эпидемия чумы. Когда количество жертв за неделю достигло нескольких тысяч человек, колледжи Кембриджа пришлось закрыть. Ньютон был вынужден оставить занятия и вернуться домой в далекую деревушку Вулсторп. Там, в сельской тиши, Ньютон предпринял первую попытку доказать, что сила, которая удерживает Луну на орбите вокруг Земли, и тяготение Земли – та самая сила, из-за которой падают яблоки, – на самом деле одно и то же. Ньютон описал свои первые подступы к закону всемирного тяготения в заметке, написанной около 1714 года[74].
И вот в том же [1666] году я задумался о силе тяготения, которая простирается до самой орбиты Луны, и, обнаружив, как рассчитать силу, с которой шар, вращающийся внутри сферы, давит на поверхность сферы, по закону Кеплера, согласно которому квадраты периодов вращения планет относятся как кубы их расстояний от центров орбит, я вывел, что силы, удерживающие планеты на орбитах, должны быть обратно пропорциональны квадратам их расстояний от центров, вокруг которых они вращаются, и таким образом сравнил силу, требуемую для удержания Луны на орбите, с силой тяготения на поверхности Земли, и ответы оказались почти одинаковыми. А было это в два чумные года, 1665 и 1666, ведь именно тогда я был в том возрасте, который более всего способствует изобретательности, и математика и философия увлекали меня особенно сильно.
Рис. 28
Здесь Ньютон ссылается на свой важный вывод (из законов движения планет Кеплера), что гравитационное притяжение двух сферических тел меняется обратно пропорционально расстоянию между ними. Иначе говоря, если бы расстояние между Землей и Луной утроилось, сила тяготения, которая действовала бы на Луну, оказалась бы в девять раз (три в квадрате) меньше.
По не вполне понятным причинам Ньютон, в сущности, отложил сколько-нибудь серьезные исследования гравитации до 1679 года[75]. Затем он получил два письма от своего злейшего врага Роберта Гука, которые оживили в нем затухший было интерес к динамике в целом и к движению планет в частности. А пробудившееся любопытство привело к колоссальным результатам: опираясь на свои недавно сформулированные законы механики, Ньютон доказал второй закон движения планет Кеплера. Точнее, он показал, что при движении планеты по эллиптической орбите вокруг Солнца линия, соединяющая планету с Солнцем, заметает за равные промежутки времени равные площади (рис. 28). Кроме того, Ньютон доказал, что «для тела, вращающегося по эллипсу… притяжение, направленное к фокусу эллипса… обратно пропорционально квадрату расстояния». Все это были важные вехи на пути к «Началам».
«Начала»
Весной или летом 1684 года Ньютона в Кембридже навестил Галлей. Он уже некоторое время обсуждал законы движения планет Кеплера с Гуком и со знаменитым архитектором Кристофером Реном (1632–1723). Во время этих бесед за чашкой кофе в кофейне и Гук, и Рен заявили, что уже несколько лет назад независимо вывели закон всемирного тяготения, обратно пропорционального квадрату расстояния, однако ни тот ни другой так и не смог представить полное математическое доказательство. Галлей решил задать Ньютону наболевший вопрос: знает ли он, какой была бы орбита планеты, подвергавшейся воздействию силы, которая меняется обратно пропорционально квадрату расстояния? К его изумлению, Ньютон ответил, что уже несколько лет назад доказал, что орбита эта – эллипс. Эта история рассказана в заметке математика Абрахама де Муавра (1667–1754), страничка которой приведена на рис. 29[76].
Рис. 29
В 1684 году доктор Галлей приехал навестить его [Ньютона] в Кембридже, и когда они провели вместе некоторое время, доктор спросил его, какова, по его мнению, та кривая, которую описывали бы планеты, если предположить, что сила притяжения к Солнцу обратно пропорциональна квадрату расстояния до него. Сэр Исаак тут же ответил, что это будет эллипс, и доктор, вне себя от радости и изумления, спросил, откуда он это знает; что же, говорит Ньютон, я это вычислил; на это доктор Галлей попросил его, не откладывая, показать ему выкладки, и сэр Исаак поискал в своих бумагах, не нашел их, однако пообещал заново записать и послать доктору.
Галлей еще раз приехал к Ньютону в ноябре 1684 года. Между этими визитами Ньютон лихорадочно трудился. Де Муавр кратко описывает этот период.
Дабы исполнить свое обещание, сэр Исаак уселся за работу, однако никак не мог прийти к тому же выводу, который, как он полагал, ему удалось ранее получить со всей строгостью, однако он попробовал пойти другим путем, который, хотя и оказался длиннее прежнего, привел его еще раз к тому же выводу, а затем тщательно исследовал, по каким же причинам те вычисления, которые он проделал до этого, оказались неверными, и… добился, чтобы оба доказательства привели к одному и тому же результату.
Этот суховатый отчет не дает даже самого отдаленного представления о том, чего на самом деле достиг Ньютон за несколько месяцев между двумя визитами Галлея. Он написал целый трактат «De Motu Corporum in Gyrum» («О движении тел по орбитам»), где доказал почти все законы о движении тел по круглым и эллиптическим орбитам и все законы Кеплера и даже решил задачу о движении частицы в сопротивляющейся среде (например, в воздухе). Галлей был потрясен. К вящей своей радости, он в конце концов уговорил Ньютона опубликовать все эти поразительные открытия, и тогда наконец и сложились все условия для написания «Начал».
Поначалу Ньютон полагал, что эта книга будет всего лишь углубленной и расширенной редакцией трактата «О движении». Однако, приступив к работе, он обнаружил, что некоторые темы нуждаются в дальнейшем обдумывании. Особенно его беспокоили два вопроса. Один состоял в следующем. Ньютон первоначально сформулировал закон всемирного тяготения так, словно и Солнце, и Земля, и остальные планеты были математическими материальными точками, не имеющими измерений. Разумеется, он понимал, что на самом деле это не так, поэтому считал, что применительно к Солнечной системе его результаты лишь приблизительны. Некоторые исследователи даже полагают, что он в очередной раз отложил работу над законом всемирного тяготения после 1679 года именно потому, что такое положение дел его не устраивало[77]. Что же касается силы, действующей на яблоко, тут все было еще хуже. Ведь очевидно, что те части Земли, которые находятся прямо под яблоком, гораздо ближе к нему, чем те части, которые находятся по ту сторону земного шара. Как же вычислить результирующую силу притяжения? Астроном Герберт Холл Тернер (1861–1930) описывал мысленные терзания Ньютона в статье, напечатанной в лондонской «Times» 19 марта 1927 года.
В то время ему уже приходило в голову общее представление о том, что тяготение меняется обратно пропорционально расстоянию, однако он видел существенные препятствия обобщению этого закона, о которых умы меньшего масштаба и не подозревали. Главное из них ему удалось преодолеть лишь в 1685 году… Дело в том, что нужно было увязать силу притяжения Земли, действующую на тело, расположенное далеко, скажем, на расстоянии Луны, с силой притяжения, которая действует на яблоко вблизи земной поверхности. В первом случае различные частицы, составляющие Землю (чтобы сделать свой закон универсальным, Ньютон хотел распространить его на каждую из них в отдельности), находятся от Луны на примерно одинаковом расстоянии – и с точки зрения величины, и с точки зрения направления, – однако их расстояния до яблока и в том и в другом отношении сильно разнятся. Как же сложить или свести в единую результирующую силу все отдельные силы притяжения в последнем случае? И в каком таком «центре гравитации» они могут быть сосредоточены – да и существует ли он?
Окончательный прорыв произошел весной 1685 года. Ньютон сумел доказать необходимую теорему: для двух сферических тел «сила, с которой одна сфера притягивает другую, обратно пропорциональна квадрату расстояния между их центрами». То есть сферические тела с гравитационной точки зрения ведут себя так, словно это точечные массы, сосредоточенные в их центрах. Значение этой теоремы и ее красивого доказательства подчеркивал математик Джеймс Уитбред Ли Глейшер (1848–1928). В обращении к участникам празднования двухсотлетия «Начал» Ньютона (в 1887 году) Глейшер сказал такие слова (Glaisher 1888).
Лишь когда Ньютон доказал эту великолепную теорему – а мы с его собственных слов знаем, что он никак не ожидал столь красивого результата, пока не получил его после математических выкладок – перед ним открылась вся механика Вселенной… Насколько же иначе стали видеться Ньютону его построения, когда он обнаружил, что его результаты для Солнечной системы, которые он предполагал лишь приблизительно верными, оказались на самом деле абсолютно точными! Можно представить себе, как этот внезапный переход от приблизительности к точности вдохновил Ньютона на еще более усердный интеллектуальный труд. Теперь в его власти было с абсолютной точностью применять математический анализ к решению актуальных астрономических задач.
Другой вопрос, который, очевидно, не давал Ньютону покоя еще тогда, когда он писал первые черновики трактата «О движении», – то обстоятельство, что он пренебрегал силой, с которой планеты притягивают Солнце. Иначе говоря, в первоначальной формулировке Ньютон свел Солнце просто к неподвижному центру сил такого рода, какой, по словам Ньютона, «едва ли существует» в реальном мире. Эта конструкция противоречила третьему закону самого же Ньютона, согласно которому «сила действия равна силе противодействия». Каждая планета притягивает Солнце с точно такой силой, с какой Солнце притягивает планету. Поэтому Ньютон добавил: «Если имеются два тела [например, Земля и Солнце], ни притягиваемое, ни притягивающее тело не могут быть в состоянии покоя». Эта незначительная на первый взгляд поправка на самом деле стала важным недостающим звеном в цепи рассуждений, которые привели к формулировке закона всемирного тяготения. Мы можем попробовать проследить логику Ньютона. Если Солнце притягивает Землю, то Земля должна тоже притягивать Солнце с той же силой. То есть Земля не просто вращается вокруг Солнца – скорее они оба вращаются вокруг общего центра тяжести. Но это еще не все. Все другие планеты также притягивают Солнце, и каждая планета, само собой, ощущает не только притяжение Солнца, но и притяжение всех других планет. Такую же логику можно применить к Юпитеру с его спутниками, к Земле и Луне и даже к яблоку и Земле. Вывод гениально прост: существует одна и только одна гравитационная сила, и действует она между двумя любыми массами в любой точке Вселенной. Именно это и было нужно Ньютону. «Начала» – 510 страниц убористого латинского текста – вышли в свет в июле 1687 года.
Ньютон провел наблюдения и опыты с погрешностью всего в четыре процента и из них вывел математическую формулу тяготения, которая оказалась точной с погрешностью в одну миллионную и даже меньше. Он впервые объединил объяснения природных явлений с мощным инструментом предсказания результатов наблюдений. Физика и математика оказались связаны навек – а развод науки и философии стал неизбежен.
В 1713 году вышло второе издание «Начал», которое основательно переработали и сам Ньютон, и в особенности математик Роджер Котс (1682–1716). На рис. 30 приведен его фронтиспис. Ньютон, который никогда не отличался добротой и приветливостью, даже не поблагодарил Котса за отличную работу в предисловии к книге. И все же, когда Котс в тридцать три года скончался от лихорадки, Ньютон выразил некоторую признательность: «Если бы он прожил дольше, мы бы наверняка что-нибудь узнали».
Любопытно, что некоторые самые примечательные соображения Ньютона о Боге появились лишь в его размышлениях о «Началах» уже после подготовки второго издания. В письме к Котсу 28 марта 1713 года, менее чем за три месяца до завершения работы над вторым изданием «Начал», Ньютон пишет: «Рассуждения о Боге на основании [природных] явлений относятся, несомненно, к области натурфилософии». Более того, Ньютон изложил свои идеи о Творце, который «вечен и бесконечен, всемогущ и всеведущ» в «Общем поучении», которое присовокупил к «Началам» в качестве завершающего штриха.
Рис. 30
Однако осталась ли прежней роль Бога во Вселенной, которая становилась все более и более математической? Или Бог тоже все больше и больше становился математиком? Ведь до формулировки закона всемирного тяготения регулировка движения планет считалась безусловной прерогативой Господа. Как же Ньютон и Декарт видели такой сдвиг в сторону научного объяснения природных явлений?
Бог-математик Ньютона и Декарта
И Ньютон, и Декарт, как и подавляющее большинство их современников, были людьми религиозными. Французский философ-энциклопедист Франсуа-Мари Аруэ (1694–1778), более известный под псевдонимом Вольтер, который довольно часто и много писал о Ньютоне, сказал, как известно, что «Если бы Бога не было, Его пришлось бы выдумать».
Для Ньютона доказательством существования Бога было само существование мира и математическая правильность наблюдаемой Вселенной[78]. Первым к подобного рода причинному рассуждению прибег теолог Фома Аквинский (ок. 1225–1274), и оно подпадает под общефилософские категории космологического аргумента и телеологического аргумента. Коротко говоря, космологический аргумент – это утверждение, что поскольку физический мир так или иначе возник, должна быть какая-то Первопричина, то есть Бог-Творец. Телеологический аргумент, он же «аргумент от устройства мира», – это попытка вывести существование Бога из разумности системы мироздания. Вот как Ньютон изложил в «Началах» свои соображения по этому поводу: «Такое изящнейшее соединение Солнца, планет и комет не могло произойти иначе, как по намерению и по власти могущественного и премудрого существа. Если и неподвижные звезды представляют центры подобных же систем, то все они, будучи построены по одинаковому намерению, подчинены и власти единого». Весомость космологического, телеологического и других аргументов в качестве доказательства существования Бога много сотен лет служила предметом философских споров[79]. Лично у меня сложилось впечатление, что теисты не нуждаются в подобных аргументах, так как уже убеждены в своей правоте, а на атеистов они все равно не действуют.
Ньютон на основании универсальности своих законов добавил еще одну поправку. С его точки зрения, то, что все мироздание управляется одними и теми же законами и при этом стабильно, служило очередным доказательством Божественного руководства, особенно если учесть, что «свет неподвижных звезд – той же природы (курсив мой. – М. Л.), как и свет Солнца, и все системы испускают свет друг на друга, а чтобы системы неподвижных звезд от своего тяготения не падали друг на друга, он их расположил в таких огромных одна от другой расстояниях».
В своей книге «Оптика» Ньютон ясно и недвусмысленно заявил, что не считает, будто существование Вселенной можно объяснить только законами природы как таковыми, поскольку Бог есть создатель и хранитель всех атомов, составляющих вещество Вселенной: «Ибо тот, кто создал их [атомы], расположил их в порядке. И если он сделал так, то не должно философии искать другое происхождение мира или полагать, что мир мог возникнуть из хаоса только по законам природы». Иначе говоря, для Ньютона Бог, помимо всего прочего, был математиком – и вовсе не в переносном смысле, но практически буквально: Бог-Творец создал физический мир, который подчиняется математическим законам.
Декарт был настроен более философски, чем Ньютон, поэтому вопрос о доказательстве существования Бога очень его занимал. Для него путь от уверенности в собственном существовании («Я мыслю, следовательно, я существую») к способности выстроить непротиворечивую систему объективной науки должен был пройти через этап неопровержимого доказательства существования совершенного высшего существа – Бога. Этот Бог, как считал Декарт, и есть в конечном итоге первоисточник всей истины и единственная гарантия верности человеческих умозаключений. Это рассуждение, подозрительное тем, что замкнуто само на себя (его даже называют «картезианским порочным кругом»), критиковали уже современники Декарта, в особенности французский философ, теолог и математик Антуан Арно (1612–1694). Арно задал вопрос, сокрушительный в своей простоте: если нам нужно доказывать существование Бога, чтобы гарантировать верность человеческого мыслительного процесса, как нам верить этому доказательству, которое само по себе есть плод человеческого разума? Несколько отчаянных попыток вырваться из этого порочного круга сделал Декарт, но многие философы, его последователи, не считали, что его старания привели к успеху. Таким же сомнительным было и «дополнительное доказательство» существования Бога. Оно подпадает под общефилософскую категорию онтологического аргумента. Философ и богослов Св. Ансельм Кентерберийский (1033–1109) первым предложил подобного рода логическое рассуждение в 1078 году, и с тех пор оно то и дело всплывало в разных обличьях. Ход рассуждений примерно таков. Бог по определению настолько совершенен, что это величайшее мыслимое существо. Однако если Бога нет, тогда можно помыслить и об еще более великом существе – о таком, которое мало того что наделено всеми совершенствами Бога, но еще и существует. Это противоречит определению Бога как величайшего мыслимого существа, а следовательно, Бог существует. По словам Декарта, «отделять существование Бога от его сущности столь же немыслимо, как отделять от сущности треугольника свойство равенства трех его углов двум прямым углам».
Подобные логические маневры особенно никого не убеждали, и многие философы утверждали, что для того, чтобы доказать существование чего-то, что находится в стороне от физического мира, а особенно чего-то столь огромного, как Бог, одной логики недостаточно (см. Dennett 2006, Dawkins 2006, Paulos 2008).
Как ни странно, Декарта обвинили в тайном атеизме, и в 1667 году его труды попали в составленный католической церковью Список запрещенных книг. В свете того, что Декарт напирал на идею Бога как единственной гарантии истины, это обвинение было более чем нелепо.
Оставим в стороне чисто философские вопросы и обратимся к самому интересному в свете темы нашей книги представлению Декарта – о том, что Бог создал все «вечные истины». В частности, Декарт заявлял, что «математические истины, которые вы называете вечными, заложены Богом и полностью зависят от Него – не меньше, чем остальные Его создания». Итак, картезианский Бог был более чем математиком – в том смысле, что он создал и математику, и физический мир, полностью основанный на математике. Согласно этой точке зрения, которая превалировала в конце XVII века, люди, очевидно, всего лишь открыли математику, но не изобрели ее.
А главное – труды Галилея, Декарта и Ньютона глубочайшим образом изменили отношения между математикой и физикой. Во-первых, стремительное развитие физики стало мощнейшим стимулом для математических исследований. Во-вторых, законы Ньютона сделали даже самые отвлеченные отрасли математики – в частности, математический анализ, – сутью физических объяснений. И, наконец, самое важное – грань между физикой и математикой стерлась до полного исчезновения, и математические открытия и огромные области физических исследований практически слились воедино. Все эти достижения вызвали у математиков прилив энтузиазма, какого, возможно, они не знали еще со времен древних греков. Математики поняли, что именно им предстоит покорить весь мир, а это подарило им безграничные возможности для открытий.
Глава 5
Статистики и пробабилисты: наука о неопределенности
Мир не стоит на месте. Все, что нас окружает, либо движется, либо постоянно меняется. Даже твердая Земля под ногами на самом деле вертится вокруг своей оси, вращается вокруг Солнца и – вместе с Солнцем – движется вокруг центра нашей галактики Млечный Путь. Воздух, которым мы дышим, состоит из триллионов молекул, которые движутся – хаотически, без остановки. А одновременно кругом растут растения, распадаются радиоактивные материалы, температура атмосферы растет и падает в зависимости от времени суток и времени года, а ожидаемая продолжительность жизни просто возрастает. Однако эта космическая неугомонность сама по себе не отменяет математику. Ньютон и Лейбниц разработали отрасль математики под названием математический анализ[80] именно затем, чтобы можно было строго анализировать и строить точные модели и движения, и перемен. К настоящему времени этот невероятный научный инструмент достиг такой мощности и универсальности, что его можно применять для решения самых разных задач – от движения космического челнока до распространения инфекционной болезни. Подобно тому как кино передает движение, разбивая его на последовательность неподвижных кадров, математический анализ измеряет перемены с таким маленьким шагом, что это позволяет определять количества, существующие лишь мимолетно, например мгновенную скорость, ускорение или темп изменения.
Математики так называемой эпохи Рационализма (конец XVII–XVIII вв.), следуя по стопам титанов Ньютона и Лейбница, расширили и дополнили математический анализ и разработали еще более мощную отрасль дифференциальных уравнений, которая находит еще более широкое практическое применение. Это новое орудие позволило ученым строить подробные математические теории самых разных явлений – от музыки, порожденной струнами скрипки, до передачи тепла, от движения волчка до течения жидкостей и газов. Некоторое время именно дифференциальные уравнения были излюбленным инструментом прогресса в физике.
Одними из первопроходцев в исследовании новых горизонтов, которые открывали дифференциальные уравнения, были члены знаменитой семьи Бернулли[81].
Между серединой XVII и серединой XVIII веков эта семья подарила миру целых восемь выдающихся математиков. Не меньше, чем математическими достижениями, эти одаренные личности прославились и внутрисемейными распрями (описанными в Hellman 2006). Скандалы между разными Бернулли всегда были связаны с соперничеством за первенство в математике, но при этом задачи, о которых они спорили, казалось бы, не играют в наши дни такой уж важной роли. Однако решение этих хитрых головоломок зачастую прокладывало дорогу гораздо более серьезным математическим открытиям.
В целом нет никаких сомнений, что семейство Бернулли играло важную роль в становлении математики как языка самых разнообразных физических процессов.
Примером того, как сложно было устроено мышление двух самых блистательных Бернулли – братьев Якоба (1654–1705) и Иоганна (1667–1748) – может служить следующая история. Якоб Бернулли был одним из основателей теории вероятностей, и мы еще вернемся к нему в этой главе. Однако к 1690 году Якоб с головой погрузился в изучение задачи, которую за двести лет до него сформулировал и исследовал еще величайший деятель эпохи Возрождения Леонардо да Винчи: какую форму примет гибкая, но нерастяжимая цепочка, закрепленная за концы (как на рис. 31)? Леонардо в своих записных книжках несколько раз рисовал такие цепочки. Считается, что эту задачу задавал и Декарту его друг Исаак Бекман, однако не осталось никаких свидетельств, что Декарт пытался ее решить. Впоследствии эта задача получила название «задача о цепной линии»[82]. Галилей считал, что это должна быть парабола, однако французский иезуит Игнас-Гастон Пардис (1636–1673) доказал, что это не так. Правда, сам Пардис тоже не сумел математически вывести правильную форму цепочки.