Молитва об Оуэне Мини Ирвинг Джон
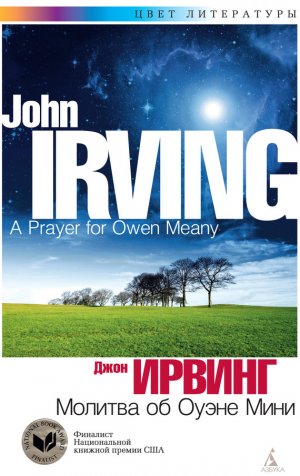
Все, что я видел через стекло внутри магазина, имело один и тот же яркий, огненно-красный оттенок, какой бывает у листьев пуансеттии.
— Она ведь сказала, что магазин полностью сгорел, верно? — спросил я Оуэна.
— ЕЩЕ ОНА ГОВОРИЛА, ЧТО НЕ ПОМНИТ НАЗВАНИЯ МАГАЗИНА И ЧТО ЕЙ ПРИШЛОСЬ РАССПРАШИВАТЬ ЛЮДЕЙ ПО СОСЕДСТВУ, — сказал Оуэн. — НО НАЗВАНИЕ-ТО БЫЛО НА ЭТИКЕТКЕ — ОНО ВСЕГДА БЫЛО ПРИШИТО НА ПЛАТЬЕ ИЗНУТРИ!
Вздрогнув, я снова вспомнил, как тетя Марта сказала про маму «дуреха»; но лгуньей ее никто никогда не называл.
— Она говорила, там был какой-то юрист, который сказал, что она может забрать себе это платье, — вспомнил я. — Она говорила, что все, совершенно все сгорело, верно?
— СЧЕТА СГОРЕЛИ, ИНВЕНТАРНЫЕ ОПИСИ СГОРЕЛИ, ВСЕ ТОВАРЫ СГОРЕЛИ — ДА, ОНА ТАК ГОВОРИЛА, — сказал Оуэн.
— Телефон расплавился — помнишь? — спросил я.
— И КАССОВЫЙ АППАРАТ ТОЖЕ РАСПЛАВИЛСЯ, ПОМНИШЬ? — спросил он меня в ответ.
— Может, они отстроили все заново после пожара, — предположил я. — Может, это другой магазин. Может, у них целая сеть таких магазинов.
Он ничего не ответил. Мы оба прекрасно понимали, что ярко-красный цвет вряд ли пользуется таким сногсшибательным спросом, чтобы существовали целые сети магазинов типа «Джерролдс».
— А откуда ты узнал, что этот магазин здесь? — спросил я Оуэна.
— Я УВИДЕЛ РЕКЛАМУ В ВОСКРЕСНОЙ «БОСТОН ГЕРАЛЬД», — сказал он. — Я ИСКАЛ КОМИКСЫ И УЗНАЛ ЭТОТ ПОЧЕРК — ВСПОМНИЛ, ЧТО НА ЭТИКЕТКЕ ТАКАЯ ЖЕ НАДПИСЬ.
Да уж, если Оуэн сказал, что узнал почерк, будьте спокойны, он, верно, разглядывал этикетку от маминого красного платья столько раз за все эти годы, что и сам смог бы написать «Джерролдс» так, что не отличить от настоящего логотипа.
— ЧЕГО МЫ ЖДЕМ? — спросил Оуэн. — ДАВАЙ ПРОСТО ЗАЙДЕМ К НИМ И СПРОСИМ, БЫЛ У НИХ КОГДА-НИБУДЬ ПОЖАР ИЛИ НЕТ.
Внутри нас поразила скупость интерьера, столь же странная и непривычная, как и пронзительно-алый цвет каждого предмета одежды. Если что-то и отличало этот магазин, так это желание подчеркнуть — с назойливой нарочитостью, — что у них все представлено в единственном экземпляре: один бюстгальтер, одна ночная рубашка, одна нижняя юбка, одно маленькое платье-«коктейль», одно длинное вечернее платье, одна длинная юбка, одна короткая юбка, та самая блузка на единственном манекене, что мы видели в витрине, и один прямоугольный стеклянный прилавок, в котором лежали единственная пара красных кожаных перчаток, пара красных туфелек на высоком каблуке, одно гранатовое ожерелье и к нему гранатовые серьги и один очень тонкий ремешок (тоже красный, вероятно, из кожи крокодила или ящерицы). Стены были белые, абажуры ламп, мягко подсвечивающих стены, — черные; единственный мужчина за единственным прилавком был бы ровесником моей мамы, будь она жива.
Мужчина пренебрежительно оглядел нас. Он видел перед собой двух подростков, одетых совсем не для Ньюбери-стрит; возможно (и в таком случае ему нас жаль), выбирающих подарок для мамы или подружки. Вряд ли мы могли бы осилить даже самую дешевую красную вещь из имевшихся в наличии в магазине «Джерролдс».
— У ВАС КОГДА-НИБУДЬ БЫЛ ПОЖАР? — спросил Оуэн продавца.
Пренебрежения у мужчины сразу поубавилось; может, он и подумал, что для страховых агентов мы, пожалуй, слишком молоды, но вопрос Оуэна — не говоря уже о его голосе — несколько обескуражил его.
— Тут вроде был пожар где-то в конце сороковых, — сказал я.
— ИЛИ В НАЧАЛЕ ПЯТИДЕСЯТЫХ, — добавил Оуэн Мини.
— Вы, наверное, появились здесь позже — ну, на этом месте? — спросил я мужчину.
— ДЖЕРРОЛД — ЭТО ВЫ? — спросил продавца Оуэн Мини и, словно маленький инспектор полиции, пододвинул к нему по стеклянному прилавку слегка потрепанную этикетку от маминого платья.
— Это наша этикетка, — сказал мужчина, осторожно ощупывая пальцами вещественное доказательство. — Мы здесь открылись еще до войны, но, по-моему, у нас не было никакого пожара. А что за пожар? — спросил он Оуэна — потому что, естественно, из нас двоих Оуэн явно был главнее.
— ДЖЕРРОЛД — ЭТО ВЫ? — повторил Оуэн.
— Это мой отец — Джордано, — сказал мужчина. — Он раньше был Джованни Джордано, но, как только мы сошли на берег, здесь с такой фамилией его задолбали.
Это была очередная душещипательная история эмигрантов, но нас с Оуэном сейчас интересовала совсем другая история, и я вежливо спросил мужчину:
— Простите, а ваш отец еще жив?
— Эй, папа! — крикнул мужчина. — Ты жив?
Белая дверь, до того плотно пригнанная к белой стене, что мы с Оуэном ее поначалу даже не заметили, распахнулась, и в торговый зал вышел старик с обмотанным вокруг шеи портновским метром и множеством булавок, торчащих из отворотов его жилетки.
— Конечно жив! — воскликнул он. — Ты что, заждался? Не терпится наследство получить? — Это был почти бостонский выговор, лишь слегка отдающий итальянским акцентом.
— Пап, эти молодые люди хотят потолковать с «Джерролдом» о каком-то пожаре, — пояснил сын; он говорил сдержанно и с более явным бостонским выговором, чем у отца.
— О каком еще пожаре? — спросил нас мистер Джордано.
— Нам говорили, что ваш магазин сгорел где-то в конце сороковых или в начале пятидесятых, — сказал я.
— Надо же, для меня это большая новость! — удивился мистер Джордано.
— Наверное, моя мама ошиблась, — пояснил я и показал мистеру Джордано старую этикетку. — Она купила в вашем магазине платье. Где-то в конце сороковых или в начале пятидесятых. — Я не знал, что еще сказать. — Красное такое, — добавил я.
— Ну еще бы, — отозвался Джордано-младший.
Я сказал:
— Жаль, у меня нет с собой ее карточки, — наверное, я лучше приду сюда еще раз и принесу ее фотографию. Может, вы тогда что-нибудь вспомните о ней.
— Она хочет что-то переделать? — спросил старик — Я готов перешить его — но она должна сама сюда прийти. Я не умею переделывать платья по фотографиям!
— ОНА УМЕРЛА, — сказал Оуэн Мини. Его крошечная рука снова нырнула в карман. Оуэн достал аккуратно сложенный конверт; в конверте лежала карточка, которую ему подарила моя мама, — свадебная фотография. Мама на ней вышла очень красиво, да и Дэн тоже ничего. Мама надписала фото — это были слова благодарности Оуэну и его отцу за их необычный свадебный подарок. — Я ТУТ СЛУЧАЙНО ЗАХВАТИЛ КАРТОЧКУ С СОБОЙ, — сказал Оуэн, протягивая реликвию мистеру Джордано.
— Фрэнк Синатра! — вскрикнул старик. Сын тут же забрал у него карточку и поглядел на нее сам.
— Что-то не похоже на Фрэнка Синатру, — пожал он плечами.
— Да нет же! Нет! — кричал старик; он снова выхватил фото у сына. — Она любила песни Синатры — она и сама их здорово пела. Мы много болтали с ней о Фрэнки — твоя мать сказала, что ему надо было родиться женщиной, такой у него приятный голос.
— А ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, ЗАЧЕМ ОНА КУПИЛА ЭТО ПЛАТЬЕ? — спросил Оуэн.
— Еще бы мне не знать! — воскликнул старик — Она всегда выступала в этом платье! «Мне нужно что-нибудь такое, в чем я буду петь!» — так она сказала, когда пришла сюда. «Мне нужно что-нибудь такое, чтобы я была не похожа на себя!» — вот что она сказала. Я ее никогда не забуду. Но я тогда еще не знал, кто она такая, — не знал, когда она только пришла сюда! — говорил мистер Джордано.
— Да кто же она, черт возьми, такая, в конце концов? — недоумевал сын. Услышав этот вопрос, я вздрогнул; до меня вдруг дошло: я ведь тоже не знаю, кто она такая — моя мама.
— Да это же «Дама в красном» — ты что, не помнишь ее? — спросил сына мистер Джордано. — Она еще пела в том самом заведении, когда ты вернулся домой с войны. Как оно называлось, это место?
Сын поспешно схватил фото.
— Точно, это она! — вскричал теперь Джордано-младший.
— «Дама в красном»! — воскликнули вместе отец и сын.
Меня била мелкая дрожь: моя мама была певичкой! В каком-то притоне! И ее звали «Дама в красном»! И она сделала себе карьеру — карьеру певички в ночном кабаке! Я посмотрел на Оуэна; он выглядел на удивление спокойным — он оставался почти безмятежным и даже улыбнулся.
— НУ ЧТО, РАЗВЕ ЭТО НЕ ИНТЕРЕСНЕЕ, ЧЕМ У «СТАРОГО ФРЕДДИ»? — спросил он меня.
Вот что еще Джордано рассказал нам о моей маме: она пела в фешенебельном вечернем клубе на Бикон-стрит — «очень солидное заведение!», заверил нас старый Джордано. Там выступал черный пианист — он играл в старомодном стиле, то есть, как объяснили нам Джордано, он играл старые мелодии, причем под сурдинку, «чтобы слышать певицу!».
Это заведение было не из тех, куда ходят одинокие мужчины или женщины, — не бар, а именно клуб, что означает, по заверениям отца и сына Джордано, ресторан с «живой» музыкой — «что-нибудь такое легкое и спокойное, чтобы ужин усваивался». Ближе к десяти вечера певица и пианист переходили к музыке, более подходящей для танцев, чем для уютной застольной беседы, — и это продолжалось примерно до полуночи. Мужчины танцевали со своими женами или, по крайней мере, с серьезными спутницами. Это было не такое место, «куда можно притащить шлюху или подцепить ее прямо там». И почти каждый вечер выступала «какая-нибудь знаменитая певица из тех, о ком вы наверняка слыхали». Ни об одной из тех, что упомянули Джордано, мы с Оуэном, однако, не «слыхали» ни разу в жизни. «Дама в красном» пела только один вечер в неделю; Джордано забыли, в какой именно день, но мы с Оуэном могли им и сами сказать. Это была среда — всегда и только среда. Вероятно, учитель пения, с которым занималась моя мама, был настолько знаменит, что маме он мог уделить время только в четверг утром — и притом так рано, что ей приходилось накануне ночевать в этом «жутком» городе.
Почему она никогда не выступала под своим настоящим именем, почему ее все знали как «Даму в красном» — этого Джордано не знали. И название того фешенебельного вечернего клуба они припомнить не смогли; они знали только, что теперь его там уже нет. По виду он напоминал обычный частный дом; теперь это и в самом деле частный дом «где-то на Бикон-стрит» — вот все, что они смогли вспомнить. То ли частный дом, то ли частная клиника. Что касается владельца клуба, это был какой-то еврей из Майами. Джордано слышали, что теперь он вернулся к себе в Майами. «Я думаю, там и сейчас полно таких клубов», — сказал старый Джордано.
Он страшно огорчился, узнав, что мама умерла; «Дама в красном» успела стать довольно популярной среди местных завсегдатаев клуба — «не так чтобы уж прямо знаменитой, как, может, некоторые другие; но на нее много народу ходило».
По словам Джордано, она сначала появилась, потом куда-то пропала на время, а потом снова вернулась. Позже она пропала насовсем; но люди этому не верят, и вот уже который год ходят слухи, будто она возвращается. Первый раз, «на время», она пропала, конечно, когда родился я.
Джордано попытались даже вспомнить, как звали черного пианиста; «Он оставался там, пока клуб не закрыли», — сказали они. Но максимум, что они смогли вспомнить, — это Череп.
— Черный Череп! — уточнил мистер Джордано-старший.
— Не думаю, что он тоже из Майами, — сказал сын.
— ЯСНОЕ ДЕЛО, — заключил Оуэн Мини, когда мы снова шагали по Ньюбери-стрит, — ЧЕРНЫЙ ЧЕРЕП — ЭТО НЕ ТВОЙ ОТЕЦ!
Мне вдруг пришло в голову спросить Оуэна, сохранил ли он имя и адрес — а может, и номер телефона — маминого учителя пения. Я знал, что мама все подробно расписала Оуэну; вряд ли он мог выбросить хоть что-то, полученное от нее.
Но мне не понадобилось даже спрашивать. Его крошечная рука снова нырнула в карман.
— ЭТО ЗДЕСЬ НЕДАЛЕКО, — сказал Оуэн. — Я ДОГОВОРИЛСЯ О ВСТРЕЧЕ, ЧТОБЫ ОН «ПРОВЕРИЛ» МОЙ ГОЛОС. КОГДА ОН УСЛЫШАЛ МОЙ ГОЛОС ПО ТЕЛЕФОНУ, ТО СКАЗАЛ, ЧТО ГОТОВ СО МНОЙ ВСТРЕТИТЬСЯ, КАК ТОЛЬКО Я ЗАХОЧУ.
Вот так Оуэн Мини приехал в Бостон, «жуткий» город, — он все подготовил заранее.
Грэм Максуини, учитель пения и специалист по постановке голоса, жил в той части авеню Содружества, где зелень на бульваре всего гуще, а по обеим сторонам плотным строем стоят фешенебельные старинные домики. Однако у самого мистера Максуини была маленькая захламленная квартирка в обшарпанном доме без лифта; доме, разделенном чуть ли не на столько же частей, сколько раз многочисленные жильцы задерживали совместную арендную плату или вообще переставали платить. Поскольку мы с Оуэном пришли слишком рано, пришлось сесть и подождать в коридоре, рядом с дверью квартиры мистера Максуини. На двери красовалось пришпиленное кнопкой объявление, написанное от руки:
Ни в коем случае!!! не звоните!!! и не стучите!!! если слышите, что за дверью поют!!!
То, что мы слышали за закрытой дверью мистера Максуини, «пением», строго говоря, назвать было нельзя, однако там явно занимались голосовыми упражнениями, и потому мы с Оуэном не стали стучать или звонить. Мы сели на удобный, но какой-то странный предмет (не диван и не кушетка, а что-то смахивающее на сиденье от городского автобуса) и стали слушать упражнения то ли по пению, то ли по постановке голоса, которые нам запретили прерывать.
Сильный, раскатистый мужской голос произнес:
— Ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме!
Завораживающий, чуть вибрирующий женский голос повторил:
— Ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме!
Затем мужчина произнес:
— Но-но-но-но-но-но-но-но!
И женщина ответила:
— Но-но-но-но-но-но-но-но!
А потом мужчина пропел целую фразу — это было начало арии из мюзикла «Моя прекрасная леди»:
— «Что мне надо, так это дом…»[24]
И женщина подхватила:
— «…чтоб от стужи укрыться в нем…»
И потом они пропели вместе:
— «…камин с большим огнем…»
После чего женщина завершила куплет:
— «… вот это было б здорово!»
— Ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме! — снова произнес мужчина; теперь вступил рояль — точнее, одна клавиша.
Их голоса, даже если судить по этим глупым упражнениям, показались нам с Оуэном самыми замечательными из всех, что мы когда-либо слышали. Даже когда эта женщина пела свое «но-но-но-но-но-но-но-но!», ее голос звучал куда красивее, чем мамин.
Я не пожалел, что нам с Оуэном пришлось подождать: за это время я успел немного утешиться. Ведь мистер Максуини и вправду оказался учителем пения и сам пел совершенно замечательно, к тому же он занимался с ученицей, чей голос был даже лучше, чем у моей мамы… Значит, то, что я знал о маме, — хоть отчасти правда. Все-таки не сразу придешь в себя после сногсшибательного открытия вроде сделанного в «Джерролдсе».
Я не считал мамину ложь насчет красного платья чем-то чудовищным; даже то, что мама была настоящей певицей — она ведь по-настоящему выступала на сцене! — и скрывала это от меня и даже от Дэна (если она и Дэна тоже держала в неведении), не казалось мне особенно уж страшным. Что действительно потрясло меня, так это воспоминание о том, как непринужденно, как изящно она лгала насчет сгоревшего магазина и как убедительно притворялась, будто ее раздражает красное платье. Пожалуй, она была более талантливой лгуньей, чем певицей. И если она солгала насчет платья — и никогда никому не рассказывала в Грейвсенде о «Даме в красном», — о чем еще она могла солгать?
Я не знаю, кто мой отец, — но чего я еще теперь не знаю?
Оуэн Мини, который соображал гораздо быстрее, выразился очень просто. Чтобы не помешать уроку мистера Максуини, он прошептал:
— ТЕПЕРЬ ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ ЕЩЕ И КТО ТВОЯ МАМА
После того как из квартиры мистера Максуини вышла невысокая, пестро одетая женщина, в захламленную берлогу учителя пения пустили нас с Оуэном. Огорчительно маленькая грудь певицы явно не соответствовала силе голоса, который мы слышали из-за двери, — но еще больше нас впечатлила атмосфера рабочего беспорядка, что встретила нас в студии мистера Максуини. Ванная комнатка не имела двери, а сама ванна была установлена словно наспех, а может быть и на смех, на некотором удалении от сливной трубы и была доверху завалена трубами, кранами и прочим железом — там, очевидно, с размахом велись водопроводные работы, и продвигались они явно без спешки.
Между кухонькой и гостиной не было перегородки (или ее снесли); также отсутствовали дверцы у кухонных шкафчиков, где, кроме кофейных чашек и кружек, почти ничего больше не было — и это наводило на мысль, что мистер Максуини либо сидит на кофеиновой диете, либо питается где-то в другом месте. Кроме того, в гостиной — единственной комнате во всей крошечной, тесной квартирке — не было кровати, а это наводило на другую мысль: возможно, в нее превращается диванчик, весь закрытый нотными листами. Однако то, как тщательно эти нотные листы были разложены, да и само огромное их количество, свидетельствовало, что на диванчик никогда даже не садятся — а тем более его не раскладывают, — и это, в свою очередь, наводило еще на одну мысль: спит мистер Максуини тоже где-то в другом месте.
Повсюду на глаза попадались памятные реликвии: афиши оперных театров и концертных залов, газетные вырезки с портретами певцов, рецензии в рамочках, свисающие на лентах медали — казалось, они приравнивали золотые голоса к спортивным достижениям. Здоровенные рисунки, тоже в рамках, изображающие грудную клетку и горло во всех клинических подробностях, словно на иллюстрациях в «Анатомии» Грея, были развешаны по всей квартире как попало, точно учебные схемы в некоторых врачебных кабинетах. Под этими анатомическими рисунками виднелись приколотые разнообразные ободряющие воззвания, вроде тех, что энтузиасты-тренеры вешают в спортзалах:
Начинайте с грудины!
Следите, чтобы в верхнем отделе грудной полости
все время был воздух!
Диафрагма — это мышца, которая сокращается одном
направлении — она может работать только на вдохе!
Тренируйте дыхание отдельно от пения!
Никогда не поднимайте плечи!
Никогда не задерживайте дыхание!
Одна стена была целиком отведена под инструкции по извлечению гласных звуков. Над дверным проемом, ведущим в ванную, висел краткий призыв: «Мягче!» Господствуя над всей обстановкой квартиры, посредине комнаты стоял огромный черный, без единой царапины концертный рояль — по стоимости, вполне возможно, сравнимый с двухгодичной арендной платой за рабочий кабинет мистера Максуини.
Мистер Максуини был совершенно лыс; из его ушей буйно торчали пучки седых волос — словно для защиты слуха мистера Максуини от звуков его собственного мощного голоса. Это был энергичный, крепкий коротышка, с виду лет шестидесяти или даже семидесяти. Его грудь занимала все пространство над поясным ремнем, — а может, наоборот, круглый тугой живот поглотил грудь и дорос до самого подбородка, как у завзятого любителя пива.
— Ну! Так у кого из вас голос? — спросил нас мистер Максуини.
— У МЕНЯ, — отозвался Оуэн Мини.
— Да, у тебя определенно голос! — восторженно вскрикнул мистер Максуини. На меня он почти не обращал внимания, даром что Оуэн, представляя меня, предпринял особые усилия: он с совершенно очевидным нажимом произнес мою фамилию, которая, как мы считали, должна показаться учителю пения знакомой.
— ЭТО МОЙ ДРУГ, ДЖОН УИЛРАЙТ, — сказал Оуэн, но мистер Максуини не мог дождаться, когда же наконец можно будет взглянуть на Оуэново адамово яблоко. Имя «Уилрайт», судя по всему, не всколыхнуло в его памяти совершенно никаких ассоциаций.
— Это один и тот же орган, как его ни называй, — поведал мистер Максуини. — Адамово яблоко, кадык, гортань — это самая важная часть речевого аппарата, — объяснял он, усаживая Оуэна в так называемое «певческое кресло», которое на самом деле представляло собой обыкновенный жесткий стул с прямой спинкой прямо перед самым роялем. Мистер Максуини положил большой и указательный пальцы Оуэну на горло по обе стороны кадыка.
— Глотни-ка! — скомандовал он.
Оуэн сглотнул. Взявшись пальцами за свой кадык и сглотнув, я почувствовал, как мой кадык подпрыгнул выше вдоль шеи; у Оуэна же он почти не шевельнулся.
— Зевни! — сказал мистер Максуини. Когда я зевнул, мой кадык переместился вниз, но у Оуэна он остался почти на прежнем месте.
— Крикни! — приказал мистер Максуини.
— АААААААА! — закричал Оуэн Мини; и снова его кадык лишь слегка шевельнулся.
— Поразительно! — заключил мистер Максуини. — Твоя гортань все время в неподвижном состоянии, — пояснил он Оуэну. — Я очень редко с таким сталкивался. Твой кадык никогда не расслабляется. Твое адамово яблоко находится в положении постоянного крика! Я могу попробовать подобрать для тебя кое-какие упражнения, но, наверное, лучше показаться врачу. Возможно, тебе потребуется операция.
— Я НЕ ХОЧУ ДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИЮ, И МНЕ НЕ НУЖНЫ УПРАЖНЕНИЯ, — сказал Оуэн Мини. — ЕСЛИ БОГ ДАЛ МНЕ ТАКОЙ ГОЛОС, ЗНАЧИТ, У НЕГО БЫЛО НА ЭТО ОСНОВАНИЕ.
— А как так получилось, что у него голос не изменился? — спросил я у мистера Максуини, который явно уже собрался выдать какое-нибудь язвительное замечание насчет участия Бога в устройстве Оуэновой гортани. — Я-то думал, у всех мальчишек голос ломается во время полового созревания, — сказал я.
— Если он у него до сих пор не изменился, то, вероятно, уже никогда не изменится, — сказал мистер Максуини. — Голосовые связки не производят слова — они только колеблются. Голосовые связки на самом деле никакие не связки — это по сути те же губы. Отверстие между этими губами называется голосовой щелью. А звук получится, если выдохнуть воздух через них, когда они закрыты. Изменение голоса у мужчины — это только один из признаков полового созревания, наряду с другими. Но твой голос, я думаю, вряд ли изменится, — сказал Оуэну мистер Максуини. — Иначе это случилось бы раньше.
— НО ЭТО НЕ ОБЪЯСНЯЕТ, ПОЧЕМУ ОН НЕ ИЗМЕНИЛСЯ ДО СИХ ПОР, — сказал Оуэн Мини.
— Объяснить я этого не могу, — признался мистер Максуини. — Но могу дать тебе кое-какие упражнения, — повторил он, — или порекомендовать хорошего врача.
— Я И НЕ РАССЧИТЫВАЮ, ЧТО МОЙ ГОЛОС ИЗМЕНИТСЯ, — заявил Оуэн Мини.
Я видел: до мистера Максуини мало-помалу начало доходить, что вера Оуэна в Божий промысел может вывести из себя.
— Зачем же ты хотел со мной повидаться, парень? — спросил Оуэна мистер Максуини.
— ПОТОМУ ЧТО ВЫ ЗНАЛИ ЕГО МАМУ, — ответил Оуэн, указывая на меня. Грэм Максуини окинул меня оценивающим взглядом, словно опасаясь, что я могу подать против него иск об установлении отцовства.
— Табита Уилрайт, — сказал я. — Ее все звали Табби. Она была из Нью-Хэмпшира и занималась у вас в сороковых и в начале пятидесятых — начала еще до моего рождения, а закончила, когда мне исполнилось восемь или девять.
— ИЛИ ДЕСЯТЬ, — добавил Оуэн Мини; его рука снова скользнула в карман, и он протянул фотографию мистеру Максуини.
— «Дама в красном»! — воскликнул мистер Максуини. — Прости, пожалуйста, я просто забыл ее имя.
— Но вы помните ее? — спросил я.
— О да, конечно, я ее помню, — сказал он. — Она была красивая и очень милая — и я предложил ей эту незатейливую работу. Не бог весть какой ангажемент, конечно, но ей нравилось, и она почему-то надеялась, что кто-нибудь может «открыть» ее, если она будет там петь. Но я сразу ей сказал, что в Бостоне еще никто никого не открыл. По крайней мере, в этом вечернем клубе.
Мистер Максуини добавил, что ему часто звонили из клуба и прослушивали его учеников в поисках местных талантов. Как нам уже рассказывали Джордано, клуб нанимал более именитых певиц на срок от месяца и больше — но по средам звездам давали отдохнуть, и тогда обращались к «местным талантам». Что касается моей мамы, то она приобрела в округе кое-какую известность, пусть и скромную, и в клубе решили сделать из этого некую традицию.
Она ни в какую не хотела петь под своим настоящим именем — от застенчивости, а может, от провинциальности, — что так же глупо, как и надеяться, будто кто-нибудь вдруг ее «откроет».
— Но она была очаровательна, — сказал мистер Максуини. — Пела она, правда, только «головой» — «грудью» не умела — да еще и ленилась. Ей нравилось исполнять простенькие популярные песенки; а честолюбия не хватало. Да и не занималась она как следует.
Он показал нам две группы мышц, участвующих в «головном» и «грудном пении». Хотя нас интересовало вовсе не это, все же мы держались вежливо и позволили мистеру Максуини поподробнее изложить свое мнение о моей маме с преподавательской точки зрения. Большинство женщин поют гортанью в высокой звуковой позиции, или, как это назвал мистер Максуини, «головой», — так что ниже «ми» первой октавы у них начинаются проблемы с силой звука, — а когда они пытаются громко взять высокие ноты, то получается визг. Женщинам очень важно развивать «грудное пение». Мужчинам же, наоборот, следует развивать «головное пение». И тому и другому надо быть готовым посвящать долгие часы.
Моя мама превращалась в певицу лишь на один вечер в неделю, а это, как выразился мистер Максуини, «все равно что теннисисту играть только по выходным». У нее был приятный голос — я и сам это не раз говорил, — и оценка мистера Максуини примерно совпадала с моей. Ее голос не был сильным, его не сравнить с мощным голосом сегодняшней ученицы мистера Максуини — голосом, что мы слышали через закрытую дверь его квартиры.
— Кто придумал ей это имя — «Дама в красном»? — спросил я старого учителя, пытаясь вернуть его в интересующее меня русло.
— Она в каком-то магазине нашла себе красное платье, — сказал мистер Максуини. — Сказала, что хочет казаться «совсем на себя не похожей, но только раз в неделю»! — Он засмеялся. — Я ни разу не ходил ее слушать. Это ведь был всего лишь вечерний клуб, — пояснил он. — На самом деле там не выступала ни одна по-настоящему хорошая певица. С теми, что получше, я занимался, так что слышал их здесь, но туда и носа не казал, не-ет. С Мейерсоном я был знаком по телефону, но что-то не припомню, чтобы мы с ним встречались. Я думаю, это Мейерсон назвал ее «Дамой в красном».
— Мейерсон? — переспросил я.
— Владелец клуба; он был славный малый — из Майами, по-моему. Честный и не задавался. Певицы, которых я к нему посылал, все его любили — они говорили, он к ним относился уважительно, — рассказывал мистер Максуини.
— ВЫ ПОМНИТЕ НАЗВАНИЕ ЭТОГО КЛУБА? - спросил Оуэн.
Он назывался «Апельсиновая роща»; мама еще посмеивалась по поводу входной двери: она, мол, вся размалевана апельсиновыми деревьями в кадках, аквариумами со всякими тропическими рыбками и семейными парочками, что отмечают годовщины свадьбы. И при всем том рассчитывала, что ее «откроют»!
— У НЕЕ КТО-ТО БЫЛ? — спросил Оуэн у мистера Максуини. Тот пожал плечами.
— Я ее не интересовал — это я точно знаю! — сказал он и ласково улыбнулся мне. — Я как-то попробовал приударить за ней, но она очень деликатно меня отвадила, я больше и не пытался.
— Там был какой-то пианист, в «Апельсиновой роще», — черный пианист, — сказал я.
— Верно. Но он играл не только там — он выступал по всему городу, пока не нашел это место. А когда оттуда ушел, то снова стал выступать по всему городу, — сказал мистер Максуини. — Фрибоди Черный Череп! — провозгласил он и засмеялся.
— Фрибоди, — повторил я.
— Псевдоним, как и «Дама в красном», — сказал мистер Максуини. — И он тоже никак не мог быть приятелем твоей матери — с его-то прибабахом!
Еще Грэм Максуини рассказал нам, что Мейерсон уехал обратно к себе в Майами, и поспешил добавить, что этот Мейерсон был стар — он был старым еще в сороковые—пятидесятые; он был таким старым, что сейчас уже, скорее всего, умер «или во всяком случае еле карту от стола поднимает». Что до Фрибоди Черепа, то мистер Максуини так и не вспомнил, где этот черный пианист играл после того, как «Апельсиновая роща» почила в бозе.
— Я, бывало, натыкался на него то тут, то там, — сказал мистер Максуини. — Этот Череп чуть не каждый день маячил у меня перед глазами.
Фрибоди Череп умел играть, как выразился мистер Максуини, «по-настоящему мягко». Певицы любили его, потому что его музыка не заглушала их голоса.
— У нее однажды что-то случилось — у твоей мамы, — вспомнил мистер Максуини. — Она уехала и долго не появлялась, а потом снова вернулась. А потом пропала насовсем.
— ВОТ ОН У НЕЕ «СЛУЧИЛСЯ», — сказал Оуэн Мини, указывая на меня пальцем
— Ты что, отца своего ищешь? — спросил меня учитель пения — Я угадал?
— Да, — ответил я
— Не трудись, парень, — сказал мистер Максуини — Если бы он хотел тебя найти, уже давно нашел бы
— БОГ СКАЖЕТ ЕМУ, КТО ЕГО ОТЕЦ, — заявил Оуэн.
Грэм Максуини пожал плечами
— Я не Бог, — сказал мистер Максуини — А Богу твоему, видно, сильно некогда
Я дал ему свой номер телефона в Грейвсенде — вдруг он вспомнит, где в последнее время играл Фрибоди Черный Череп. Мистер Максуини предупредил меня: Череп уже так стар, что, верно, тоже едва может поднять карту со стола. Сам он попросил номер телефона у Оуэна — на случай, если найдет научное объяснение тому, отчего у Оуэна до сих пор не изменился голос
— ЭТО НЕ ВАЖНО, — сказал Оуэн, но телефон мистеру Максуини все же дал
— Твоя мама была приятная женщина, добрая, славная — она была очень приличная женщина, — сказал мне мистер Максуини
— Спасибо, — ответил я
— «Апельсиновая роща», конечно, была совершенно дурацким заведением, — продолжал он, — но это не какой-нибудь притон — там с ней не могло произойти ничего недостойного
— Спасибо, — снова сказал я
— Она все время пела репертуар Синатры — у меня от этих песенок челюсти сводило, — признался мистер Максуини
— Я ВПОЛНЕ ДОПУСКАЮ, ЧТО КОМУ-ТО НРАВИЛОСЬ ИХ СЛУШАТЬ, — сказал Оуэн Мини
Торонто, 30 мая 1987 года — мне не стоило читать даже такой малости, как один-единственный заголовок в «Нью-Йорк таймс», хотя, как я часто говорю своим ученицам из школы епископа Строна, в этой газете весьма характерно используют точку с запятой.
Персидский залив: Рейган заявляет о своей решимости; его планы пока неясны.
Ну разве это не классический случай? Я не про точку с запятой; я хочу сказать: не это ли как раз и нужно всему миру? Неясная решимость! Вот типичный пример американской политики: не надо ясности, но пусть будет решимость!
В ноябре 61-го — уже после того, как мы с Оуэном узнали, что его гортань никогда не расслабляется и что у моей мамы была яркая (а может, трагическая) тайная жизнь, — генерал Максвелл Тейлор доложил президенту Кеннеди, что американская военная, экономическая и политическая поддержка может обеспечить Южному Вьетнаму победу без вступления Соединенных Штатов в войну. (В конфиденциальной беседе генерал посоветовал послать во Вьетнам боевые подразделения США в количестве восьми тысяч человек.)
В Новый год, который мы с Оуэном и Хестер встречали в доме 80 на Центральной, — встречали, надо сказать, довольно бестолково, что вообще отличает подростковые вечеринки (при том что двадцатилетнюю Хестер подростком никак было назвать), и сравнительно тихо (потому что бабушка уже легла спать), — в тот Новый год личный состав вооруженных сил США во Вьетнаме насчитывал всего 3205 человек.
Хестер удалось отметить наступление Нового года более ярко, чем мне или Оуэну. Она встречала Новый год стоя на коленях — в снегу, в розовом саду, чтобы бабушка не слышала, как из Хестер извергается ром с кока-колой (к этой бурде она пристрастилась еще в дни своего бурного романа на Тортоле). У меня переход через временной рубеж вызывал куда меньше эмоций; я уснул, наблюдая за страданиями Чарлтона Хестона в «Бен Гуре», — я начал клевать носом где-то между скачками на колесницах и сценой в поселении прокаженных. Оуэн досмотрел до конца; во время рекламных вставок он поглядывал в окно в розовый сад, где в призрачном лунном свете можно было различить бледную фигуру Хестер на фоне снега. Удивительно, как мало волновала Оуэна Мини смена годов — при том что уже тогда, как ему представлялось, он точно знал, сколько ему их отпущено. Тем не менее он, казалось, с удовольствием смотрит и «Бен Гура», и как блюет на дворе Хестер. Может быть, это и есть вера — вот такое спокойное умиротворение, даже перед лицом надвигающегося будущего.
К нашей следующей совместной новогодней вечеринке, к концу 1962-го, численность личного состава вооруженных сил США во Вьетнаме будет доведена уже до 11 300 человек. И снова утром нового года бабушка обнаружит на снегу оставшиеся после Хестер замерзшие брызги блевотины, обезобразившие обычно белоснежное пространство вокруг ванночки для птиц посреди розового сада.
— Силы небесные! — запричитает бабушка. — Что это за гадость?
И точно так же, как год назад, Оуэн Мини скажет.
— РАЗВЕ ВЫ НЕ СЛЫШАЛИ, МИССИС УИЛРАЙТ, ЧТО ТВОРИЛОСЬ НОЧЬЮ С ПТИЦАМИ? НАДО БЫ ПОЙТИ ПОСМОТРЕТЬ, ЧТО ТАМ ЭТЕЛЬ НАСЫПАЕТ В КОРМУШКИ
Оуэн оценил бы книгу, которую я прочел всего два года назад это «Календарь войны во Вьетнаме» полковника Гарри Г. Саммерса-младшего. Полковник Саммерс — ветеран-пехотинец, прошедший Корею и Вьетнам. Он не из тех, кто будет ходить вокруг да около, как говаривали у нас в Грейвсенде. Вот хотя бы первое предложение этой замечательной книги: «Один из самых трагических итогов войны во Вьетнаме состоит в том, что, хотя американские вооруженные силы нанесли поражение войскам Северного Вьетнама во всех главных сражениях, все же Соединенные Штаты потерпели самое жестокое поражение в своей истории». Только представьте себе! На первой странице книги полковник Саммерс рассказывает об одном эпизоде с участием Франклина Делано Рузвельта, произошедшем во время Ялтинской конференции, где союзники решали вопрос о послевоенном переустройстве мира. Президент Рузвельт хотел отдать Индокитай генералу Чан Кайши, стоявшему тогда во главе Китая; однако генерал немного разбирался в истории Вьетнама и традициях этого народа. Чан Кайши понимал, что вьетнамцы — это не китайцы, они ни за что не дадут китайской нации спокойно поглотить себя. На щедрое предложение Рузвельта — о передаче Индокитая — Чан ответил просто: «Нам это ни к чему». Полковник Саммерс обращает внимание, что Соединенным Штатам потребовалось тридцать лет — плюс война, стоившая жизни пятидесяти тысячам американцев, — чтобы понять то, что Чан Кайши объяснил президенту Рузвельту еще в 1945 году. Только представьте себе!
Чему удивляться, что президент Рейган обещает «решимость» в Персидском заливе и что «его планы неясны»?
Скоро закончится учебный год; скоро ученицы школы епископа Строна разлетятся кто куда. Летом в Торонто жарко и душно, но я люблю смотреть, как дождевальные установки освежают траву у водохранилища Сент-Клэр; от этого парк Уинстона Черчилля все лето напролет остается ярко-зеленым, как джунгли. Семья преподобной Кэтрин Килинг владеет островком в заливе Джорджиан-Бей; Кэтрин всегда приглашает меня в гости — я обычно езжу туда хотя бы раз в лето и таким образом ежегодно получаю возможность покупаться в озере и подурачиться с чужими детьми. Мокрые спасательные жилеты, протекающие лодки, запах сосновых иголок и морилки для дерева — даже малая толика этих воспоминаний потом еще долго греет старых издерганных холостяков вроде меня.
А еще я летом езжу в Грейвсенд в гости к Дэну. Дэн обидится, если я не приеду посмотреть очередной спектакль, который он поставил с учениками летней школы в Грейвсендской академии. Он понимает, почему я отказываюсь смотреть его постановки со взрослой труппой. Мистер Фиш уже довольно стар, но все еще играет, вообще многие наши пожилые актеры-любители до сих пор играют у Дэна, но мне больше не хочется их видеть. И меня уже не увлекает разглядывание публики, которая больше двадцати лет назад представляла для нас с Оуэном таинственную загадку.
— НУ КАК, ЕСТЬ ОН ТАМ СЕГОДНЯ? — спрашивал меня шепотом Оуэн. — ТЫ ЕГО ВИДИШЬ?
В 61-м мы с Оуэном рассматривали зрителей в поисках единственного лица, когда-то мелькнувшего на той открытой трибуне — может быть, знакомого нам, а может, и нет. Мы искали человека, который ответил — а может, и не ответил — на мамин взмах рукой. На этом лице, думали мы, должно было запечатлеться какое-то особое выражение после того, как Оуэн Мини ударил по бейсбольному мячу. Это лицо, как мы подозревали, мама видела среди зрителей много раз — лицо, обращенное к ней не только с бейсбольной трибуны, но и из-за кадок с апельсиновыми деревьями и аквариумов с тропическими рыбками в «Апельсиновой роще». Мы искали лицо, глядя на которое пела «Дама в красном» — по крайней мере, однажды, а может, и не один раз.
— А ты видишь его? — спрашивал я Оуэна Мини.
— СЕГОДНЯ НЕТ, — отвечал Оуэн. — ИЛИ ЕГО СЕГОДНЯ ЗДЕСЬ НЕТ, ИЛИ ОН СЕЙЧАС НЕ ДУМАЕТ О ТВОЕЙ МАМЕ, — сказал он как-то в один из вечеров.
— Что ты имеешь в виду? — не понял я.
— ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ, ЧТО ДЭН ПОСТАВИЛ ПЬЕСУ ПРО МАЙАМИ, — сказал Оуэн Мини. — ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ, ЧТО «ГРЕЙВСЕНДСКИЕ ПОДМОСТКИ» ПОСТАВИЛИ ПЬЕСУ ПРО ВЕЧЕРНИЙ КЛУБ В МАЙАМИ, И ЧТО ЭТОТ КЛУБ НАЗЫВАЕТСЯ «АПЕЛЬСИНОВАЯ РОЩА», И ЧТО ТАМ ВЫСТУПАЕТ ПЕВИЦА, КОТОРУЮ ВСЕ ЗОВУТ «ДАМА В КРАСНОМ», И ЧТО ОНА ПОЕТ ТОЛЬКО ИЗ РАННЕГО РЕПЕРТУАРА СИНАТРЫ.
— Но такой пьесы ведь нет, — сказал я.
— НУ ТЫ ПРЕДСТАВЬ! — не унимался Оуэн. — ВКЛЮЧИ СВОЕ ВООБРАЖЕНИЕ. БОГ СКАЖЕТ ТЕБЕ, КТО ТВОЙ ОТЕЦ, НО ТЫ ДОЛЖЕН ПОВЕРИТЬ В ЭТО — ТЫ ДОЛЖЕН ЧУТЬ-ЧУТЬ ПОМОЧЬ БОГУ! НУ ПРЕДСТАВЬ, ЧТО ЕСТЬ ТАКАЯ ПЬЕСА!
— Ну, ладно, — сказал я. — Ну, представил.
— И ДАВАЙ НАЗОВЕМ ЭТУ ПЬЕСУ «АПЕЛЬСИНОВАЯ РОЩА» ИЛИ «ДАМА В КРАСНОМ» — ТЕБЕ НЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО УЖ ТАКУЮ ПЬЕСУ ТВОЙ ОТЕЦ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИДЕТ ПОСМОТРЕТЬ? И ТЕБЕ НЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ТОГДА-ТО УЖ МЫ ЕГО ТОЧНО УЗНАЕМ? — спросил Оуэн Мини.
— Да, пожалуй, — сказал я.
Загвоздка заключалась в том, что мы с Оуэном не отваживались рассказать Дэну об «Апельсиновой роще» и о «Даме в красном». Мы не были уверены, что Дэн обо всем этом знает. Я боялся, Дэн обидится, решит, что мне мало его отцовской заботы, — ведь мои настойчивые поиски биологического родителя можно расценить так, что он, Дэн, не вполне устраивает меня в роли отца.
А если Дэн ничего не знает насчет «Апельсиновой рощи» и «Дамы в красном», то не огорчится ли еще больше? Ведь мамино прошлое — до Дэна — получается еще романтичней, чем мне казалось. Нужно ли Дэну Нидэму терзаться романтическим прошлым моей мамы?
Оуэн сказал, что придумал, как сделать, чтобы в Грейвсендском любительском театре поставили пьесу о певице из клуба в Майами, и при этом не посвящать Дэна в наше открытие.
— ПЬЕСУ МОГ БЫ НАПИСАТЬ Я САМ, — сказал Оуэн Мини. — Я БЫ ПРЕДСТАВИЛ ЕЕ ДЭНУ КАК ПЕРВОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ СОЧИНЕНИЕ ДЛЯ ЕГО ТЕАТРА И В ДВА СЧЕТА ОПРЕДЕЛИЛ БЫ, ЗНАЕТ ДЭН ЭТУ ИСТОРИЮ ИЛИ НЕТ.
— Но ты ведь сам не все знаешь, — заметил я Оуэну. — У тебя нет никакой истории, у тебя есть только время и место действия — ну, и, может, очень приблизительный список действующих лиц.
— ХОРОШУЮ ИСТОРИЮ ПРИДУМАТЬ НЕТРУДНО, — сказал Оуэн Мини. — У ТВОЕЙ МАМЫ ЯВНО ИМЕЛИСЬ К ЭТОМУ СПОСОБНОСТИ — А ОНА ВЕДЬ ДАЖЕ НЕ БЫЛА ПИСАТЕЛЕМ.
— Можно подумать, ты писатель, — съязвил я.
Оуэн пожал плечами.
— ЭТО БУДЕТ НЕТРУДНО, — повторил он.
Но я сказал, чтобы он даже не пробовал, потому что мне не хотелось огорчать Дэна; если Дэн уже все знает — да если он знает хотя бы только время и место действия, — ему это точно будет неприятно, сказал я.






