Молитва об Оуэне Мини Ирвинг Джон
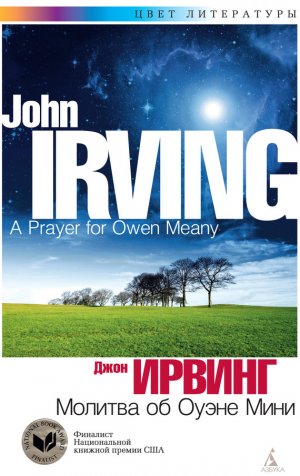
Трудно сказать, чем он их привлекал; но даже тогда, в шестнадцать, даже в минуты особенной застенчивости и смущения, он держался так, будто вполне заслуживает общее признание. Должно быть, я потому обратил внимание именно на это его свойство, что он и вправду заслуживал неизмеримо большего, чем я. И дело вовсе не в том, что он лучше меня учился, или лучше водил машину, или обладал эдакой философской уверенностью в себе: нет, рядом со мной находился тот, с кем я вместе рос и кого привык дразнить — я когда-то подхватывал его на руки, поднимал над головой и передавал вперед или назад; я в открытую потешался над его маленьким ростом вместе с другими ребятами, — и вдруг к шестнадцати годам он стал производить впечатление имеющего власть. Он имел куда больше власти над собой, чем любой из нас; и его власть над нами была существеннее, чем кого-либо другого, — а женщин, даже девчонок, что хихикали, глядя на него, — неодолимо тянуло к нему прикоснуться.
А к концу лета 58-го у него появилось нечто совершенно поразительное для шестнадцатилетнего подростка: в то время, когда еще никто слыхом не слыхивал ни про каких культуристов, у Оуэна выросли мускулы! Разумеется, он по-прежнему оставался крошечным, но при этом стал невероятно сильным. Сила его сухих крепких мускулов угадывалась, как у хорошей борзой. И хотя он был ужасно тощим, в его фигуре уже чувствовалось что-то очень взрослое — впрочем, что удивительного? Как-никак, он все лето работал с гранитом. Я тогда вообще еще не знал, что такое работать.
В июне он начал в качестве каменотеса; большую часть рабочего дня он проводил в мастерской, где учился разделывать гранит по направлению наилучшего раскола — или, как он сам это называл, ПО ХОДУ КАМНЯ — с помощью клиньев со щёчками. К середине месяца отец научил Оуэна резать поперек плоскости раскола. Распиловщики раскалывали крупные плиты на части, а их в свою очередь разрезали на подходящие для надгробий куски с помощью так называемого алмазного диска — циркулярной пилы, в режущий край которой запрессованы кусочки алмазов. В июле Оуэн уже работал в карьерах. Ему часто приходилось выполнять обязанности сигнальщика, но, чтобы Оуэн учился всему понемногу, отец иногда ставил его рядом с другими рабочими — с операторами врубовой машины, с крановщиком, с подрывниками. Большую часть августа Оуэн, как мне показалось, провел в одном и том же котловане, расположенном вдалеке от остальных, — это был карьер глубиной не менее ста семидесяти пяти футов и площадью с футбольное поле. Оуэна вместе с другими рабочими опускали туда в бадье для отхода («отходом» там называют щебенку, дробленую породу, которую вычерпывают из карьера с утра до вечера). В конце дня рабочих в той же бадье поднимали наверх.
Гранит — порода плотная, тяжелая; кубический фут его весит почти двести фунтов. Как ни странно, у большинства распиловщиков и камнерезов — несмотря на то что они работают с алмазным диском — все пальцы были на месте. Зато кого ни возьми из рабочих карьера — у всех не хватало пальца или двух. Только у мистера Мини все пальцы были целы.
— МОИ ТОЖЕ ВСЕ ОСТАНУТСЯ НА МЕСТЕ, — уверял Оуэн. — НАДО ПРОСТО НЕ ЗЕВАТЬ. НАДО УМЕТЬ ПОЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО ПОРОДА СЕЙЧАС НАЧНЕТ ШЕВЕЛИТЬСЯ, ЕЩЕ ДО ТОГО, КАК ОНА НА САМОМ ДЕЛЕ ЗАШЕВЕЛИТСЯ. КОРОЧЕ, НАДО САМОМУ ПОШЕВЕЛИВАТЬСЯ, ПОКА НЕ ПОШЕВЕЛИТСЯ КАМЕНЬ.
На верхней губе у Оуэна проступил едва заметный пушок — больше на лице не было заметно ни малейших признаков растительности, а эти хиленькие усишки выглядели до того нежными и бледными — почти бесцветными, что я поначалу принял их за гранитную крошку, привычную каменную пыль из карьера, что вечно к нему липла. В остальном же черты его лица — нос, запавшие глаза, скулы, линия подбородка — казались странно резкими; обычно у шестнадцатилетнего подростка такое костлявое лицо бывает только от недоедания.
К сентябрю он выкуривал по пачке «Кэмела» в день. Когда мы разъезжали по вечерам на красном пикапе, я изредка поглядывал на его профиль со свисающей в углу рта сигаретой, подсвеченный желтоватым мерцанием приборов; к тому времени лицо его окончательно приобрело взрослые очертания.
Сейчас его уже мало занимали груди тех мам, о которых он когда-то так неблагосклонно отозвался, сравнивая их с грудью моей мамы, хотя грудь Розы Виггин по-прежнему оставалась СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ, у миссис Уэбстер — СЛИШКОМ ОТВИСШЕЙ, а у миссис Меррил — просто ОЧЕНЬ СМЕШНОЙ. И хотя Джинджер Бринкер-Смит как молодая мама еще привлекала наше внимание, все же теперь мы стали оценивать — и по большей части беспристрастно — наших ровесниц. ОБЕ КЭРОЛАЙН — и Кэролайн Перкинс, и Кэролайн О'Дэй — казались нам очень даже ничего, хотя, по мнению Оуэна, грудь Кэролайн О'Дэй несколько проигрывала из-за того, что ее обладательница принадлежала к католической церкви. Грудь Морин Эрли он назвал ВЫЗЫВАЮЩЕЙ; грудь Ханны Эббот была МАЛЕНЬКОЙ, НО АККУРАТНЕНЬКОЙ; а грудь Айрин Бэбсон (та самая, от которой у Оуэна внутри что-то переворачивалось, еще когда он оценивал грудь моей мамы) сейчас до того расползлась, что стала СТРАШНОЙ КАК СМЕРТНЫЙ ГРЕХ. Дебора Перри, Люси Дирборн, Бетси Бикфорд, Сара Тилтон, Полли Фарнум — при упоминании их имен и обсуждении формы их юных грудей Оуэн Мини глубоко затягивался «Кэмелом». В приоткрытое окно пикапа с шумом врывался теплый летний ветер; Оуэн медленно выпускал через ноздри сигаретный дым, который красиво обволакивал его лицо и скользил прочь, — казалось, будто Оуэн каким-то чудесным образом превращается в человека из воздуха и огня.
— ПОКА ЕЩЕ СЛИШКОМ РАНО ГОВОРИТЬ — ИМ ВЕДЬ ТОЛЬКО ШЕСТНАДЦАТЬ, — откровенничал Оуэн. Сейчас он уже разговаривал тоном вполне искушенного юнца и мог бы поддержать соответствующую беседу в стенах Грейвсендской академии — хотя мы оба понимали: главная сложность с шестнадцатилетними девушками, на которых мы заглядывались, в том, что встречаются они с восемнадцатилетними парнями. — НИЧЕГО, КОГДА НАМ БУДЕТ ВОСЕМНАДЦАТЬ, МЫ ЗАПОЛУЧИМ ИХ ОБРАТНО, — не унывал Оуэн. — И ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИХ ТОЖЕ — ЛЮБЫХ, КАКИХ ТОЛЬКО ЗАХОТИМ, — добавлял он, снова и снова затягиваясь сигаретой и щурясь от фар встречных машин.
Осенью 58-го, когда мы начали учиться в Грейвсендской академии, Оуэн выглядел, на мой взгляд, изысканно: гардероб, который приобрела для него моя бабушка, был самым элегантным из всего, что можно купить в Нью-Хэмпшире. Мне всю одежду покупали в Грейвсенде, а Оуэна бабушка повезла в Бостон — так состоялось первое путешествие Оуэна на поезде. Поскольку и он и бабушка были заядлыми курильщиками, то заняли места в вагоне для курящих и всю дорогу обменивались замечаниями, в основном критическими, насчет того, как одеты их попутчики, и сравнивали проводников поезда «Бостон—Мэн» по степени учтивости (или отмечали полное отсутствие таковой). Бабушка экипировала его почти исключительно в фирменных магазинах «Файлинс» и «Джордан Марш»; в первом имелся отдел под названием «Для маленьких джентльменов», в другом подобный же отдел именовался «Все для невысоких мужчин». По нью-хэмпширским меркам, «Джордан Марш» и «Файлинс» были весьма престижными торговыми марками; «ЭТО НЕ КАКОЕ-НИБУДЬ УЦЕНЕННОЕ ТРЯПЬЕ», — гордо заявил Оуэн. В первый день занятий он заявился в Академию, похожий на маленького адвоката из Гарварда.
Оуэн не робел перед высокими парнями, потому что привык быть меньше всех, и он не робел перед старшими, потому что был умнее их. Он сразу же увидел принципиальную разницу между городком Грейвсендом и Академией городка Грейвсенда: городская газета под названием «Грейвсендский вестник» сообщала обо всех новостях, относящихся к разряду приличных, и считала все приличные новости важными; школьная газета под названием «Грейвсендская могила» сообщала обо всех неприличных новостях, какие только позволяла цензура куратора газеты, назначенного из числа преподавателей, и считала все приличные новости скучными.
В Грейвсендской академии был принят пренебрежительно-циничный стиль разговора; здесь с особым удовольствием критиковали все, к чему принято относиться серьезно; а выше всех котировались парни, видевшие свое назначение в том, чтобы ниспровергать стереотипы и менять правила. И потому для тех учеников Грейвсендской академии, кого раздражали любые ограничения, единственно приемлемым тоном был ядовитый — тот едкий, колкий, жгучий, уничтожающий сарказм, сочный язык которого Оуэн Мини успел уже неплохо усвоить, общаясь с моей бабушкой. Он довел свой саркастический тон до полного совершенства примерно с той же стремительностью, с какой сделался курильщиком (он стал выкуривать по пачке в день через месяц после того, как попробовал первую сигарету). В первом же семестре Оуэн получил прозвище Сарказмейстер на жаргоне того времени, когда принято было придумывать всем клички такого типа; Дэн Нидэм утверждает, что подобные образчики неувядаемого студенческого жаргона живы в Грейвсендской академии и по сей день. В школе епископа Строна я, признаться, не слыхал подобных кличек ни разу.
Но Оуэн Мини прослыл Сарказмейстером примерно так же, как здоровенный Забулдыга Йорк стал «Блевонмейстером», как Шкипер Хилтон — Прыщмейстером, как Моррис Уэст — Шнобельмейстером, как Даффи Суэйн (который слишком рано начал лысеть) стал Шевелюрмейстером, как Джордж Фогг, хоккеист из школьной команды, — Клюшкенмейстером, как Хорас Бригэм, известный всей школе дамский угодник, — Юбкенмейстером. Мне же так никто прозвища и не придумал.
Среди редакторов «Грейвсендской могилы», где Оуэн опубликовал свое первое сочинение (эссе, заданное нам по английскому), его знали под псевдонимом Голос. В этой сатирической публикации рассуждалось о том, из чего готовят обеды в школьной столовой; Оуэн озаглавил ее «ТАИНСТВЕННОЕ МЯСО» — и речь в ней шла о непонятного происхождения серых бифштексах, которыми нас кормили каждую неделю. В этой заметке, поставленной на место редакционной статьи, описывалась неведомая, возможно даже доисторическая, тварь, которую заковали в цепи и ГЛУХОЙ НОЧЬЮ притащили в подземную кухню Академии, где забили и заморозили.
Эта передовица и последующие затем еженедельные заметки, которые Оуэн сочинял для «Грейвсендской могилы», подписывались не именем — Оуэн Мини, а псевдонимом Голос; заметки набирались сплошь прописными буквами. «Я ВСЕГДА БУДУ ПЕЧАТАТЬ СВОИ ЗАМЕТКИ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, — пояснил Оуэн нам с Дэном, — ПОТОМУ ЧТО ЭТО СРАЗУ БУДЕТ ПРИКОВЫВАТЬ ВНИМАНИЕ ЧИТАТЕЛЯ, ОСОБЕННО ПОТОМ, КОГДА ГОЛОС СТАНЕТ ЧЕМ-ТО ВРОДЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ИНСТИТУТА.
И уже к Рождеству 58-го, когда мы учились в Академии еще только первый год, Голос Оуэна Мини и вправду стал ЧЕМ-ТО ВРОДЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ИНСТИТУТА. Даже в Конкурсной комиссии, специально созданной, чтобы подобрать для школы нового директора, интересовались мнением Голоса. Претендентам на должность директора давали почитать подшивку «Грейвсендской могилы»; насмешливые, язвительные настроения развитых не по годам школьников адекватно отражались на страницах газеты, и заметнее всего — в текстах, набранных сплошь заглавными буквами и мгновенно приковывающих взгляд. Среди преподавателей было несколько брюзгливых старых хрычей — впрочем, там хватало и молодых зануд, — которые на дух не переносили стиля оуэновских заметок; причем не только этих его вызывающе-высокомерных прописных. Дэн Нидэм рассказывал, что на собрании преподавателей не раз и не два разгорались жаркие споры вокруг «низкопробного уровня» необузданной оуэновой критики. Да, здесь давно вошло в традицию, что ученики выказывают недовольство порядками в Академии, однако кое для кого сарказм Оуэна означал полное и пугающее неуважение. Дэн защищал Оуэна как мог, однако Голос явно раздражал многих не таких уж и безобидных личностей, причастных к Академии, — в том числе сравнительно далеких, но влиятельных подписчиков «Грейвсендской могилы», коими являются «обеспокоенные» родители и бывшие выпускники Академии.
Тема «обеспокоенных» родителей и бывших выпускников вдохновила Голос на особенно яркую заметку, вызвавшую множество споров.
«ЧЕМ ЖЕ ОНИ ТАК «ОЗАБОЧЕНЫ»? — размышлял Оуэн. — МОЖЕТ, ИХ «БЕСПОКОИТ» НАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОНИ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ОНО БЫЛО ОДНОВРЕМЕННО И «КЛАССИЧЕСКИМ» И «СОВРЕМЕННЫМ»? ИЛИ ЖЕ ОНИ «ОЗАБОЧЕНЫ» ТЕМ, ЧТО МЫ МОЖЕМ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ МОГЛИ ОНИ В СВОЕ ВРЕМЯ? НАСТОЛЬКО БОЛЬШЕ, ЧТО МОЖЕМ ПОСТАВИТЬ ПОД СОМНЕНИЕ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ИХ НАИБОЛЕЕ КОСНЫХ И ИДИОТСКИХ УБЕЖДЕНИЙ? МОЖЕТ, ОНИ «ОБЕСПОКОЕНЫ» КАЧЕСТВОМ И ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬЮ НАШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ; ИЛИ ЖЕ ИХ ПРОСТО-НАПРОСТО «БЕСПОКОИТ», ЧТО МЫ МОЖЕМ НЕ ПОСТУПИТЬ В ОДИН ИЗ ТЕХ УНИВЕРСИТЕТОВ ИЛИ КОЛЛЕДЖЕЙ, ЧТО ОНИ ЗА НАС ВЫБРАЛИ?»
Затем вышла заметка, в которой оспаривались правила, предписывающие школьникам ходить в костюме с галстуком: «ЭТО НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО — ЗАСТАВЛЯТЬ НАС ОДЕВАТЬСЯ КАК ВЗРОСЛЫХ И ПРИ ЭТОМ ОБРАЩАТЬСЯ С НАМИ КАК С ДЕТЬМИ». Затем — статья насчет обязательного посещения церкви, где говорилось: «О КАКОМ МОЛИТВЕННОМ ИЛИ БЛАГОГОВЕЙНОМ НАСТРОЕНИИ МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ, КОГДА ЦЕРКОВЬ — ЛЮБАЯ ЦЕРКОВЬ — БИТКОМ НАБИТА НЕУГОМОННЫМИ ПОДРОСТКАМИ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЧЛИ БЫ В ЭТО ВРЕМЯ ПОСПАТЬ, ИЛИ ПРЕДАТЬСЯ СЕКСУАЛЬНЫМ ФАНТАЗИЯМ, ИЛИ ПОИГРАТЬ В СКВОШ? ВООБЩЕ, ЕСЛИ ТРЕБОВАТЬ ОТ УЧЕНИКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПОСЕЩЕНИЯ ЦЕРКВИ, ЗАСТАВЛЯТЬ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ УЧАСТВОВАТЬ В ОБРЯДАХ РЕЛИГИИ, КОТОРУЮ ОНИ НЕ ИСПОВЕДУЮТ, — ТО ВСЕ ЭТО ПРИВЕДЕТ ЛИШЬ К ТОМУ, ЧТО У ЭТИХ САМЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ПРОСТО-НАПРОСТО ПОЯВИТСЯ ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ ПРОТИВ ЛЮБОЙ ВЕРЫ, ПРОТИВ ЛЮБОГО ИСКРЕННЕ ВЕРУЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА. Я НЕ ДУМАЮ, ЧТО ЛИБЕРАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТАВИТ СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ УМНОЖИТЬ И УГЛУБИТЬ НАШИ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ».
И так далее в том же духе. Стоило только послушать, что он выдал на тему обязательных занятий физкультурой: «У ЭТОЙ ИДЕИ ФАШИСТСКИЕ КОРНИ — ТАК РАСТИЛИ ГИТЛЕРЮГЕНД!» А вот что он сказал насчет правил, по которым проживающим в общежитиях разрешалось на выходные покидать территорию Академии не чаще трех раз за семестр: «НЕУЖЕЛИ НА ВЗГЛЯД АДМИНИСТРАЦИИ МЫ ТАКИЕ ПРИМИТИВНЫЕ, ЧТО НА ВЫХОДНЫЕ ОБОЙДЕМСЯ СПОРТИВНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ — В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКОВ ИЛИ БОЛЕЛЬЩИКОВ? А МОЖЕТ, КОЕ-КОМУ ИЗ НАС БУДЕТ ПОЛЕЗНЕЕ ПОБЫВАТЬ ДОМА ИЛИ У ДРУГА — ИЛИ (ДАЖЕ!) В ШКОЛЕ ДЛЯ ДЕВУШЕК? Я НЕ ИМЕЮ В ВИДУ ЭТИ ЗАОРГАНИЗОВАННЫЕ ВЕЧЕРА ТАНЦЕВ ПОД ПОЗОРНЫМ ПРИСМОТРОМ НАЧАЛЬСТВА».
Голос был нашим голосом; он отстаивал наши интересы; он помогал нам сохранять гордость в этой пугающей и принижающей наше достоинство обстановке. Но его голос мог бросить обвинения и нам. Когда одного парня выкинули из Академии за то, что он убивал кошек (он ритуально линчевал домашних кошек наших преподавателей), мы все поспешили обозвать его «садистом». И не кто иной, как Оуэн, напомнил нам, что все мальчишки (в том числе и он сам) прошли через эту болезнь. «КТО МЫ ТАКИЕ, ЧТОБЫ СЧИТАТЬ СЕБЯ ПРАВЕДНИКАМИ? — вопрошал он нас. — Я САМ УБИВАЛ ЖАБ И ГОЛОВАСТИКОВ — Я ВИНОВЕН В МАССОВЫХ УБИЙСТВАХ НЕВИННЫХ ЖИВОТНЫХ! — Он описывал собственные злодейства самоуничижительно и покаянно; хотя он попутно признался и в некотором глумлении над причисленной к лику святых Марии Магдалине, меня позабавило, что он не удосужился извиниться перед монахинями школы Святого Михаила — ему было жаль лишь головастиков и жаб. — КАКОЙ МАЛЬЧИШКА ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ НЕ УБИВАЛ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ? ДА, КОНЕЧНО, ТОЛЬКО «САДИСТ» МОЖЕТ ВЕШАТЬ БЕДНЫХ КОШЕК, НО НАМНОГО ЛИ ЭТО ХУЖЕ ТОГО, ЧТО ДЕЛАЛ В СВОЕЙ ЖИЗНИ ПОЧТИ КАЖДЫЙ ИЗ НАС? НАДЕЮСЬ, МЫ ПОВЗРОСЛЕЛИ И ПОУМНЕЛИ, НО РАЗВЕ ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО МЫ ЗАБЫЛИ О ТОМ, КАКИМИ БЫЛИ? А ПРЕПОДАВАТЕЛИ РАЗВЕ НЕ ПОМНЯТ, КАКИМИ ОНИ БЫЛИ В ДЕТСТВЕ? ПОЧЕМУ ОНИ УВЕРЕНЫ, ЧТО ИМЕЮТ ПРАВО УЧИТЬ НАС ЖИТЬ, ЕСЛИ САМИ НЕ ПОМНЯТ, КАКИМИ БЫЛИ В НАШЕМ ВОЗРАСТЕ? ЕСЛИ В ЭТОМ ЗАВЕДЕНИИ И ВПРАВДУ ТАК ЗДОРОВО УЧАТ, ПОЧЕМУ НЕ НАУЧИТЬ ЧЕЛОВЕКА, ЧТО УБИВАТЬ КОШЕК — ЭТО «САДИЗМ»? ПОЧЕМУ НУЖНО СРАЗУ ВЫГОНЯТЬ ЕГО?»
Исключение из Академии со временем станет одной из постоянных тем его заметок «ПОЧЕМУ НУЖНО СРАЗУ ВЫГОНЯТЬ ЕГО?» — снова и снова будет спрашивать Оуэн. Когда он соглашался, что кого-то нужно выгнать, он так и говорил. Распитие спиртного наказывалось исключением из Академии, но Оуэн заявил, что тех, кто втягивает других в пьянство, нужно наказывать гораздо строже, чем тех, кто пьет в одиночку; также он считал, что пьянство в основном бывает «МЕНЕЕ ПАГУБНО, ЧЕМ ЕДВА ЛИ НЕ СТАВШИЕ НОРМОЙ СЛУЧАИ, КОГДА НЕ ОЧЕНЬ «КРУТЫХ» РЕБЯТ ОБИЖАЮТ ТЕ, КТО СЧИТАЕТ, БУДТО ГРУБОСТЬ И АГРЕССИЯ — КАК СЛОВЕСНАЯ, ТАК И ФИЗИЧЕСКАЯ — ЭТО ОЧЕНЬ «КРУТО». ЖЕСТОКИЕ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА ХУЖЕ ПЬЯНСТВА; ТОТ, КТО БЕЗЖАЛОСТНО НАСМЕХАЕТСЯ НАД СВОИМИ ОДНОКАШНИКАМИ, ВИНОВЕН БОЛЬШЕ И ДОЛЖЕН БЫТЬ НАКАЗАН СТРОЖЕ, ЧЕМ ТОТ, КТО ПЬЕТ, — ОСОБЕННО ЕСЛИ ЕГО ПЬЯНСТВО НИКОМУ, КРОМЕ НЕГО САМОГО, НЕ ВРЕДИТ».
Все хорошо знали, что сам Голос не пьет спиртного. Его звали Мини-Черный-Кофе и Мини-Дымоглот; Оуэн слишком ценил собственный интеллект — свой трезвый и острый ум — и не хотел ничем притуплять. Его статья под названием «ОПАСНОСТЬ АЛКОГОЛЯ И НАРКОТИКОВ» не могла не понравиться даже его критикам. Если он не боялся преподавателей, то уж своих сверстников он не боялся и подавно. Мы еще учились на первом курсе, то бишь были по сути девятиклассниками, когда Оуэн пригласил Хестер на вечер танцев для выпускного класса. Подумать только: Оуэн Мини набрался духу пригласить на вечеринку, что проходила в классе Ноя и Саймона, их ужасную сестрицу!
— Она просто использует тебя, чтобы познакомиться с другими парнями, — предупредил его Ной.
— Она перетрахает весь наш класс, а ты будешь стоять и потолок разглядывать, — сказал Саймон Оуэну.
Он меня прямо взбесил — мне-то не хватило смелости пригласить Хестер; но, с другой стороны, разве можно приглашать на вечеринку собственную двоюродную сестру?
Мы все — и я, и Ной, и Саймон — заранее сочувствовали Оуэну. Да, он завоевал наше восхищение, но здорово рисковал поставить себя — и всех нас — в глупое положение, если Хестер воспользуется им просто как отмычкой, открывающей для нее двери Грейвсендской академии.
— Похотливая Самка, — раз за разом с досадой повторял Саймон.
— Обычная деваха из Сойера, только и всего, — снисходительно заметил Ной.
Однако Хестер знала о Грейвсендской академии гораздо больше, чем любой из нас мог бы подумать. В тот благоухающий весенний вечер 1959-го Хестер приехала подготовленной. В конце концов, Оуэн посылал ей все выпуски «Грейвсендской могилы»; и пусть когда-то она относилась к Оуэну с презрением — она называла его и «тронутым», и «недоделанным», и «голубым», — все же Хестер была не такая дура, она уловила, что взошла его звезда. К тому же она и сама не признавала авторитетов, а потому неудивительно, что Голос покорил сердце нашей сестры.
Каким бы ни был на самом деле ее опыт с темнокожим лодочником с Тортолы, эта встреча добавила юной, буйно расцветающей женственности Хестер толику сдержанности, которую женщины приобретают только после каких-нибудь чрезвычайно трагических любовных перипетий. Вдобавок к своей таинственной и порочной первобытной красоте, вдобавок к тому, что она здорово похудела, отчего ее внушительная полная грудь смотрелась привлекательнее и выразительнее очерчивались скулы на смугловатом лице, Хестер сейчас держалась слегка отстраненно — ровно настолько, чтобы ее опасная притягательность стала одновременно и более утонченной, и более могущественной. Осторожность придала ей зрелости; Хестер всегда умела одеваться — думаю, это фамильное; носила она неброские дорогие вещи — но чуть более небрежно, чем рассчитывал модельер, да и сидела на ней одежда не совсем так, как он подразумевал. Ее тело хорошо смотрелось бы в джунглях, прикрытое только в самых необходимых местах звериными шкурами или пучками травы. На ту вечеринку она надела короткое черное платье с тонкими, как струна, бретельками и широкой юбкой. Оно плотно облегало талию, а глубокий треугольный вырез открывал шею и грудь Хестер во всей красе, — и на этом соблазнительном фоне лежало ожерелье из розово-серого жемчуга, которое тетя Марта подарила ей на семнадцатилетие. Чулок Хестер не надела и танцевала босиком; одну из ее лодыжек обвивал черный ремешок из сыромятной кожи, с которого свисала, касаясь ступни, какая-то побрякушка из бирюзы. Подобная вещь может быть ценной, только если навевает воспоминания; Ной намекнул, что это подарок лодочника с Тортолы. Все преподаватели, дежурившие на вечеринке — а равно и их жены, — не сводили с Хестер глаз. Она сразила в тот вечер всех до единого. Когда Оуэн Мини танцевал с ней, удобно уткнувшись носом в ложбинку между ее грудей, никто даже не вздумал над ними подтрунивать.
Вот такими мы предстали в тот вечер, в своих взятых напрокат смокингах, — мальчишки, которых гораздо больше страшат прыщи, чем война. Правда, смокинг Оуэна был не из проката — ему купила его моя бабушка, и своим покроем, своей дорогой неброскостью и гладкостью атласа на узких лацканах красноречиво подчеркивал то, что представлялось нам таким очевидным: только Голосу под силу выразить все то, что сами мы сказать не в состоянии.
Как и на всех вечеринках в Академии, окончание танцев сопровождалось утроенной бдительностью взрослых. Ни одна душа не могла уйти раньше положенного, а когда кто-то уходил, провожая приглашенную им девушку в спальные комнаты для гостей, он должен был вернуться к себе в общежитие и отметиться не позже чем через пятнадцать минут после того, как отметился на выходе. Но Хестер-то ночевала в доме 80 на Центральной.
Я чувствовал себя слишком уязвленным, чтобы провести эти выходные у бабушки вместе с Хестер, которую пригласил Оуэн, и потому отправился в общежитие к. Дэну вместе с другими ребятами, вернувшимися к привычному школьному распорядку. Оуэн, который не состоял на пансионе и потому имел постоянное разрешение ездить на машине на учебу и домой, повез Хестер обратно, в дом 80 на Центральной. Едва очутившись в кабине красного пикапа, Хестер с Оуэном почувствовали себя свободными от запретов и ограничений комиссии по проведению вечера танцев. Они закурили, и облако сигаретного дыма скрыло напускное довольство, написанное на их физиономиях. Каждый расслабленно свесил руку из опущенных окон, Оуэн включил погромче радио и с шиком укатил прочь. С сигаретой в зубах, с Хестер под боком — да еще в смокинге и в высокой кабине красного пикапа — Оуэн Мини и сам казался почти что высоким!
Некоторые парни утверждали, что «делали это» в кустах — в промежутке между уходом с вечеринки и возвращением в общежитие. Другие не прочь были щегольнуть техникой поцелуев в фойе, отваживались «обжиматься» в раздевалках и всячески бросали вызов надсмотрщикам, готовым пресечь любую развязность вроде щекотания языком уха своей девушки. Но Оуэн с Хестер вовсе не собирались пошло и грубо демонстрировать свое влечение друг к другу на людях, если не считать того всеми виденного танца, когда его нос уютно покоился между грудей Хестер. И как же здорово он потом дал нам понять, что мы еще сопляки, когда отказался обсуждать Хестер с нами. Если даже Голос и «делал это» с ней, то похваляться вовсе не собирался. Он отвез Хестер обратно, в дом 80 на Центральной, и там они вместе смотрели «Вечерний сеанс», после чего Оуэн уехал к себе домой. «БЫЛО УЖЕ ДОВОЛЬНО ПОЗДНО», — признался он потом.
— Ну и какое было кино? — спросил я.
— КАКОЕ ЕЩЕ КИНО? ГДЕ?
— В «Вечернем сеансе», где же еще!
— А-А, ДА НЕ ПОМНЮ Я…
— Хестер, видно, утрахала его до умопомрачения, — мрачно выдал Саймон.
Ной тут же больно стукнул брата.
— Но когда такое бывало, чтобы Оуэн «не помнил», какое было кино! — оправдываясь, вскрикнул Саймон; Ной снова стукнул его. — Он ведь помнит даже «Багряницу»! — заверещал Саймон; Ной заехал ему по зубам, и Саймон стал отчаянно отмахиваться кулаками. — Все равно! — вопил он. — Хестер трахается со всеми подряд!
Ной схватил брата за горло.
— Этого мы не знаем, — отчетливо произнес он.
— Но догадываемся! — орал Саймон.
— Догадывайся сколько хочешь, — сказал Ной брату; он обхватил Саймона рукой вокруг головы и стал мять ему нос, так что скоро оттуда потекла кровь. — Но чего мы не знаем, о том мы не говорим, понял?
— Хестер утрахала Оуэна до умопомрачения! — снова завопил Саймон. Ной резко двинул локтем брату между глаз.
— Этого мы не знаем, — повторил он; но я давно успел привыкнуть к их диким потасовкам и уже не пугался. Их жестокость казалась повседневной и безобидной по сравнению с моими противоречивыми чувствами к Хестер и лютой завистью к Оуэну.
И снова, как всегда, Голос поставил нас всех на место: «ВСПОМИНАЯ О ТОМ ЗЛОПОЛУЧНОМ ВЕЧЕРЕ ТАНЦЕВ, ТРУДНО СКАЗАТЬ, КОМУ СЛЕДУЕТ БОЛЬШЕ СТЫДИТЬСЯ ЗА СЕБЯ — НАШИМ УВАЖАЕМЫМ УЧЕНИКАМ АКАДЕМИИ ИЛИ НАШИМ УВАЖАЕМЫМ ДЕЖУРНЫМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ. КОГДА МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ОБСУЖДАЮТ, КОМУ ЧЕГО УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ ОТ ПРИГЛАШЕННЫХ ИМИ ПОДРУЖЕК, ЭТО ГОВОРИТ ОБ ИХ ИНФАНТИЛЬНОСТИ; ПОДОБНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ НЕУВАЖЕНИЯ К ЖЕНЩИНЕ — РАДИ ДЕШЕВОЙ БРАВАДЫ — СОЗДАЕТ МУЖЧИНАМ ДУРНУЮ РЕПУТАЦИЮ. С КАКОЙ СТАТИ ЖЕНЩИНЫ БУДУТ ДОВЕРЯТЬ НАМ ПОСЛЕ ЭТОГО? ОДНАКО НЕИЗВЕСТНО, ЧТО ХУЖЕ: ПОДОБНОЕ ХАМСТВО ИЛИ ГЕСТАПОВСКИЕ МЕТОДЫ НАШИХ ПУРИТАНСКИ НАСТРОЕННЫХ СОГЛЯДАТАЕВ. В ДЕКАНАТЕ МНЕ СООБЩИЛИ, ЧТО ДВОЕ ВЫПУСКНИКОВ ПОЛУЧИЛИ ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СРОКИ — ДО КОНЦА СЕМЕСТРА! — ЗА СВОЮ ЯКОБЫ «ВЫЗЫВАЮЩУЮ РАЗВЯЗНОСТЬ». Я ПОДОЗРЕВАЮ, ОБА ЭТИ ПРОИСШЕСТВИЯ ПОДПАЛИ ПОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДОСУДИТЕЛЬНОГО ПРОСТУПКА, ИМЕНУЕМОГО: «БЕЗНРАВСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ С ДЕВУШКОЙ».
РИСКУЯ НАВЛЕЧЬ НА СЕБЯ УПРЕКИ В ПОТАКАНИИ РАЗВРАТУ, Я ВСЕ ЖЕ НАМЕРЕН ОБНАРОДОВАТЬ ЧУДОВИЩНУЮ СУЩНОСТЬ ЭТИХ ДВУХ ПРЕГРЕШЕНИЙ ПРОТИВ ШКОЛЫ И ЖЕНСКОГО ПОЛА. ПРЕГРЕШЕНИЕ ПЕРВОЕ: ПАРНЯ ОБНАРУЖИЛИ В КОМНАТЕ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ ВОЗЛЕ СПОРТЗАЛА, КОГДА ОН «ОГЛАЖИВАЛ» СВОЮ ПОДРУЖКУ. ПОСКОЛЬКУ И ОН И ОНА БЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ ОДЕТЫ — К ТОМУ ЖЕ ОБА СТОЯЛИ, — ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ МАЛОВЕРОЯТНЫМ, ЧТОБЫ ПОСЛЕДСТВИЕМ ПОДОБНОГО ОБЩЕНИЯ МОГЛА СТАТЬ БЕРЕМЕННОСТЬ. СОМНЕВАЮСЬ ДАЖЕ, ЧТО ОНИ РИСКОВАЛИ ЗАРАЗИТЬСЯ ГРИБКОМ ОТ ПОЛА СПОРТЗАЛА, ЧЕМ, КАК МЫ ЗНАЕМ, ПОСЛЕДНИЙ ПЕЧАЛЬНО ЗНАМЕНИТ. ПРЕГРЕШЕНИЕ ВТОРОЕ: ДРУГОГО ПАРНЯ УВИДЕЛИ, КОГДА ОН ВЫХОДИЛ ИЗ КУРИЛКИ ВОЗЛЕ КОМНАТЫ-МУЗЕЯ БЭНКРОФТА ВМЕСТЕ С ПОДРУЖКОЙ, ЧЬЕ УХО ОН В ЭТОТ МОМЕНТ ЩЕКОТАЛ ЯЗЫКОМ, — СОГЛАСЕН, СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО АКАДЕМИИ ДОВОЛЬНО СТРАННЫЙ И ЯВНО РАССЧИТАННЫЙ НА ПУБЛИКУ, ОДНАКО СЛУЧАЕВ, КОГДА ПОДОБНАЯ СТЕПЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО СБЛИЖЕНИЯ ПРИВОДИЛА К БЕРЕМЕННОСТИ, ТОЖЕ НЕ ОТМЕЧЕНО. НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ, ТАКИМ СПОСОБОМ ЗАТРУДНИТЕЛЬНО ЗАРАЗИТЬСЯ ДАЖЕ ОБЫЧНЫМ НАСМОРКОМ».
После этого эпизода у претендентов на должность директора вошло в обычай, проходя собеседование, просить встречи с Оуэном. Внутри конкурсной комиссии существовал ученический подкомитет, имевший право на собственное собеседование с любым кандидатом; но когда кто-нибудь из кандидатов просил встретиться с Голосом, Оуэн настаивал на ЗАКРЫТОЙ АУДИЕНЦИИ. Вопрос о том, предоставлять Оуэну эту привилегию или нет, обсуждался на специальном собрании преподавателей, где страсти накалились до предела. По словам Дэна, возникли даже поползновения заменить куратора «Грейвсендской могилы», — нашлись такие, кто сказал, что куратору не следовало пропускать в печать «беременные шуточки» из оуэновой статьи про вечер танцев для старшеклассников. Но куратор «Грейвсендской могилы» благоволил к Оуэну Мини; мистер Эрли — доморощенный трагик, привносивший в любую роль мрачно-напыщенную невнятицу а-ля король Лир, — вопил, что, если потребуется, он будет защищать «самобытный талант» Голоса «до последнего вздоха». Дэн Нидэм, правда, полагал, что до этого не дойдет; а вот поддержка Оуэна таким болваном, как мистер Эрли, определенно вредна, лучше бы его вообще никто не защищал.
Несколько кандидатов признали, что собеседование с Голосом «привело их в некоторую растерянность». Не сомневаюсь, они оказались не готовы к его маленькому росту, а когда он начинал с ними говорить, у них внутри наверняка что-то переворачивалось от нелепости этого голоса — все, что произносилось этим голосом, следовало писать исключительно заглавными буквами. Один кандидат, имевший неплохие шансы, сам забрал свое заявление. Хотя не было прямых свидетельств тому, что именно Оуэн обратил его в бегство, кандидат признался, что среди школьников Академии заметны определенные признаки «устоявшегося цинизма» и это его «угнетает». Он добавил, что ученики всячески подчеркивают свое «превосходство» и «такую свободу слова, что их либеральное образование кажется слишком уж либеральным».
— Что за ерунда! — возмущался Дэн Нидэм на собрании преподавателей. — Оуэн Мини вовсе не циник! Если этот тип имел в виду Оуэна, то он сильно ошибся. Ну и скатертью дорога!
Но так думали не все преподаватели. Конкурсной комиссии потребовался еще целый год, чтобы найти нужного кандидата. Нынешний директор любезно согласился ради блага школы повременить с уходом на пенсию. Он всегда старался все делать «ради блага школы», этот старый директор, и именно его поддержка какое-то время ограждала Оуэна Мини от нападок недоброжелателей.
— Он такой чудесный малый! — говорил директор. — Я не променяю статьи Голоса ни на что на свете!
Его звали Арчибалд Торндайк, и он был директором школы с незапамятных времен. Когда-то давно он женился на дочери своего предшественника; таким образом, он был привязан к «старой школе» так прочно, как только может быть привязан школьный директор. И хотя более молодых и увлеченных передовыми идеями преподавателей порой возмущало упорное нежелание Арчи Торндайка менять хоть что-то в учебных программах и требованиях к выпускному диплому — не говоря уже о взглядах старого директора на «всесторонне развитое юношество», — при всем том врагов у него не было. Старина Торни, как его называли (он даже мальчикам предлагал обращаться к нему «Торни»), обладал властной, но при этом такой приветливой и непринужденной манерой общения, что очаровывал любого собеседника. Высокий, широкоплечий, седоволосый, с лицом гладким и выдубленным, как весло, Арчи, кстати, был классным гребцом и вообще любил отдыхать на свежем воздухе, предпочитал носить мягкие, бесформенные брюки — типа вельветовых или галифе — и твидовый пиджак с заплатами на локтях, часто плохо пришитыми. Он всегда, в любую стужу, ходил без шапки — при наших-то нью-хэмпширских зимах! — и так рьяно поддерживал школьные спортивные команды, что даже шрам от хоккейной шайбы носил с гордостью, словно знак отличия. Шайба угодила ему чуть выше глаза, когда он стоял на воротах в ежегодном матче между командой Академии и бывшими выпускниками. Торни был почетным учеником нескольких выпускных классов Грейвсендской академии; он стоял на воротах во всех играх бывших выпускников.
— Хоккей — это игра не для слабачков! — посмеивался он. А когда обстоятельства потребовали серьезности, он говорил, защищая Оуэна Мини: — Образованные люди — вот кто будет совершенствовать наше общество. И начнут они с того, что станут критиковать его, а мы сейчас даем им в руки орудия для этой критики. Естественно, самые способные из учеников начнут перестраивать наше общество с того, что станут критиковать нас.
Разговаривая с Оуэном, старый Арчи Торндайк пел немного другую песню:
— Ваша задача в том, чтобы найти во мне недостатки, а моя — в том, чтобы вас внимательно выслушать. Но не рассчитывайте, что я что-нибудь стану менять. Я ничего менять уже не собираюсь, я собираюсь уйти на пенсию! А вы возьмите нового, молодого директора. Я тоже раньше любил перемены — когда только-только стал директором.
— А ЧТО ВЫ ПОМЕНЯЛИ ЗДЕСЬ? — спросил его Оуэн Мини.
— Вот еще и поэтому я ухожу на пенсию! — улыбаясь ответил старина Торни. — Память у меня уже ни к черту!
Оуэн считал Арчибалда Торндайка законченным идиотом с душой нараспашку; но при этом все кругом, даже Голос, называли его «славным парнем». «ОТ СЛАВНЫХ ПАРНЕЙ ВСЕГДА ТРУДНЕЕ ВСЕГО ИЗБАВИТЬСЯ», — написал Оуэн в «Грейвсендской могиле»; но такое даже мистеру Эрли хватило ума вымарать.
А потом настало лето; Голос снова стал работать в карьере — вряд ли ему много приходилось говорить там внизу, в этих ямах, — а я получил свою первую работу. Меня назначили экскурсоводом по Грейвсендской академии; я показывал школу будущим ученикам и их родителям — работа довольно муторная, но уж никак не тяжелая. Мне дали связку универсальных ключей — такую огромную ответственность на меня возложили впервые в жизни — и полную свободу выбора: какой «типичный» учебный кабинет и какую «типичную» общежитскую комнату показывать. Я наугад открывал комнаты в Уотерхаус-Холле, смутно надеясь застать врасплох мистера и миссис Бринкер-Смит за очередными играми. Но их двойняшки уже подросли, и, наверное, Бринкер-Смиты перестали «делать это» с былым упоением.
По вечерам, когда мы приезжали в Хэмптон-Бич, Оуэн выглядел усталым. Я-то являлся в приемную комиссию к началу первой экскурсии в десять часов, а Оуэн каждый день уже в семь утра залезал в свою бадью. Ногти у него были обломаны, руки все в ссадинах и ушибах; худые плечи загорели и окрепли. О Хестер он предпочитал помалкивать. Летом 59-го мы впервые добились кое-каких успехов по части знакомства с девушками; или, скорее, Оуэн добился — он знакомил меня со всеми девушками, которых ему удавалось подцепить. В то лето мы так и не попробовали «сделать это»; по крайней мере, я не попробовал, а Оуэн, насколько я знаю, никогда не ходил на свидания в одиночку.
— ИЛИ МЫ ВСТРЕЧАЕМСЯ ПАРАМИ, ИЛИ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ, — огорошивал он одну девчонку за другой. — ПРИВОДИ С СОБОЙ ПОДРУЖКУ, А НЕТ — ТОГДА ДО СВИДАНИЯ.
И теперь мы уже не боялись прохаживаться пешком в крытых галереях с игральными автоматами вокруг казино. Местные хулиганы попробовали было снова привязаться к Оуэну, но очень скоро у него утвердилась репутация неприкосновенного.
— ХОЧЕШЬ МЕНЯ ПОБИТЬ? — говорил он очередному подонку. — ХОЧЕШЬ СЕСТЬ В ТЮРЬМУ? ПОСМОТРИ НА СЕБЯ — ТЫ ЖЕ ТАКОЙ УРОД, ДУМАЕШЬ, МНЕ ТРУДНО БУДЕТ ПОТОМ ТЕБЯ ОПОЗНАТЬ? — Затем он указывал на меня пальцем: — ВИДИШЬ ЕГО? ТЫ ЧТО, МУДИЛА, НЕ ЗНАЕШЬ, ЧТО ТАКОЕ СВИДЕТЕЛЬ? НУ ВАЛЯЙ, БЕЙ МЕНЯ!
Один таки начал его бить — вернее, попробовал. Это было похоже на атаку собаки на енота: собака при этом выбивается из сил, а енот пользуется этим и берет верх. Оуэн просто сжался в комок, закрылся со всех сторон и стал охотиться за ладонями и ступнями своего противника. Ладонь он поймал и стал выворачивать пальцы, стремясь одновременно стащить с парня туфлю и заняться еще и пальцами ног. На него сыпались удары, но он словно превратился в компактный мячик Он сломал этому типу мизинец, дернув с такой силой, что палец торчал наружу перпендикулярно кисти. Кроме того, Оуэну удалось-таки сорвать с хулигана туфлю и прокусить ему пальцы ног. Крови натекло много, но на ноге был носок — я не мог видеть истинных размеров раны, могу сказать только, что ковылял этот тип с большим трудом. Его оттащил от Оуэна торговец сахарной ватой, а буквально через пару минут забияку арестовали за нецензурную брань. Говорят, его отправили в исправительную школу — он, как оказалось, ездил на угнанной машине. Больше мы его на побережье никогда не видели, а об Оуэне пошла молва — на пляже, около казино и по всей набережной, — что с ним опасно связываться. Прошел слух, будто Оуэн откусил кому-то ухо. Другим летом я слышал, будто он выколол парню глаз палочкой от мороженого. Мало ли что эти истории звучали не очень-то правдоподобно; про Оуэна говорили: «тот самый тип, что ездит на красном пикапе», «он работает в каменоломне и носит с собой какую-то железяку» и «маленький гаденыш — держись от него подальше».
Нам тогда было семнадцать; лето прошло довольно уныло. Осенью Ной с Саймоном начали учиться в колледже на Западном побережье; их отправили в какой-то из университетов в Калифорнии, о которых на Восточном побережье никто и слыхом не слыхивал. Истмэны по-прежнему вели себя неблагоразумно, считая Хестер менее достойной их заботы; ее отправили в Нью-Хэмпширский университет, где она, как постоянный житель штата, имела право на льготы по оплате. На что Хестер заметила: «Они хотят держать меня под боком».
— ОНИ ПОСАДИЛИ ЕЕ ПОД БОК К НАМ, — со своей стороны заметил Оуэн: университет штата был всего в двадцати минутах езды от Грейвсенда. Тот довод, что университет этот, несомненно, лучше, чем калифорнийский «клуб любителей загара», который посещали Ной с Саймоном, не производил на Хестер никакого впечатления. Мальчишкам, видите ли, можно путешествовать за тридевять земель, мальчишкам можно учиться там, где всегда хорошая погода, — а ей можно только сидеть дома. Тех, кто родился и вырос в Нью-Хэмпшире, университет родного штата — пусть он обеспечивал вполне солидное образование — не вдохновлял; ученики Грейвсендской академии с их аристократическими замашками, признающие только университеты Лиги Плюща, называли Нью-Хэмпширский университет безнадежной «сельской школой». Но когда мы осенью 59-го перешли на второй курс Академии, Оуэн прослыл особо одаренным — у наших сверстников — он встречался с девушкой из университета. То, что Хестер училась в «сельской школе», ничуть не умаляло славы Оуэна. Он стал Бабником Мини, он стал Даменмейстером; а кроме того, он по-прежнему был и навсегда останется Голосом. Он требовал внимания, и он добился его.
Торонто, 9 мая 1987 года — Гэри Харт, бывший сенатор от штата Колорадо, вышел из борьбы за президентское кресло после того, как вашингтонские репортеры раскопали, что он провел выходные с фотомоделью из Майами. Хотя и фотомодель, и сам кандидат заявили, что не произошло ничего «безнравственного» — к тому же миссис Харт сказала, то ли что она «поддерживает» своего мужа, то ли что «понимает» его, — несмотря на все это мистер Харт решил, что такое пристальное внимание к его личной жизни создает «нетерпимую обстановку» вокруг него самого и всей его семьи. Он еще объявится; хотите поспорить? В Соединенных Штатах люди вроде него надолго не исчезают. Помните Никсона?
Что вообще американцы могут знать о нравственности? Им неприятно узнать, что у их президента есть член, но им наплевать, если их президент умудряется тайно поддерживать никарагуанских повстанцев после того, как конгресс ограничил подобную помощь. Они не любят, когда их президент обманывает свою жену, но им наплевать, если их президент обманывает конгресс — лжет в глаза всему народу и нагло попирает народную конституцию! Лучше бы мистеру Харту просто сказать: «Не произошло ничего особенно безнравственного» или «Произошедшее — обычная безнравственность»; или он мог бы сказать, что проверял свои способности обманывать весь американский народ и начал со своей жены — и надеялся таким образом продемонстрировать избирателям, что уже вполне безнравствен для поста президента. Я явственно слышу, что сказал бы обо всем этом Голос.
Сегодня солнечно; мои сограждане загорают в парке Уинстона Черчилля, подставив пузо солнышку. Все девочки из школы епископа Строна поддергивают рукава своих матросских блузок, подтягивают повыше плиссированные юбки и опускают гольфы к лодыжкам. Весь мир хочет побыстрее загореть. Но Оуэн ненавидел весну; теплая погода означала для него, что учебный год заканчивается, а Оуэн любил школу. Когда наступали школьные каникулы, Оуэну Мини приходилось возвращаться в гранитный карьер.
Когда настал новый учебный год и у нас начался осенний триместр 59-го, я понял, что летом Голос даром время не терял. Оуэн вернулся в школу с целой стопкой готовых статей для «Грейвсендской могилы». Он призвал конкурсную комиссию найти такого директора, который преданно служил бы и преподавателям и ученикам — и «НЕ БЫЛ БЫ МАРИОНЕТКОЙ В РУКАХ БЫВШИХ ВЫПУСКНИКОВ И ПОПЕЧИТЕЛЕЙ». Хотя Оуэн иногда высмеивал Торни — в частности, его представления о «всесторонне развитом юношестве», — он не раз хвалил нашего уходящего на пенсию директора за то, что тот «В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПЕДАГОГ, А УЖ ПОТОМ ДОБЫТЧИК ДЕНЕГ». Оуэн предостерегал членов конкурсной комиссии, чтобы они «НЕ ШЛИ НА ПОВОДУ У ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА — ЭТИ ВЫБЕРУТ ТАКОГО ДИРЕКТОРА, КОТОРЫЙ БУДЕТ БОЛЬШЕ ОЗАБОЧЕН КАМПАНИЯМИ ПО СБОРУ СРЕДСТВ, ЧЕМ УЧЕБНЫМИ ПРОГРАММАМИ И ПОДБОРОМ ДОСТОЙНЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ. И НЕ СЛУШАЙТЕ БЫВШИХ ВЫПУСКНИКОВ! — предупреждал Голос. Оуэн вообще был о них очень низкого мнения: — ИМ НЕЛЬЗЯ ДОВЕРЯТЬ, ДАЖЕ КОГДА ОНИ ВСПОМИНАЮТ, КАК ЗДЕСЬ БЫЛО РАНЬШЕ; ОНИ ПОСТОЯННО ТВЕРДЯТ О ТОМ, ЧТО ЭТА ШКОЛА ДЛЯ НИХ СДЕЛАЛА ИЛИ КОГО ОНА ИЗ НИХ СДЕЛАЛА, — КАК БУДТО ПЕРЕД ТЕМ, КАК СЮДА ПОСТУПИТЬ, ОНИ БЫЛИ БЕСФОРМЕННЫМИ КОМКАМИ ГЛИНЫ. А ВОТ НАСЧЕТ ТОГО, КАК ГРУБО С НИМИ ОБРАЩАЛИСЬ И КАКИМИ ЖАЛКИМИ ОНИ СЕБЯ ЧУВСТВОВАЛИ, КОГДА УЧИЛИСЬ ЗДЕСЬ, БЫВШИЕ ВЫПУСКНИКИ ПОЧЕМУ-ТО ПРЕДПОЧИТАЮТ ЗАБЫТЬ».
На собрании преподавателей кто-то назвал Оуэна «маленькой какашкой». Дэн Нидэм возразил, что Оуэн на самом деле очень любит школу и что в Академии никогда не культивировалась и впредь не должна культивироваться слепая любовь и фанатичная преданность школе. Однако, когда Оуэн открыл кампанию против рыбного меню по пятницам, защищать его стало труднее.
«У НАС В АКАДЕМИИ ВНЕКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ, — писал он. — ПОЧЕМУ ТОГДА НАША СТОЛОВАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ КАТОЛИЧЕСКОЙ? ЕСЛИ КАТОЛИКИ ЕДЯТ ПО ПЯТНИЦАМ РЫБУ, ПОЧЕМУ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ДОЛЖНЫ ПОД НИХ ПОДСТРАИВАТЬСЯ? БОЛЬШИНСТВО РЕБЯТ ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУТ РЫБУ! ПОДАВАЙТЕ РЫБУ, НО ПОДАВАЙТЕ ЕЩЕ ЧТО-НИБУДЬ — НАПРИМЕР, ХОЛОДНОЕ МЯСНОЕ АССОРТИ ИЛИ ХОТЯ БЫ СЭНДВИЧИ С АРАХИСОВЫМ МАСЛОМ И ВАРЕНЬЕМ. МЫ ВЕДЬ ИМЕЕМ ПРАВО СЛУШАТЬ ПРИГЛАШЕННОГО ПРОПОВЕДНИКА В ЦЕРКВИ ХЕРДА ИЛИ ХОДИТЬ В ЛЮБУЮ ГОРОДСКУЮ ЦЕРКОВЬ ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ. ИУДЕЕВ ВЕДЬ НЕ ЗАСТАВЛЯЮТ ПРИЧАЩАТЬСЯ, И УНИТАРИЕВ НИКТО СИЛКОМ НЕ ТЯНЕТ СЛУШАТЬ МЕССУ ИЛИ ИСПОВЕДОВАТЬСЯ, А БАПТИСТОВ НЕ ЗАГОНЯЮТ ПО СУББОТАМ В СИНАГОГУ И НЕ ДЕЛАЮТ НАСИЛЬНО ОБРЕЗАНИЕ. НО ВОТ РЫБУ ТЫ БУДЕШЬ ЕСТЬ ВСЕ РАВНО, КАТОЛИК ТЫ ИЛИ НЕТ, — В ПЯТНИЦУ ЛИБО ЕШЬ РЫБУ, ЛИБО ОСТАВАЙСЯ ГОЛОДНЫМ. И ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ДЕМОКРАТИЯ? МОЖЕТ, НАМ ВСЕМ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ЕЩЕ И СЛЕДОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ КАТОЛИКОВ НАСЧЕТ КОНТРОЛЯ РОЖДАЕМОСТИ? ПОЧЕМУ НАС ЗАСТАВЛЯЮТ ЕСТЬ КАТОЛИЧЕСКУЮ ПИЩУ?»
Оуэн поставил в почтовом отделении школы стул и столик, чтобы собирать подписи под своей петицией, — естественно, подписались все до единого. «ДАЖЕ КАТОЛИКИ — И ТЕ ПОДПИСАЛИСЬ!» — объявил Голос. Дэн Нидэм рассказывал, что заведующий столовой после этого закатил на собрании преподавателей целую сцену.
— Попомните мое слово, в следующий раз эта маленькая какашка потребует устроить стойку с салатами! Что там рыба — он скоро запросит выбор блюд, как в ресторане!
В своей первой статье Голос подверг нападению ТАИНСТВЕННОЕ МЯСО; теперь настала очередь рыбы. «ПОДОБНОЕ НЕСПРАВЕДЛИВОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИ ПООЩРЯЕТ РЕЛИГИОЗНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ, — писал Голос; Оуэну за каждым углом чудились антикатолические выпады. — У НАС ТО ТУТ, ТО ТАМ СТАЛИ ВЕСТИСЬ НЕПРИЯТНЫЕ РАЗГОВОРЫ, — сообщал он. — В ШКОЛЕ ВИТАЮТ ДИСКРИМИНАЦИОННЫЕ НАСТРОЕНИЯ. Я УЖЕ СЛЫШАЛ ОСКОРБИТЕЛЬНУЮ КЛИЧКУ — «РЫБОГЛОТ». А ВЕДЬ РАНЬШЕ НИЧЕГО ПОДОБНОГО ЗДЕСЬ НЕ ПРОИЗНОСИЛОСЬ». Я, честно говоря, вообще ни от кого больше не слышал такого выражения — «рыбоглот», — только от Оуэна.
И не было ни разу, чтобы мы прошли мимо школы Святого Михаила — не говоря уже о священной статуе Марии Магдалины — и чтобы Оуэн не сказал: «ИНТЕРЕСНО, ЧТО У ЭТИХ ПИНГВИНИХ НА УМЕ? КАК ТЫ ДУМАЕШЬ, МОЖЕТ, ОНИ ВСЕ ЛЕСБИЯНКИ?»
На следующей после Дня благодарения неделе в пятницу нам подали, кроме обычного рыбного блюда, холодное мясное ассорти и сэндвичи с арахисовым маслом и вареньем. Можно было также получить тарелку томатного супа и картофельный салат. Оуэн одержал победу. Ему бурно аплодировала стоя вся столовая. Поскольку Оуэн получал стипендию, у него была постоянная обязанность — во время обеда он работал официантом у преподавательского стола; сервировочная тележка едва доходила ему до груди, и он стоял около нее, вытянувшись в струнку, словно прикрывшись щитом. Тем временем все школьники хлопали ему, а преподаватели натянуто улыбались.
Старина Торни вызвал его в свой кабинет.
— Знаешь, малыш, ты мне нравишься, — сказал он Оуэну. — Ты далеко пойдешь. Но позволь дать тебе совет. Твои друзья присматриваются к тебе не так пристально, как твои враги, — да-да, у тебя есть враги! Меньше чем за два года ты ухитрился нажить себе столько врагов, сколько я не сумел и за двадцать с лишним! Смотри, будь осторожен, не то они сожрут тебя.
Торни хотел сделать Оуэна рулевым в школьной команде гребцов — по росту Оуэн идеально для этого подходил, да и детство он провел на берегу Скуамскотта. Но Оуэн сказал, что его отец всю жизнь терпеть не мог лодочные гонки — «И МНЕ ЭТО, НАВЕРНОЕ, ПЕРЕДАЛОСЬ, НИЧЕГО ТУТ НЕ ПОДЕЛАЕШЬ», — пояснил он директору; кроме того, нашу речку загадили до невозможности. В те дни в городе не было приличной очистной системы для канализации; и текстильная фабрика, и бывшая обувная фабрика моего покойного деда, да и владельцы многих частных домов просто сливали сточные воды прямо в Скуамскотт. Оуэн будто бы много раз видел плавающие «кишочки». При виде использованных презервативов у него до сих пор «что-то внутри переворачивалось».
К тому же осенью он увлекся европейским футболом. Разумеется, он не играл ни в основной, ни в юниорской команде школы, но погонять мяч любил. Он отличался юркостью и цепкостью, хотя из-за своего курения быстро выдыхался. А к весне, к очередному сезону набора гребцов, Оуэн заразился теннисом. Играл он не очень хорошо, он ведь только учился; но моя бабушка купила ему хорошую ракетку, и Оуэн по достоинству оценил четкие правила игры — ровные белые линии, строго оговоренное натяжение сетки на строго заданной высоте, точный учет каждого мяча. Следующей зимой бог знает почему он вдруг полюбил баскетбол. Не иначе, из духа противоречия — за то, что это игра для высоких парней; понятное дело, он играл только в «дворовый» баскетбол — ни в одну команду его бы не взяли, — но играл с увлечением. Он здорово прыгал — бросая мяч в корзину, он подпрыгивал так, что его ноги оказывались едва ли не на уровне голов других игроков, а спустя некоторое время он буквально помешался на одном недостижимом (для него) баскетбольном трюке — это называется «нахлобучить шляпу», то бишь вогнать мяч в корзину сверху. Мы тогда, правда, не говорили «нахлобучить шляпу»; у нас это именовалось: «посадить мяч в корзину», и не сказать, чтобы такое случалось слишком часто — мало кому из ребят хватало роста. Оуэн, конечно, никогда бы не смог подпрыгнуть выше кольца, но эта мечта — класть мяч в корзину сверху — втемяшилась ему в голову, словно навязчивая идея.
Спустя некоторое время он придумает, как добраться до корзины: ведя мяч на хорошей скорости, нужно подгадать момент прыжка так, чтобы партнер по команде был наготове — прыгнешь в его вытянутые руки, и тому останется только подбросить тебя, чтобы ты оказался над кольцом. Тем единственным партнером по команде, кто соглашался на такие трюки, стал я. Его прихоть казалась мне чистым вздором — в самом деле, с его-то ростом пытаться взлететь на такую невероятную высоту… Это была сущая глупость, и мне быстро надоело бессмысленно повторять одно и то же па, как в балетной школе.
— На кой черт мы это делаем? — спрашивал я его. — Это все равно не понадобится в настоящей игре. Это, скорее всего, даже против правил. Я же не могу поднести тебя к самой корзине, я уверен, так не положено.
Но Оуэн напомнил мне, что раньше я очень любил поднимать его — в воскресной школе. А теперь, когда для него это так важно — научиться подстраивать свой прыжок к нужному моменту, чтобы я сумел подбросить его еще выше, — почему я не хочу просто сделать ему такое одолжение и не ворчать?
— Я ТЕРПЕЛ, КОГДА ТЫ МЕНЯ ПОДНИМАЛ В КЛАССЕ, — ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ТЕРПЕЛ, ХОТЯ И ПРОСИЛ НЕ ДЕЛАТЬ ЭТОГО! — сказал он.
— «Все эти годы»! — передразнил я. — Да у нас и было-то всего несколько уроков в воскресной школе, и всего пару лет — к тому же мы поднимали тебя не каждый раз.
Но сейчас ему зачем-то стало очень важно это дурацкое поднимание над корзиной — и мне пришлось уступить. Мы до того здорово отрепетировали этот фокус, что несколько мальчишек из баскетбольной команды стали называть Оуэна Мини-шляпник, а потом, когда он довел наш трюк до совершенства, — Шляпмейстер. Его как-то даже похвалил баскетбольный тренер. «Глядишь, я тебя когда-нибудь поставлю играть, Оуэн», — пошутил тренер.
— ЭТО НЕ ДЛЯ ИГРЫ, — ответил Оуэн Мини: у него на все имелись свои соображения.
В те рождественские каникулы 59-го мы каждый день проводили в спортзале Академии по нескольку часов. Мы были одни, нам никто не мешал — все иногородние разъехались по домам, — и нас переполняла обида на Истмэнов, которые, кажется, нарочно задались целью не приглашать нас в Сойер. Ной с Саймоном привезли в гости приятеля из Калифорнии; Хестер постоянно куда-то уезжала, приезжала, снова уезжала; к тому же тетю Марту собиралась навестить какая-то давняя подруга по университету. Мы с Оуэном не сомневались: на самом деле нас не приглашают потому, что тетя Марта хочет расстроить отношения между Оуэном и Хестер. Та как-то говорила Оуэну, что мать называет его «мальчишка, который отбил тот самый мяч», «тот странный маленький приятель Джона» и «мальчишка, которого моя мама наряжает, как куколку». Но Хестер всегда очень плохо отзывалась о матери и вечно мутила воду, так что она запросто могла все выдумать и выложить Оуэну — главным образом для того, чтобы Оуэн тоже почувствовал неприязнь к тете Марте. Но Оуэну, по-моему, было наплевать.
Мне предоставили отсрочку, чтобы я на каникулах доделал две письменные зачетные работы, которые не сдал вовремя, — так что отдыхать не пришлось. Оуэн помог мне с работой по истории, а сочинение по английскому и вовсе полностью написал за меня. «Я НАРОЧНО НАПИСАЛ НЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНО. Я СДЕЛАЛ НЕСКОЛЬКО ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ОШИБОК — КАКИЕ ТЫ ОБЫЧНО ДЕЛАЕШЬ, — сказал он мне. — ЕЩЕ Я КОЕ-ГДЕ ПОВТОРЯЛСЯ, И ТАМ НЕТ ССЫЛОК НА СРЕДНЮЮ ЧАСТЬ КНИГИ — КАК ЕСЛИ БЫ ТЫ ЕЕ НЕ ЧИТАЛ. ТЫ ВЕДЬ ПРОПУСТИЛ ЭТУ ЧАСТЬ, ВЕРНО?»
Что да, то да: проверочные и контрольные в классе я писал всегда разительно хуже домашних, с которыми мне помогал Оуэн. Но мы вместе готовились ко всем заранее объявленным контрольным, и с учебой у меня понемногу налаживалось. Но писал я безграмотно, и мне назначили дополнительный курс для отстающих, что было почти оскорблением; кроме того — опять-таки из-за моей безграмотности и сбивчивых ответов в классе, — мне велели раз в неделю показываться школьному психиатру. В Грейвсендской академии привыкли к хорошим ученикам; трудности с учебой — даже если они сводились к орфографическим ошибкам — приравнивались чуть ли не к умственной отсталости.
Голос и здесь нашел, что сказать: «МНЕ КАЖЕТСЯ, ЛЮДЯМ, КОТОРЫМ УЧЕБА ДАЕТСЯ ТРУДНЕЕ, ЧЕМ ОСТАЛЬНЫМ, ПРИСУЩА НЕКАЯ СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ — ЧТО-ТО МЕШАЕТ ВОСПРИНИМАТЬ ИМ ЦИФРЫ И БУКВЫ. ИХ СПОСОБ УСВОЕНИЯ НЕЗНАКОМОГО МАТЕРИАЛА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЫЧНОГО — НО Я НИКАК НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, КАК ТАКОЙ НЕДОСТАТОК МОЖНО ИСПРАВИТЬ С ПОМОЩЬЮ КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХИАТРА СКОРЕЕ ВСЕГО, ДЕЛО ЗДЕСЬ В СЛАБОСТИ НЕКОЙ ЧИСТО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ, КОТОРАЯ ОТ РОЖДЕНИЯ В БОЛЬШЕЙ МЕРЕ ВЫРАЖЕНА У ТЕХ ИЗ НАС, ЧТО СЧИТАЮТСЯ «ХОРОШИМИ УЧЕНИКАМИ». НУЖНО ИССЛЕДОВАТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ЭТИ ФУНКЦИИ, ЧТОБЫ ПОТОМ ИХ КАК-ТО СТИМУЛИРОВАТЬ. ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ?»
В то время еще никто из нас не слышал о дислексии и других формах «нарушения обучаемости»; ученики вроде меня считались просто глупыми или тугодумами. И не кто иной, как Оуэн, точно определил, с чем у меня трудности.
— ТЫ ПРОСТО СЛИШКОМ МЕДЛИТЕЛЬНЫЙ, — сказал он. — ТЫ ПОЧТИ ТАКОЙ ЖЕ ТОЛКОВЫЙ, КАК И Я, ПРОСТО ТЕБЕ НА ВСЕ НУЖНО В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ.
Школьный психиатр — пожилой пенсионер из Швейцарии, который каждое лето возвращался в Цюрих, — был убежден, что мои трудности с учебой непосредственно связаны с «убийством» мамы, совершенным моим лучшим другом, а также со всей «напряженностью и конфликтностью», которые доктор рассматривал как «неизбежное следствие» того, что я живу попеременно то с бабушкой, то с отчимом.
— Временами вы должны ненавидеть его — да? — задумчиво бормотал доктор Дольдер.
— Ненавидеть кого? — переспрашивал я. — Своего отчима? Да нет же — я люблю Дэна!
— Вашего лучшего друга — временами вы ненавидите его. Да? — спрашивал доктор Дольдер.
— Нет! — отвечал я. — Я люблю Оуэна — это был несчастный случай.
— Да-да, я знаю, — сказал доктор Дольдер. — Но тем не менее… ваша бабушка… она, наверное, для вас самое тяжелое напоминание, да?
— «Напоминание»? — недоумевал я. — Я люблю свою бабушку!
— Да, я знаю, — повторил доктор Дольдер. — Но все эти бейсбольные дела — это самое трудное, как я представляю…
— Да! — ответил я. — Терпеть не могу бейсбол.
— Да, разумеется, — кивнул доктор Дольдер. — Я ни разу не видел эту игру, так что мне трудно представить все как следует… Может быть, нам стоит вместе сходить на какой-нибудь матч?
— Нет, — отрезал я. — Я не играю в бейсбол. И даже не смотрю.
— Да, я понимаю, — сказал доктор Дольдер. — Вы так сильно ненавидите бейсбол — я понимаю.
— У меня не получается грамотно писать, — сказал я. — И я медленно читаю, я устаю — мне приходится водить пальцем по строчкам, а иначе я теряю нужное место…
— Он, наверно, очень твердый — бейсбольный мяч, — сказал доктор Дольдер. — Да?
— Да, он очень твердый, — ответил я и вздохнул.
— Да, я понимаю, — сказал доктор Дольдер. — Вы устали? Вы устаете, когда говорите со мной?
— У меня трудности с правописанием, — повторил я. — С правописанием и чтением.
На стенах его кабинета в изоляторе имени Хаббарда висело множество фотографий, старые черно-белые снимки; там были и часовые циферблаты на колокольнях в Цюрихе, и утки и лебеди на Лиммате, и люди, что кормят их с забавных сводчатых пешеходных мостиков. Многие из тех людей были в шляпах; казалось, вот-вот — и вы услышите, как соборные часы отбивают время.
В выражении вытянутого козлиного лица доктора Дольдера сквозила насмешка; его аккуратно подстриженная остренькая серебристая бородка не давала ему покоя: доктор все время подергивал ее кончик
— Бейсбольный мяч, — глубокомысленно произнес он. — В следующий раз принесите с собой бейсбольный мяч — да?
— Да, конечно, — ответил я.
— И приведите этого маленького бейсболиста — Голоса, да? — я бы очень хотел с ним тоже поговорить, — сказал доктор Дольдер.
— Я попрошу Оуэна, если у него найдется время, — пообещал я.
— ЕЩЕ ЧЕГО! — ответил Оуэн Мини, когда я передал ему просьбу доктора. — У МЕНЯ С ПРАВОПИСАНИЕМ ВСЕ В ПОРЯДКЕ!
Торонто, 11 мая 1987 года — увы, у меня с собой оказалась мелочь, чтобы купить в газетном автомате на углу свежий «Глоб энд мейл». В кармане нашлись три десятицентовика, и я не сумел устоять, прочитав анонс статьи на первой полосе: «Остается неясным, каким образом мистер Рейган собирается заставить свою администрацию и далее поддерживать контрас, оставаясь при этом в рамках закона».
С каких это пор мистера Рейгана стали заботить «рамки закона»? Лучше бы уж президент провел выходные с фотомоделью из Майами; так бы он принес куда меньше зла. Всего один уикенд — и подумать только, какое облегчение испытали бы никарагуанцы! Надо бы подыскать президенту какую-нибудь фотомодель, чтобы он проводил с ней все выходные! Если бы мы научились таким способом как следует изматывать этого старикашку, глядишь, у него не осталось бы сил на более губительные шалости. Бог мой, что за народ американцы — сплошные моралисты, куда ни плюнь! С каким страстным наслаждением они предают огласке грязные адюльтеры друг друга! Жаль, что их нравственность нимало не оскорблена презрением их президента к закону; жаль, что их моральное чувство молчит, когда администрация контрабандой поставляет оружие террористам. Но, конечно, будуарная мораль требует меньшего воображения, и, если не следить за тем, что творится в мире, можно даже не особенно утруждаться, чтобы узнать «всю правду» о подоплеке очередного сексуального скандала.
Сегодня в Торонто снова солнечно; фруктовые деревья цветут вовсю — особенно груши и яблони, в том числе дикие. Вполне возможны кратковременные ливни. Оуэн любил дождь. Летом на дне карьера бывает невыносимо жарко, да и пыль всегда раздражает. Дождь хотя бы немного охлаждает каменные плиты и прибивает пыль. «ВСЕ, КТО РАБОТАЕТ В КАРЬЕРАХ, ЛЮБЯТ ДОЖДЬ», — сказал как-то Оуэн Мини.
Я велел девушкам из своего двенадцатого перечитать первую главу «Тэсс из рода д'Эрбервиллей», которую Гарди назвал «Фаза первая. Девушка». Даром что я обращал их внимание на то, как Гарди любит по ходу повествования исподволь предвещать будущие события некоторыми намеками, весь класс благополучно проморгал этот художественный прием. Ну как же они могли так небрежно проскочить сцену гибели лошади? «Никто не винил Тэсс так, как она сама винила себя», — пишет Гарди; а чуть позже он даже говорит: «На ее бледном лице не было ни слезинки, словно она сама поставила на себе клеймо убийцы». А что класс думает насчет внешности Тэсс? «Ее отличала пышная, рано созревшая фигура, отчего она больше походила на женщину, чем на девушку». Да ничего они не думают.
— Может быть, она чем-то на вас похожа? — обращаюсь я ко всему классу. — Что вам приходит в голову, если кто-нибудь из вас так выглядит?
Тишина.
А что, на их взгляд, произошло в конце «Фазы первой» — Тэсс соблазнили или изнасиловали? «Она крепко спала», — пишет Гарди. Он что же, хочет сказать, д'Эрбервилль «сделал это», пока она спала?
Тишина.
Перед тем как они потрудятся прочитать следующую главу романа, озаглавленную «Фаза вторая. Больше не девушка», я попросил их дать себе труд перечитать первую главу — или почитать наконец ее в первый раз, что тоже вполне возможно.
— Будьте внимательны, — предупредил я их, — когда Тэсс говорит: «Неужто вам никогда не приходило в голову, что если так говорят все женщины, то некоторые и вправду могут это чувствовать?» — обратите внимание на эти слова! Обратите внимание, где Тэсс хоронит своего ребенка — «в том захудалом уголке Божьих владений, где он позволяет расти крапиве и где покоятся все некрещеные младенцы, известные пьяницы, самоубийцы и прочие несчастные, чьи души, скорее всего, прокляты вовек». Попробуйте понять, что сам Гарди думает о «Божьих владениях» — и что он думает о невезении, о совпадениях, о так называемых обстоятельствах, на которые мы не в силах повлиять. Считает ли он, что, будучи целомудренной натурой, вы подвергаетесь большим испытаниям, скитаясь по свету? Или наоборот — меньшим?
— Сэр? — обратилась ко мне Лесли Энн Гру. Это прозвучало очень старомодно; в школе епископа Строна меня уже сто лет никто не называл «сэр» — за исключением новеньких. А Лесли Энн Гру учится здесь уже много лет. — Если завтра снова будет хорошая погода, — сказала Лесли Энн, — можно, чтобы у нас урок был на улице?
— Нет, — ответил я; но я сегодня какой-то вялый — мне тоскливо и уныло. Я знаю, что сказал бы ей Голос.
«ТОЛЬКО ЕСЛИ БУДЕТ ДОЖДЬ, — сказал бы Оуэн. — ЕСЛИ С НЕБА ЛИВАНЕТ, ТОГДА МЫ СМОЖЕМ ПРОВЕСТИ УРОК НА УЛИЦЕ».
В самом начале зимнего триместра — мы были тогда в десятом классе Грейвсендской академии — страдающий подагрой школьный священник, преподобный мистер Скаммон — отправитель внеконфессиональных богослужений и бесцветный преподаватель религиоведения и Священного Писания, — поскользнулся на обледеневших ступеньках церкви Херда, разбил голову и так и не пришел в сознание. Оуэн, впрочем, придерживался мнения, что преподобный мистер Скаммон никогда в него и не приходил до конца. Еще несколько недель после кончины священника его сутана и трость висели на вешалке в ризнице — словно старый мистер Скаммон покинул этот мир всего на несколько минут, чтобы прогуляться до ближайшего туалета. Для поисков нового школьного священника собрали еще одну конкурсную комиссию, а пока попросили вести занятия по истории религии и Священному Писанию преподобного Льюиса Меррила.
В девятом классе мы с Оуэном уже пережили первую часть учебного курса старого мистера Скаммона по истории религии: эдакий всеохватный и поверхностный — от Цезаря до Эйзенхауэра — обзор основных мировых религий. Мы как раз и теперь маялись со второй частью плюс курс по Священному Писанию, когда старый священник ступил на роковые обледеневшие ступеньки церкви Херда. Преподобный мистер Меррил привнес в оба курса свое знакомое заикание и почти столь же знакомые сомнения. На занятиях по Священному Писанию он заставлял нас вникать в смысл сказанного в Библии — находить бесчисленные примеры тому, о чем говорится в стихе 20 пятой главы Книги пророка Исайи: «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом…» На занятиях же по религиоведению — это был трудный курс «религии и литературы» — он предложил нам объяснить, что имел в виду Толстой, когда написал в «Анне Карениной»: «Ответа не было, кроме того общего ответа, который дает жизнь на все самые сложные и неразрешимые вопросы. Ответ этот: надо жить потребностями дня, то есть забыться».
На уроках по обоим предметам пастор Меррил проповедовал свою философию, сводимую к знакомой формуле: «Сомнения составляют суть веры и ни в коем случае не противоречат ей». Этот постулат сейчас вызывал у Оуэна гораздо больший интерес, чем раньше. Очевидно, дело тут было в ключевом положении — «вера без чудес». Вера, нуждающаяся в подкреплении чудесами, перестает быть верой; не просите доказательств — вот что неустанно, день за днем пытался внушить нам пастор Меррил.
— НО ЧЕЛОВЕКУ НУЖНО ХОТЬ МАЛЕНЬКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, — говорил Оуэн Мини.
— Вера сама по себе уже чудо, Оуэн, — говорил пастор Меррил. — Первейшее чудо, в которое я верю, — это сама моя вера.
Оуэн глянул недоверчиво, но промолчал. Наши классы на занятиях по религиоведению — да и на уроках Священного Писания тоже — представляли собой сборище воинствующих атеистов. Если не считать Оуэна Мини, мы были кучкой болванов-нигилистов, все принимающих в штыки, — до того непробиваемых, что Джек Керуак и Аллен Гинсберг казались нам интереснее, чем Толстой, — так что преподобному мистеру Меррилу с его заиканием и потрепанным набором сомнений пришлось с нами здорово помучиться. Он заставил нас прочитать роман Грэма Грина «Сила и слава» — Оуэн потом написал зачетную работу под названием «ПЬЮЩИЙ ПАДРЕ: ЖАЛКИЙ ПРАВЕДНИК». Мы также читали «Портрет художника в юности» Джойса, «Варавву» Лагерквиста и «Братьев Карамазовых» Достоевского — Оуэн написал за меня работу под заголовком «ГРЕХИ СМЕРДЯКОВ: УБИЙСТВЕННОЕ СОЧЕТАНИЕ». Бедный пастор Меррил! Мой старый добрый конгрегационалистский священник неожиданно оказался в роли защитника христианства — причем даже Оуэн оспаривал его методы защиты. У нас в классе обожали Сартра и Камю — их идея насчет «неоспоримой очевидности жизни без утешения»[17] приводила нас, подростков, в восторг. Преподобный мистер Меррил мягко возражал нам с помощью Кьеркегора: «Ни один человек не вправе внушать другим, будто вера есть нечто ничтожное или легкое, тогда как вера — величайшее и труднейшее из дел»[18].
Оуэн, который когда-то скептически воспринимал пастора Меррила, теперь взял на себя роль его защитника.
— ТО, ЧТО КАКАЯ-ТО КУЧКА АТЕИСТОВ УМЕЕТ ПИСАТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ТЕ РЕБЯТА, ЧТО НАПИСАЛИ БИБЛИЮ, ЕЩЕ НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ОНИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРАВЫ! — сердито заявил он. — ПОСМОТРИ НА ЭТИХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ЧУДИЛ-ФОКУСНИКОВ — ОНИ ХОТЯТ, ЧТОБЫ НАРОД ПОВЕРИЛ В МАГИЮ! НО ВЕДЬ НАСТОЯЩИЕ ЧУДЕСА — ЭТО НЕ ТО, ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ, — В ТАКИЕ ВЕЩИ ВЕРИШЬ НЕ ВИДЯ. ЕСЛИ КАКОЙ-НИБУДЬ ПРОПОВЕДНИК — МУДАК, ЭТО ЕЩЕ НЕ ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО БОГА НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
— Верно, только давай не будем в классе говорить «мудак», ладно, Оуэн? — попросил пастор Меррил.
А как-то раз на уроке Священного Писания Оуэн сказал:
— АПОСТОЛЫ И ПРАВДА ВСЕ ТУПЫЕ — ОНИ НИКОГДА НЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО ХРИСТОС ИМЕЕТ В ВИДУ. ЭТО ПРОСТО КАКОЕ-ТО СБОРИЩЕ ПУТАНИКОВ. ОНИ НЕ В СОСТОЯНИИ ПОВЕРИТЬ В БОГА НАСТОЛЬКО, НАСКОЛЬКО САМИ ХОТЕЛИ БЫ ВЕРИТЬ, ДА ЕЩЕ И ХРИСТА ПРЕДАЮТ. ШТУКА В ТОМ, ЧТО БОГ ЛЮБИТ НАС НЕПОТОМУ, ЧТО МЫ ТАКИЕ УМНЫЕ ИЛИ ПРАВЕДНЫЕ. МЫ ГЛУПЫЕ, МЫ ПЛОХИЕ, И ВСЕ РАВНО БОГ ЛЮБИТ НАС — ИИСУС ВЕДЬ ВСЕ ЗАРАНЕЕ РАССКАЗАЛ ЭТИМ СВОИМ АПОСТОЛАМ, У КОТОРЫХ ВМЕСТО ГОЛОВЫ ЗАДНИЦА. «СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПРЕДАН БУДЕТ В РУКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ, И УБЬЮТ ЕГО…» — ПОМНИТЕ? ЭТО У МАРКА, ВЕРНО?
— Да, верно, только давай не будем в классе говорить про апостолов, что у них «вместо головы задница», ладно, Оуэн? — сказал мистер Меррил. Но хотя ему стоило немалых трудов защищать Святое Слово Божие, впервые на моей памяти Льюис Меррил радовался. Нападки на его веру лишь раззадорили его; он ожил, став совсем не таким смиренным.
— МНЕ КАЖЕТСЯ, ЕГО ПРИХОЖАНЕ-КОНГРЕГАЦИОНАЛИСТЫ ВООБЩЕ С НИМ НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЮТ, — предположил Оуэн. — МНЕ КАЖЕТСЯ, ЕМУ ПРОСТО НЕ ХВАТАЕТ ОБЩЕНИЯ; А У НАС В КЛАССЕ ПУСТЬ МЫ С НИМ И СПОРИМ, ЗАТО ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ОБЩАЕМСЯ.
— У меня такое впечатление, что с ним и жена-то никогда не разговаривает, — заметил Дэн. Да и вечно угрюмые дети пастора не располагали к общению, отпуская сквозь зубы односложные неприветливые реплики.
«ЗАЧЕМ НАШЕЙ ШКОЛЕ ТРАТИТЬ ПОПУСТУ ВРЕМЯ НА ДВЕ КОНКУРСНЫЕ КОМИССИИ? — вопрошал Голос на страницах «Грейвсендской могилы». — ДАВАЙТЕ ИСКАТЬ ДИРЕКТОРА — ШКОЛЕ ОН И ВПРАВДУ НУЖЕН! — НО ЗАЧЕМ ИСКАТЬ ШКОЛЬНОГО СВЯЩЕННИКА? ВОВСЕ НЕ ЖЕЛАЯ УМАЛИТЬ ДОСТОИНСТВА УМЕРШЕГО, СЛЕДУЕТ ЗАМЕТИТЬ, ЧТО ПРЕПОДОБНЫЙ МИСТЕР МЕРРИЛ — БОЛЕЕ ЧЕМ ПОДХОДЯЩАЯ ЗАМЕНА ПОКОЙНОМУ МИСТЕРУ СКАММОНУ, А ЕСЛИ УЖ СОВСЕМ ОТКРОВЕННО, ТО МИСТЕР МЕРРИЛ ВЕДЕТ ЗАНЯТИЯ ДАЖЕ ЛУЧШЕ. И ШКОЛА ДОСТАТОЧНО ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ ЕГО СПОСОБНОСТИ, СУДЯ ПО ТОМУ, ЧТО НЕСКОЛЬКО РАЗ ПРИГЛАШАЛА ЕГО ДЛЯ ПРОПОВЕДИ В ЦЕРКВИ ХЕРДА ПРЕПОДОБНЫЙ МИСТЕР МЕРРИЛ БЫЛ БЫ ХОРОШИМ ШКОЛЬНЫМ СВЯЩЕННИКОМ. НУЖНО УЗНАТЬ, СКОЛЬКО ЕМУ ПЛАТЯТ КОНГРЕГАЦИОНАЛИСТЫ, И ПРЕДЛОЖИТЬ БОЛЬШЕ».
И мистера Меррила переманили из конгрегационалистской церкви в Академию. К Голосу в очередной раз прислушались.
Торонто, 12 мая 1987 года — прохладный солнечный день; в такой день приятно стричь лужайку. Запах свежескошенной травы по всей Рассел-Хилл-роуд — лучшее свидетельство того, сколь трепетно все мои соседи относятся к стрижке лужаек У миссис Броклбэнк — ее дочери Хитер я преподаю английскую литературу в двенадцатом классе—к уходу за своей лужайкой немного иной подход: я обнаружил, что она вырывает одуванчики с корнем.
— Советую вам делать то же самое, — говорит она мне. — Выдергивайте их, а не подстригайте. Когда их срезаешь, они только еще сильнее разрастаются.
— Как морские звезды, — кивнул я и тут же пожалел об этом: с миссис Броклбэнк лучше никогда не заговаривать на новую для нее тему — если только не нужно убить время, разумеется. Если бы я задал «фазу» под названием «Девушка» миссис Броклбэнк — вот уж кто бы сделал все как надо и с первого раза.
— Вы разбираетесь в морских звездах? — спросила она.
— Я вообще-то вырос на побережье, — напомнил я ей. Здесь, в Торонто, мне то и дело приходится сообщать собеседнику о существовании Атлантического и Тихого океанов. Канадцы, кажется, склонны полагать, что вся вода земного шара сосредоточена в Великих озерах.
— Так что там насчет морских звезд? — спросила миссис Броклбэнк
— Вы режете их на кусочки, а их становится все больше и больше, — ответил я.
— Это написано в книге? — удивилась миссис Броклбэнк.
Я заверил ее, что это действительно написано в книге. У меня даже есть эта книга, в которой описывается жизнь морских звезд, хотя мы с Оуэном знали, что их ни в коем случае нельзя резать на кусочки, задолго до того, как прочли об этом. Любой грейвсендский ребенок, побывав на пляже у Кабаньей Головы, узнаёт о морских звездах все; помню, как мама объясняла нам с Оуэном, что морских звезд нельзя разрезать; они приносят много вреда, и рост их численности в Нью-Хэмпшире не поощряется.
Любознательность миссис Броклбэнк ненасытна; моя соседка может увлечься чем угодно и с таким же азартом, с каким сегодня воюет с одуванчиками.
— Я бы хотела почитать эту книгу, — заявила она.
И я снова, в который уже раз, пытаюсь сделать то, что превратилось чуть ли не в ритуал, — отговариваю ее от чтения очередной книги. И все мои усилия также бесполезны, как попытки уговорить моих учениц прочитать заданные тексты.
— Это не лучшая книга, — говорю ей. — Ее написал непрофессионал и издал за свои деньги.
— А что же тут плохого, если написал непрофессионал? — не сдавалась миссис Броклбэнк. Тут мне приходит в голову, что, возможно, она сама пишет книгу. — Что плохого в том, что он издал ее за свои деньги?
Книга, в которой рассказывается вся правда о морских звездах, называется «Жизнь в морской заводи», и написал ее Арчибалд Торндайк. Старина Торни был, помимо прочего, натуралистом-любителем и по собственному почину вел дневник наблюдений; уйдя на пенсию из Грейвсендской академии, он два года дотошно изучал всяческую живность в заводи у гавани Рай-Харбор, после чего издал об этом книгу на собственные средства. Каждый год в день встречи выпускников он продавал экземпляры своей книги с дарственной надписью. Он ставил свой «универсал» рядом с теннисными кортами, раскладывал книги на задней откидной дверце и болтал с выпускниками — со всеми, кто захочет. Поскольку он был очень популярным директором школы — и поскольку вслед за ним пришел директор исключительно непопулярный, — выпускники почти всегда с удовольствием болтали со стариной Торни. Я думаю, он таким образом продал порядочное количество экземпляров; возможно, даже кое-что заработал. В конце концов, может, он был не таким уж и непрофессионалом. Он умел управляться с Голосом, при этом никак не управляя им. А вот нового директора Голос в конце концов одолел.
Вот и я в конце концов отступаю перед неистовым стремлением миссис Броклбэнк к самообразованию; я обещаю ей, что дам почитать «Жизнь в морской заводи», которая лежит у меня дома.
— Вы уж напомните, пожалуйста, Хитер, пусть повторит первую «фазу» «Тэсс», — прошу я миссис Броклбэнк.
— Хитер не готовит домашние задания? — встревожилась миссис Броклбэнк.
— Сейчас весна, что поделаешь, — объясняю я. — Все девушки плохо готовятся. Хитер-то как раз учится хорошо.
Хитер Броклбэнк и вправду одна из моих лучших учениц. Она унаследовала от матери недюжинное упорство, и в то же время ее воображение простирается гораздо дальше одуванчиков.
Может, взять и устроить девчонкам из двенадцатого класса письменную проверку? Если они даже «Фазу первую» «Тэсс» проскочили галопом, то могу спорить, что предисловие они вообще пропустили — а ведь предисловие я им тоже задавал. Я это делаю далеко не всегда, но предисловие Роберта Б. Хайлмана очень полезно прочитать, прежде чем открыть Гарди в первый раз. Для проверки у меня есть по-настоящему коварный вопрос, думаю я, поглядывая на руки миссис Броклбэнк, — они теребят казненные одуванчики.
«Как Гарди первоначально хотел озаглавить свой роман?»
Ха! Угадывать здесь бесполезно; если бы они читали предисловие, то знали бы, что сперва роман назывался «Слишком поздно, любимый», — по крайней мере, это «слишком поздно» осталось бы у них в голове. Потом я вспомнил, что еще до «Тэсс» Гарди написал повесть под названием «Необычайные приключения доярки»; я размышлял, не подбросить ли им эту деталь, чтобы запутать еще больше. А уж затем я сообразил, что миссис Броклбэнк все еще стоит на тротуаре с пучком одуванчиков и ждет, что я принесу ей «Жизнь в морской заводи». И лишь после всего этого я вспомнил, что мы с Оуэном Мини впервые прочитали «Тэсс из рода д'Эрбервиллей» в десятом классе Грейвсендской академии. Английский у нас тогда вел мистер Эрли; шел зимний триместр 1960-го, и Томас Гарди давался мне с таким трудом, что хоть на стенку лезь. Мистер Эрли, конечно, не от большого ума решил дать «Тэсс» десятиклассникам. Здесь, в школе епископа Строна, я долго доказывал, что Гарди нужно изучать в тринадцатом классе, что даже двенадцатый класс — это слишком рано! Даже «Братья Карамазовы» легче, чем «Тэсс»!
— Я не могу это читать! — помню, жаловался я Оуэну. Он старался помочь мне; он помогал мне во всем, но «Тэсс» для меня была чересчур. — Я не могу читать книгу про дойку коров! — взвыл я в отчаянии.
— ЭТО НЕ ПРО ДОЙКУ КОРОВ, — сердито возразил Оуэн.
— Мне плевать, про что она; я ее терпеть не могу, и все, — сказал я.
— ОЧЕНЬ РАЗУМНЫЙ ПОДХОД НЕЧЕГО СКАЗАТЬ, — заметил Оуэн. — ЕСЛИ ТЫ НЕ МОЖЕШЬ ЕЕ ЧИТАТЬ, МОЖЕТ, ДАВАЙ, Я ПРОЧТУ ЕЕ ТЕБЕ ВСЛУХ?
Мне до сих пор хочется сквозь землю провалиться: он готов был сделать для меня даже это — прочитать мне вслух всю «Тэсс из рода д'Эрбервиллей»! Тогда при одной мысли о том, чтобы прослушать весь роман в его исполнении, у меня волосы встали дыбом.
— Я не могу ее ни читать, ни слушать, — сказал я.
— ХОРОШО, — кивнул Оуэн. — ТОГДА СКАЖИ, ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ Я СДЕЛАЛ. Я МОГУ ПЕРЕСКАЗАТЬ ТЕБЕ ВЕСЬ РОМАН, Я МОГУ НАПИСАТЬ ЗА ТЕБЯ ЗАЧЕТНУЮ РАБОТУ — А НА ЭКЗАМЕНЕ ТЕБЕ ОСТАНЕТСЯ ТОЛЬКО ВЕШАТЬ ЛАПШУ: ЕСЛИ Я ПЕРЕСКАЖУ ТЕБЕ ВСЕ ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА, ТЫ ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ ПОТОМ ДА ВСПОМНИШЬ. КОРОЧЕ, Я МОГУ ДЕЛАТЬ ЗА ТЕБЯ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ — МНЕ ЭТО НЕ ТРУДНО, И Я В ПРИНЦИПЕ НЕ ПРОТИВ, — А МОГУ НАУЧИТЬ ТЕБЯ, КАК ДЕЛАТЬ ИХ САМОМУ. ЭТО БУДЕТ НЕМНОЖКО СЛОЖНЕЕ — ДЛЯ НАС ОБОИХ, — НО ЕСЛИ ТЫ НАУЧИШЬСЯ САМ ДЕЛАТЬ СВОЮ РАБОТУ, КОГДА-НИБУДЬ ЭТО МОЖЕТ ТЕБЕ ПРИГОДИТЬСЯ. Я ДАВНО ХОТЕЛ ТЕБЯ СПРОСИТЬ: ЧТО ТЫ ВООБЩЕ СОБИРАЕШЬСЯ ДЕЛАТЬ — ПОСЛЕ ТОГО, КАК МЕНЯ НЕ БУДЕТ?
— Что значит «после того, как меня не будет»? — не понял я.
— ЛАДНО, СКАЖЕМ ИНАЧЕ, — терпеливо продолжал он. — ТЫ СОБИРАЕШЬСЯ ИСКАТЬ РАБОТУ? В СМЫСЛЕ, КОГДА ЗАКОНЧИШЬ ШКОЛУ — ТЫ ПОЙДЕШЬ РАБОТАТЬ? ИЛИ СОБИРАЕШЬСЯ ПОСТУПАТЬ В УНИВЕРСИТЕТ? МЫ С ТОБОЙ БУДЕМ ПОСТУПАТЬ В ОДИН И ТОТ ЖЕ УНИВЕРСИТЕТ? И ТАМ Я ТОЖЕ БУДУ ЗА ТЕБЯ ДЕЛАТЬ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ? НА ЧЕМ ТЫ ВООБЩЕ СОБИРАЕШЬСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАТЬСЯ?
— А ты на чем? — спросил я. Мне было обидно, однако я понимал, к чему он клонит, и я чувствовал, что он прав.
— НА ГЕОЛОГИИ, — сказал он. — Я ВЕДЬ РАБОТАЮ С ГРАНИТОМ.
— Рехнулся, что ли? — вскрикнул я. — Это же не твое! Ты можешь изучать все, что захочешь, — почему обязательно камни?!
— КАМНИ ИЗУЧАТЬ ИНТЕРЕСНО, — упрямо заявил Оуэн. — ГЕОЛОГИЯ — ЭТО ВЕДЬ ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ.
— Я не могу читать «Тэсс из рода д'Эрбервиллей»! — кричал я. — Это слишком трудно!
— ТЫ, НАВЕРНОЕ, ХОЧЕШЬ СКАЗАТЬ, ЧТО ТЕБЕ ТРУДНО ЗАСТАВИТЬ СЕБЯ ЧИТАТЬ, ТРУДНО СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ, — сказал он. — НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО «ТЭСС ИЗ РОДА Д'ЭРБЕРВИЛЛЕЙ» СЛОЖНАЯ КНИГА. МОЖЕТ, ТЕБЕ ТОМАС ГАРДИ И ВПРАВДУ КАЖЕТСЯ СКУЧНЫМ, НО НА САМОМ-ТО ДЕЛЕ У НЕГО ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО И ПОНЯТНО. ОН РАССКАЗЫВАЕТ ВСЕ, ЧТО ТЕБЕ НУЖНО ЗНАТЬ.
— Он рассказывает больше, чем я хочу знать! — не унимался я.
—ТВОЯ СКУКА — ЭТО ТВОЯ ЛИЧНАЯ ТРУДНОСТЬ, — сказал Оуэн Мини. — ТЕБЕ СКУЧНО ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ТЕБЕ НЕ ХВАТАЕТ ВООБРАЖЕНИЯ. ГАРДИ ПО-СВОЕМУ ВИДИТ МИР. ТЭСС ОБРЕЧЕНА. СУДЬБА ЕЕ УЖЕ ВЫБРАЛА ТЭСС — ЖЕРТВА; А ЕСЛИ ТЫ ЖЕРТВА, ТО ВЕСЬ МИР ИСПОЛЬЗУЕТ ТЕБЯ В СВОИХ ЦЕЛЯХ. НЕУЖЕЛИ ТАКОЙ НЕОБЫЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР ТЕБЕ КАЖЕТСЯ СКУЧНЫМ? НЕУЖЕЛИ ТЕБЯ СОВСЕМ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВЫРАБОТАЛ ТАКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ? ВЕДЬ ЭТО ЖЕ КАК РАЗ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ПИСАТЕЛЯХ! МОЖЕТ, ТЕБЕ СТОИТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАТЬСЯ НА АНГЛИЙСКОМ И ЛИТЕРАТУРЕ? ТОГДА, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ТЕБЕ ПРИДЕТСЯ ЧИТАТЬ ВЕЩИ, НАПИСАННЫЕ ТЕМИ, КТО УМЕЕТ ПИСАТЬ! ЧТОБЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАТЬСЯ НА АНГЛИЙСКОМ, ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЗДЕСЬ НЕ ТРЕБУЮТСЯ КАКИЕ-ТО ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ НАДО ТОЛЬКО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ТЕБЕ ХОТЯТ ПОКАЗАТЬ, — ЧТО ВЫЗЫВАЕТ У АВТОРА ЗЛОСТЬ ИЛИ КАКИЕ-НИБУДЬ ДРУГИЕ СИЛЬНЫЕ ЧУВСТВА ЭТО ЖЕ ТАК ПРОСТО НЕ ЗРЯ СТОЛЬКО НАРОДУ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА АНГЛИЙСКОМ
— Для меня это совсем не просто! — кричал я — Я не могу читать эту книжку.
— ТЫ НЕ МОЖЕШЬ ЧИТАТЬ БОЛЬШИНСТВО КНИГ, ВЕРНО? — спросил Оуэн
— Да! Да! — сказал я
— НУ ТЕПЕРЬ-ТО ТЫ ВИДИШЬ, ЧТО ДЕЛО НЕ В «ТЭСС»?
— Да, — пришлось признать мне
— НУ ВОТ, ХОТЬ ДО ЧЕГО-ТО ДОГОВОРИЛИСЬ, — вздохнул с облегчением Оуэн Мини — мой друг, мой учитель
Я стоял на тротуаре рядом с миссис Броклбэнк и чувствовал, как на глаза наворачиваются слезы
— У вас аллергия? — спросила миссис Броклбэнк, я помотал головой Мне стало так стыдно, что я — пусть даже на мгновение — всерьез решил огорошить своих девчонок из двенадцатого класса коварной письменной проверкой по Гарди Я ведь помню, как мне было тяжело, когда я учился сам, я помню, как много для меня значила помощь Оуэна, — какой же я учитель, если хочу подлавливать учеников?
— По-моему, у вас таки аллергия, — заметив слезы на моих глазах, заключила миссис Броклбэнк — Многие страдают аллергией и даже не догадываются об этом Я знаю, я где-то читала






