Молитва об Оуэне Мини Ирвинг Джон
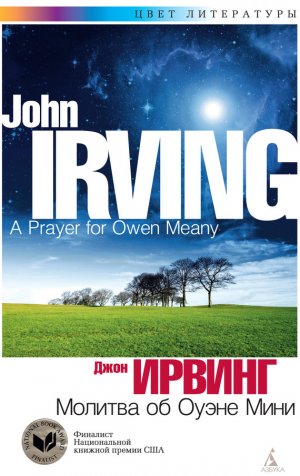
- Агнца, Агнца на престоле
- Увенчай венцом!
- Он пришел по Божьей воле,
- Посланный Отцом.
- Искупил он мукой крестной
- Наш великий грех!
- Светоносный гимн небесный
- Громче гимнов всех!
- Агнец, Агнец не престоле
- В славе и венце!
- Видишь муку смертной боли
- На его лице?
- Тягость мук неодолимых
- Вынес до конца…
- Свет лучей неугасимых
- Вкруг его лица!
Пока мы пели, почетный караул поднял Оуэнов маленький серый гроб и прошествовал с ним по центральному проходу; получилось так, что тело выносили из церкви, как раз когда мы пели третью строфу гимна — строфу, которая значила для Оуэна больше всего.
- АГНЕЦ, АГНЕЦ НА ПРЕСТОЛЕ!
- АГНЕЦ ПОБЕДИЛ
- СМЕРТЬ, ЦАРИВШУЮ ДОТОЛЕ,
- ХЛАД И МРАК МОГИЛ!
- ВОЛЮ БОЖЬЮ ОН ВОССЛАВИЛ,
- СПРАВЕДЛИВ И ПРАВ.
- ЖИЗНЬЮ — ЖИЗНЬ МОЮ НАПРАВИЛ,
- СМЕРТЬЮ — СМЕРТЬ ПОПРАВ!
Про погребение я мало что могу рассказать. Погода стояла жаркая и душная, и с кладбища в конце Линден-стрит мы снова слышали, как на спортивной площадке средней школы ребятишки играют в бейсбол, — все время, пока мы стояли у могилы Оуэна Мини и слушали привычные слова преподобного Льюиса Меррила, до нас доносились веселые детские крики, споры и старый добрый, такой насквозь американский стук биты по бейсбольному мячу.
— «С верой и упованием на воскресение в жизнь вечную через Господа нашего Иисуса Христа, препоручаем мы Богу Всемогущему брата нашего Оуэна…» — говорил мой отец. Если я и слушал его с особенным вниманием, то только потому, что знал: я слушаю пастора Меррила в последний раз. В самом деле, что еще он может мне сказать? Теперь, когда он снова обрел свою утраченную веру, какая нужда ему в утраченном сыне? И какая нужда мне в нем? Я стоял у могилы Оуэна, держа за руку Дэна Нидэма, а бабушка опиралась на нас обоих.
— «…Земля к земле, пепел к пеплу, прах к праху», — продолжал пастор Меррил, а я все думал, что мой отец-то по сути дешевка. В конце концов, он ведь сподобился чуда Оуэна Мини; он столкнулся с ним лицом к лицу, но поверить в него так и не захотел; а теперь он верил во все — но не благодаря Оуэну Мини, а потому, что это я его надул. Я ведь одурачил его с портновским манекеном. Оуэн Мини был подлинным чудом, но мой отец снова обрел свою веру только после того, как увидел манекен, — несчастный простофиля поверил, что это была моя мама, которая взывает к нему с того света.
«ПУТИ ГОСПОДНИ НЕИСПОВЕДИМЫ!» — мог бы сказать Оуэн.
— «..Да осенит его Господь Своей милостью и дарует ему вечный покой», — говорил Льюис Меррил, а тем временем комья земли уже падали на маленький серый гроб. Затем суровый коротконогий военный, к которому полковник Айгер обращался «мастер-сержант», сыграл на горне салют в честь Оуэна Мини.
Я уже уходил с кладбища, когда она подошла ко мне. С виду — фермерская жена, а может, просто все время работает на открытом воздухе. Примерно моих лет, она выглядела гораздо старше — я ее не узнал. С ней было трое детишек; одного она держала на руках — упитанного губастого мальчугана, такого далеко не унесешь. Рядом с ней шли две дочки, одна из которых висла у мамы на ноге, дергала ее и беспрестанно вытирала свой сопливый нос о подол ее линялого черного платья. Вторая дочка — самая старшая, лет семи или восьми — плелась чуть позади и глядела на меня с какой-то неуклюжей застенчивостью, производившей мучительное впечатление. Славная девчушка с соломенными волосами, она постоянно мусолила пальцем малиновое родимое пятно на лбу размером с фотографию на паспорт, замаскированное челкой. Я вглядывался в изможденное, с покрасневшими глазами лицо женщины. Она еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться.
— Помнишь, как мы когда-то поднимали его над головой? — спросила она меня. Тут я узнал ее: это была Мария Бет Бэйрд, наша давняя однокашница по воскресной школе, та самая девочка, которую Оуэн выбрал на роль Девы Марии. «МАРИЯ БЕТ БЭЙРД ЕЩЕ НИ РАЗУ НЕ БЫЛА МАРИЕЙ, — сказал Оуэн. — К ТОМУ ЖЕ ТАК МАРИЕЙ БЫЛА БЫ НАСТОЯЩАЯ МАРИЯ».
Я слышал, Мария Бет еще в школе забеременела и бросила учебу; она вышла замуж за парня из большой фермерской семьи и теперь жила на молочной ферме в Стрейтеме. Я не видел ее с того самого потрясшего всех рождественского утренника в 1953-м — когда, вдобавок к своим усилиям вжиться в роль Матери Младенца Христа, она снабдила нас сногсшибательными костюмами волов с мягкими ветвистыми рогами, в которых волы больше походили на северных оленей. Вероятно, тогда она еще недостаточно разбиралась в тонкостях животноводства.
— Его было так легко поднимать! — поделилась со мной Мария Бет Бэйрд. — Он был такой легонький — совсем ничего не весил! Как он мог быть таким легким? — спросила она меня. Именно в это мгновение я обнаружил, что не могу говорить. Я просто потерял голос, и все. Сегодня я склонен думать, что тогда мне просто не хотелось слышать собственный голос. Если я не мог услышать голос Оуэна, то не хотел слышать больше ничей. Я хотел слышать только голос Оуэна. И только когда со мной заговорила Мария Бет Бэйрд, я понял, что Оуэна Мини больше нет.
Про отъезд в Канаду я мало что могу рассказать. Как мы уже когда-то убедились с Оуэном, на границе между Нью-Хэмпширом и Квебеком смотреть особо не на что: одни леса, куда ни глянь, и узкая, выщербленная стужей дорога, в грифельного цвета заплатах и пузырях морозобоин. Пограничная застава, так называемый таможенный пост, который мне запомнился как простая избушка, оказался не совсем таким, каким я его помнил; еще мне казалось, что там был поднятый шлагбаум — совсем как на железнодорожном переезде, — но теперь он тоже выглядел по-другому. Я был уверен, что прекрасно помню, как мы сидели на краю кузова красного пикапа и разглядывали ели по обе стороны от границы, но потом я задумался, так ли уж хорошо отпечаталось в моей памяти все, что мы делали вместе с Оуэном Мини. Вероятно, Оуэн изменил что-то даже в моей памяти.
Как бы то ни было, границу я пересек без происшествий. Канадский таможенник спросил меня про гранитный упор для двери «ИЮЛЬ 1952». Он, кажется, удивился, когда я сказал ему, что это свадебный подарок. Еще таможенник полюбопытствовал, не отказник ли я; наверное, он видел, что я уже вышел из призывного возраста, — впрочем, в то время уже больше года призывали и тех, кто старше двадцати шести. В ответ я показал таможеннику свою культю.
— Война меня не волнует, — сказал я ему, и он пропустил меня в Канаду без дальнейших расспросов.
Я мог бы осесть в Монреале, но там слишком многих раздражало, что я не говорю по-французски. В день, когда я добрался до Оттавы, шел дождь; я просто продолжал ехать дальше, пока не оказался в Торонто. Я раньше никогда не видел такого большого озера, как Онтарио; я знал, что буду скучать по тому виду, что открывается на Атлантику с волнореза в Рай-Харборе, и меня вдохновила перспектива жить возле озера, похожего на океан.
Больше со мной не случалось ничего примечательного. Я хожу в церковь и преподаю в школе. Эти два пристрастия необязательно предполагают скучную жизнь, но лично моя жизнь, несомненно, скучна. Вся моя жизнь теперь — сплошной рекомендованный список литературы. Я не жалуюсь; на мою долю выпало достаточно переживаний; мне хватило переживаний с Оуэном Мини на всю оставшуюся жизнь.
Как же это, наверное, разочаровало Оуэна — обнаружить, что моим отцом оказалась такая серая моль. Льюис Меррил был до того бесцветным, что я не запомнил его на трибуне бейсбольного стадиона. Мистер Меррил единственный сумел ускользнуть от моего внимания. Сколько я ни разглядывал публику на спектаклях грейвсендского любительского театра (и ведь преподобный мистер Меррил всегда на них присутствовал!), я всякий раз пропускал его. Я так и не вспомнил, что он сидел на той самой трибуне. Я просто-напросто проглядел его. В любой толпе мистер Меррил не просто ничем не выделялся — он оставался невидимым!
Как же это разочаровало меня — обнаружить, что мой отец просто-напросто еще один «Иосиф». Я никогда не решался рассказать Оуэну, как одно время мечтал, чтобы моим отцом оказался Джон Кеннеди. В конце концов, Мэрилин Монро была ничуть не красивее, чем моя мама! Как же это разочаровало меня — обнаружить, что мой отец — посредственность вроде меня.
Что касается моей веры, тут я оказался достойным сыном своего отца, — иначе говоря, я стал таким же верующим, каким когда-то был пастор Меррил. То верю, то сомневаюсь — то чувствую вдохновение, то вдруг отчаяние. Каноник Кэмпбелл научил меня задавать самому себе вопрос в те минуты, когда мною овладевает отчаяние: «О ком из живущих я могу сказать, что люблю его?» Хороший вопрос — из тех, что способны вернуть к жизни. Сегодня я люблю Дэна Нидэма и преподобную Кэтрин Килинг; я знаю, что люблю их, потому что беспокоюсь о них: Дэну нужно немного сбросить вес, а Кэтрин — немного набрать! То, что я испытываю к Хестер, не совсем любовь; я восхищаюсь ею — она сумела пережить все, несомненно, более стойко и героически, чем я, и эта стойкость не может не вызывать восхищения. А еще ведь есть другие, более далекие родственные чувства, которые могут считаться любовью, — я говорю сейчас о Ное и Саймоне, тете Марте и дяде Алфреде. Я с удовольствием встречаюсь с ними каждое Рождество.
Я не могу сказать, что не люблю своего отца; я просто редко о нем думаю — и я больше не видел его с того дня, как он провел службу и погребение на похоронах Оуэна Мини. Дэн говорит, что теперь он просто непревзойденный проповедник, — от того легкого заикания, что некогда нарушало его речь, даже следа не осталось. Я иногда завидую Льюису Меррилу; хоть бы меня кто так одурачил, как я одурачил его, подарив такую абсолютную и непоколебимую веру. Ведь я хотя и верю, будто знаю, что такое настоящие чудеса, моя вера в Бога приносит мне куда больше расстройств и огорчений, чем былое неверие; без веры жить несравнимо тяжелее, чем когда веришь; но сколько же вера вызывает вопросов, на которые нет ответов!
Как Оуэн Мини мог знать то, что он «знал»? Меня, конечно, не устраивают такие объяснения, как случайность и совпадение; но Бог — разве это лучшее объяснение? Если Бог приложил руку к тому, что «знал» Оуэн, какой это порождает жуткий вопрос! Ибо как Бог мог допустить все то, что случилось с Оуэном Мини?
Будьте осторожны с теми, кто называет себя верующими. Убедитесь, что вы понимаете, что они имеют в виду, а потом еще удостоверьтесь, что они сами понимают, что имеют в виду.
Примерно через год после того, как я уехал в Канаду, все городские церкви Грейвсенда — а вместе с ними, по настоянию Льюиса Меррила, и церковь Херда — провели так называемый Вьетнамский мораторий. В назначенный день в октябре все церковные колокола зазвонили в шесть утра — не сомневаюсь, кое-кто зубами заскрежетал от злости, — а в семь часов уже прошли службы. После этого началось шествие народ собрался у городской оркестровой эстрады, затем процессия двинулась по Центральной улице к лужайке перед Главным зданием Грейвсендской академии. Здесь состоялась так называемая мирная демонстрация, прозвучало несколько стандартных антивоенных речей. Городская газета «Грейвсендский вестник», как и следовало ожидать, не стала посвящать этому событию редакционный комментарий, а только заметила, что демонстрация против беспорядка на автомагистралях страны была бы куда более полезным приложением гражданского чувства. Что касается газеты Академии, «Грейвсендской могилы», то она высказалась в том духе, что школе и городу уже «давно было пора» объединить силы и выступить против этой позорной войны. По оценкам «Вестника», в демонстрации участвовало меньше четырехсот человек — «и примерно столько же собак». «Могила» же утверждала, что толпа насчитывала по крайней мере до шестисот «добропорядочных граждан». Обе газеты сообщили о единственной ответной демонстрации. Когда толпа двигалась по Центральной улице — как раз мимо старого здания городского совета, где труппа грейвсендского любительского театра столько лет развлекала всех от мала до велика, — с тротуара сошел бывший офицер Американского легиона[48] и стал размахивать северовьетнамским флагом прямо перед лицом молодого трубача из походного оркестра Грейвсендской академии.
Дэн сказал мне, что этим бывшим офицером Американского легиона был не кто иной, как мистер Моррисон, трусливый почтарь.
— Хотела бы я знать, где этот идиот раздобыл северовьетнамский флаг! — заметила моя бабушка.
Вот также точно Время прошествовало по Центральной улице и зашагало дальше, и вряд ли что-нибудь могло его остановить.
Оуэн Мини научил меня вести дневник Но мой дневник лишь отражает мою скучную жизнь, тогда как дневник Оуэна содержал куда более захватывающие события его биографии. Вот, к примеру, типичная запись из моего дневника.
«Торонто, 17 ноября 1970 года — сегодня в школе епископа Строна сгорела оранжерея; преподавателей и школьниц пришлось эвакуировать».
Посмотрим, что там еще; я всегда отмечаю в дневнике дни, когда девчонки поют во время утренней службы гимн «Дети Божьи». Еще в моем дневнике зафиксирован день, когда какой-то репортер из рок-журнала поймал меня для блиц-интервью в церкви, перед самым началом утренней службы, — я как раз усаживался на скамью. Это был длинноволосый юнец диковатого вида в каком-то бордовом балахоне — совершенно невозмутимый под взглядами девчонок; казалось, его удерживает в целости лишь обмотка из шнуров и проводов от всей этой его громоздкой звукозаписывающей аппаратуры. И вот этот тип с ходу, не спросив разрешения, — даже не представившись! — сует мне в лицо микрофон и спрашивает, как «близкого родственника» Похотливой Самки, не согласен ли я, что для нее все началось с того дня, когда она встретилась с «Дженет-Плэнит»[49].
— Простите, не понял, — сказал я. Со всех сторон на меня глазели и хихикали мои ученицы.
Репортер хотел расспросить меня, кто «оказывал влияние» на Хестер; он писал статью о ее «ранних годах» и имел кое-какие соображения насчет того, кто на нее повлиял, — и он сказал, что хочет «обкатать» свои соображения на мне! Я ответил, что вообще не знаю, кто такая «Дженет-Плэнит», и что мне на это, в общем-то, глубоко плевать, но если его и вправду интересует, кто «оказал влияние» на Хестер, то лучше ему начать с Оуэна Мини. Он впервые услышал это имя и попросил меня продиктовать по буквам. Все это его крайне озадачило; он думал, что знает уже обо всех.
— А что, он правда оказывал на нее влияние с ранних лет? — недоверчиво переспросил этот тип. Я заверил его, что Оуэн начал «оказывать влияние» на Хестер, можно сказать, одним из первых.
Так, ну-ка, что там еще? Смерть миссис Мини вскоре после Оуэновой; об этом я тоже упомянул в дневнике. А еще о той весне, когда я приезжал в Грейвсенд на бабушкины похороны, — церемония прошла в старой конгрегационалистской церкви, в которую бабушка ходила всю жизнь, и службу провел не пастор Меррил, а тот священник, что заменил его в конгрегационалистской церкви. В ту весну на земле еще повсюду лежал снег — старый, посеревший. Я в очередной раз пошел на кухню в доме 80 на Центральной, чтобы открыть нам с Дэном еще по бутылке пива, и ненароком выглянул в окно, что выходило в увядший розовый сад, — и увидел там мистера Мини! Серее этого старого снега, он ступал в растаявшие, а потом снова замерзшие следы в ледяной корке и медленно приближался к нашему дому. Мне показалось, это бредет какое-то жуткое привидение. Я безмолвно показал на него пальцем, и Дэн сказал: «Да это старый бедный мистер Мини».
«Гранитная компания Мини» давно прекратила свое существование; карьеры уже который год стояли без дела и ждали покупателя. Мистер Мини подрабатывал в электрической компании — он ходил по городу и снимал показания электрических счетчиков. По словам Дэна, в розовом саду мистер Мини появлялся раз в месяц; счетчик висел как раз на той стене, что выходит в сад.
Мне не хотелось с ним разговаривать, но я наблюдал за ним через окно. Когда я услышал, что миссис Мини умерла — и узнал, как она умерла, — то написал ему письмо с соболезнованиями, но он так и не ответил. Впрочем, я и не рассчитывал, что он ответит.
Миссис Мини умерла от ожогов. Как-то раз она сидела слишком близко к камину, и от искры или отскочившего тлеющего уголька загорелся американский флаг, в который, как рассказал Дэну мистер Мини, она привыкла закутываться, словно в шаль. И хотя у врачей ее ожоги особых опасений не вызвали, она умерла в больнице от каких-то невыясненных осложнений.
Когда я увидел мистера Мини, снимающего показания электрического счетчика на доме 80 по Центральной, я понял, что медаль Оуэна, в отличие от флага, не пострадала так сильно от огня. Мистер Мини носил эту медаль — Дэн сказал, что он носит ее всегда и везде. Ткань на колодке — с красно-белыми полосками на синем фоне — здорово выцвела, да и золото самой медали уже не сверкало так ярко, как в тот день, когда на нее в церкви Херда падал солнечный луч, но распростертые крылья американского орла были видны все так же хорошо.
Всякий раз, когда я думаю об Оуэновой медали за героизм, мне на память приходит дневниковая запись Томаса Гарди от 1882 года — та самая, про которую мне написал Оуэн и где Гарди говорит, что он живет «в мире, где все первоначальные ожидания на поверку оборачиваются чем-нибудь совсем другим». Я вспоминаю это всякий раз и когда думаю о мистере Мини, который носит Оуэнову медаль и снимает показания электрических счетчиков.
Посмотрим, что там еще. Кажется, больше ничего особенного — мне почти нечего добавить. Вот разве что это: прошли многие годы, пока я наконец не встал лицом к лицу со своей памятью и не вспомнил во всех подробностях, как погиб Оуэн Мини. И после того, как я заставил себя это сделать, я уже никогда не смогу забыть, как он погиб. Я никогда этого не забуду. Я обречен помнить.
Я никогда не принимал особо деятельного участия в празднованиях Четвертого июля в Грейвсенде; но город наш всегда славился своим истовым патриотизмом — здесь не допустили бы, чтобы День независимости прошел незамеченным. Праздничная колонна собиралась у городской эстрады и проходила почти всю Центральную улицу, причем шум оркестра и количество лающих собак и сопровождающих колонну детей на велосипедах достигали своего пика примерно в середине пути — то есть как раз напротив дома 80, с крыльца которого моя бабушка имела привычку наблюдать за всем этим бедламом. Каждый год четвертого июля бабушка переживала двойственные чувства: в ней было достаточно патриотизма, чтобы стоять на крыльце и махать американским флажком — размером не больше ее ладони, — но в то же время бестолковая толкотня и гвалт заставляли ее хмуриться. Она то и дело одергивала детей, что заезжали на велосипедах на ее лужайку, и прикрикивала на собак, чтобы прекратили свой дурацкий лай.
Я тоже часто смотрел, как мимо нас движется колонна с оркестром, но после маминой смерти мы с Оуэном Мини никогда не присоединялись к ней на велосипедах, поскольку конечным пунктом всей процессии было кладбище на Линден-стрит. Из дома 80 на Центральной мы слышали ружейный салют в честь павших героев; в Грейвсенде вошло в обычай завершать парады в честь Дня поминовения, Дня ветеранов и Дня независимости мужественным оружейным огнем над могилами, где во все остальные дни года было, видимо, слишком тихо.
4 июля 1968 года все шло своим чередом, если не считать того, что Оуэн Мини был в Аризоне и, скорее всего, наблюдал за парадом — или даже принимал в нем участие — в Форте Уачука. Я не знал, что делает Оуэн. Мы с Дэном Нидэмом с удовольствием предавались позднему завтраку вместе с бабушкой; мы все вынесли кофе на крыльцо, чтобы наблюдать за парадом. Судя по приближающимся звукам, колонна уже проходила мимо Главного корпуса Академии, наращивая по пути мощь и количество сопровождающих велосипедистов и собак. Мы с Дэном сидели на каменном крыльце, но бабушка предпочла стоять; сидение на крылечке не соответствовало представлениям Харриет Уилрайт о том, как следует держаться женщине ее возраста и положения.
О чем я думал тогда — если думал вообще, — так это о том, что вся моя жизнь стала вот таким сидением на крылечке и наблюдением за проходящими мимо парадами. В то лето я не работал и осенью тоже работать не собирался. Меня, с моей магистерской степенью, уже зачислили в аспирантуру Массачусетского университета. Что я хочу изучать, мне представлялось смутно; я даже толком не определился, квартиру или комнату мне снимать в Амхерсте, хотя меня уже приняли очным аспирантом. Я пока об этом не задумывался. Чтобы составить себе как можно более насыщенный учебный план, я намеревался по крайней мере год не отвлекаться на преподавание — даже на неполную ставку, даже в одном только классе. Естественно, учебу мою оплачивала бабушка, и это еще больше способствовало тому, чтобы я воспринимал свою жизнь как сидение на крылечке. Я ничего не делал; впрочем, от меня ничего и не требовалось.
Хестер была в таком же положении. Вечером четвертого июля мы сидели на газоне у Суэйзи-Парквей и наблюдали фейерверк над Скуамскоттом: в Грейвсенде имелась своя городская служба фейерверков, и каждый год четвертого июля наши мастера пиротехники устраивали фейерверк на пристани у эллинга Грейвсендской академии. Горожане собирались вдоль Суэйзи-Парквей на поросшем травой берегу реки; в воздухе взрывались петарды и вспыхивали ракеты, с шипением падая в грязную реку. Незадолго до праздника раздавались слабые протесты защитников окружающей среды; кое-кто говорил, что все эти фейерверки тревожат птиц, которые гнездятся в болотах на противоположном берегу. Но в спорах между цаплями и патриотами цаплям редко удается победить; бомбардировки прошли по намеченному расписанию: ночное небо, как обычно, рассыпалось яркими огнями, и мы все получили немалое удовольствие.
Время от времени по черной глади Скуамскотта разливался белый свет, похожий на какую-то невиданную жидкость. Он вспыхивал так ярко, что погруженные во тьму магазины и учреждения города, в том числе и огромное здание, где размещалась наша убогая городская текстильная фабрика, на мгновение вырастали из мрака — словно целый город, рожденный взрывом. Многочисленные пустые окна фабрики отбрасывали этот свет назад; огромные размеры и пустота здания наводили на мысль о каком-то жутковатом и совершенно автономном производстве без всякого участия человека.
— Если Оуэн на мне не женится, я ни за кого больше замуж не пойду, — сказала мне Хестер между вспышками и хлопками. — Если у меня не будет от него детей, то у меня ни от кого не будет детей.
Одним из пиротехников у пристани был не кто иной, как бывалый подрывник мистер Мини. Над черной рекой рассыпалось что-то похожее на взорвавшуюся звезду.
— Вот этот похож на сперму, — угрюмо заметила Хестер.
Я не настолько разбирался в таких вещах, чтобы оспаривать сравнение. Фейерверк, что «похож на сперму», — образ показался довольно странным, если не сказать надуманным, — впрочем, мне ли судить?
Хестер впала в мрачное настроение; мне не хотелось ночевать с ней в Дареме. Надвигалась не самая приятная летняя ночь, но зато задул ветерок Я поехал в дом 80 на Центральной, и там мы с бабушкой посмотрели одиннадцатичасовой выпуск новостей. Она с недавних пор увлеклась каким-то ужасным местным каналом, по которому в новостях привели подробную и удручающую статистику аварий на автомагистралях и ни словом не упомянули о войне во Вьетнаме. Еще там показали материал «на общественно значимую тему» о злом мальчишке, который ослепил какую-то несчастную собаку петардой для фейерверка.
— Силы небесные! — воскликнула бабушка.
Когда она ушла спать, я переключился на «Вечерний сеанс». По одному каналу показывали так называемый «ужастик» — «Чудовище из глубин подземелья», давний любимый фильм Оуэна. По другому каналу шла картина «Моя мама — первокурсница»; там Лоретта Янг играет вдову, которая учится в университете вместе со своей юной дочкой. А вот на третьем канале показывали моего любимого «Американца в Париже». Я готов был хоть всю ночь напролет смотреть, как танцует Джин Келли; в промежутках между песнями и танцами я переключался на канал, где доисторический монстр крушит Манхэттен, или брел на кухню за очередной бутылкой пива.
Я как раз зашел на кухню, когда зазвонил телефон. Время уже перевалило за полночь, а Оуэн так бережно относился к сну моей бабушки, что никогда не звонил в дом 80 на Центральной, если она могла уже лечь спать. Сперва я подумал, он что-то напутал с часовыми поясами; но в ту же секунду сообразил, что, прежде чем найти меня у бабушки, он сперва должен был позвонить Хестер в Дарем и Дэну в Уотерхаус-Холл, и я был уверен, что Хестер или Дэн, а может, и оба они напомнили бы ему, что уже поздно.
— НАДЕЮСЬ, Я НЕ РАЗБУДИЛ ТВОЮ БАБУШКУ? — сказал он.
— Телефон звонил только один раз — я как раз был на кухне, — ответил я. — Что стряслось?
— ТЫ ИЗВИНИСЬ ПЕРЕД НЕЙ ЗА МЕНЯ — ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС, А УТРОМ, — сказал Оуэн. — ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕДАЙ ЕЙ МОИ ИЗВИНЕНИЯ, НО У МЕНЯ СРОЧНОЕ ДЕЛО.
— Что стряслось? — снова спросил я.
— ТУТ ОДИН ТРУП ЗАВЕЗЛИ НЕ ТУДА, КУДА НАДО. ЭТО В КАЛИФОРНИИ — ОНИ ДУМАЛИ, ОН ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ ВО ВЬЕТНАМЕ, А ПОТОМ ВДРУГ ОБНАРУЖИЛИ ЕГО В ОКЛЕНДЕ. ТАК КАЖДЫЙ РАЗ БЫВАЕТ, КОГДА ПРАЗДНИК, — КТО-НИБУДЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО УСНЕТ НА ДЕЖУРСТВЕ. ЭТО ТИПИЧНО ДЛЯ НАШЕЙ АРМИИ — ОНИ ДАЮТ МНЕ ДВА ЧАСА НА СБОРЫ, А ПОТОМ Я ДОЛЖЕН БЫТЬ В КАЛИФОРНИИ. МНЕ НАДО ПОПАСТЬ НА МЕСТНЫЙ РЕЙС ДО ТУСОНА, А ТАМ ПЕРЕСАДКА НА ГРУЗОВОЙ САМОЛЕТ ДО ОКЛЕНДА — ЭТО ПЕРВЫЙ РЕЙС ЗАВТРА РАНО УТРОМ. НА ОБРАТНУЮ ДОРОГУ МНЕ ЗАБРОНИРОВАЛИ БИЛЕТ НА РЕЙС ИЗ САН-ФРАНЦИСКО ДО ФЕНИКСА — ЭТО НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ. ТРУП НАДО ДОСТАВИТЬ В ФЕНИКС — ЭТОТ ПАРЕНЬ, УОРРЕНТ-ОФИЦЕР, БЫЛ ВЕРТОЛЕТЧИКОМ. НАДО ПОНИМАТЬ, РАЗБИЛСЯ И СГОРЕЛ. СЛЫШИШЬ СЛОВО «ВЕРТОЛЕТ» — НАВЕРНЯКА БУДЕТ ЗАКРЫТЫЙ ГРОБ. ДА, ТАК ВОТ, МОЖЕШЬ ТЫ МЕНЯ ВСТРЕТИТЬ В ФЕНИКСЕ? — спросил он.
— Встретить тебя в Фениксе? Зачем? — удивился я.
— А ЧТО? — сказал Оуэн. — ТЕБЕ ВЕДЬ ВСЕ РАВНО ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО, ВЕРНО?
— Ну, в общем, да, — согласился я.
— ТЕБЕ ВЕДЬ ЭТО ПО КАРМАНУ, Я НАДЕЮСЬ?
— Ну да, — согласился я. Затем он рассказал мне все насчет расписания рейсов — он уже разузнал, во сколько мой самолет вылетает из Бостона, когда прибывает в Феникс; я прилечу немного раньше, чем приземлится его самолет из Сан-Франциско, на котором привезут гроб с телом, но долго мне ждать не придется. Я встречу Оуэна, и мы какое-то время побудем вместе. Он уже заказал места в мотеле — «С КОНДИЦИОНЕРОМ, С ХОРОШИМ ТЕЛЕВИЗОРОМ, КЛАССНЫМ БАССЕЙНОМ! КУПИМ ПИВА И ПОГУДИМ КАК СЛЕДУЕТ!» — заверил меня Оуэн. Он, как всегда, все уже устроил.
С похоронами вертолетчика получилось полная свистопляска: с доставкой тела уже опоздали на два дня. Семье погибшего уоррент-офицера (там приехало много родственников из Модесто и Юмы) пришлось задержаться в Фениксе — как им теперь, наверное, казалось, навечно. Уже были сделаны приготовления в похоронном бюро, потом все отменили, потом назначили новое время. Оуэн знал тамошних директора похоронного бюро и священника — «ОБА СУКИ ПОРЯДОЧНЫЕ: ПОХОРОНЫ ДЛЯ НИХ БИЗНЕС, И, КОГДА ЧТО-ТО ИДЕТ НЕ ПО РАСПИСАНИЮ, ОБА НАЧИНАЮТ ВОНЯТЬ И ПРИЧИТАТЬ И ПОЛИВАТЬ ГРЯЗЬЮ ВОЕННЫХ, И НЕСЧАСТНЫМ РОДНЫМ ТОГДА ВООБЩЕ ХОТЬ ВЕШАЙСЯ».
Родные, видимо, собирались устроить что-то вроде поминок на свежем воздухе; поминки шли уже третий день. Оуэн был уверен: единственное, что ему предстоит сделать, — это доставить тело в морг. Ответственный за помощь семье выбывшего из строя — преподаватель военной кафедры из университета штата Аризона, майор, с которым Оуэн тоже был знаком, — предупредил, что родные до того обозлены на армию, что, скорее всего, не захотят никаких военных сопровождающих на похоронах.
— НО ТОЧНО НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ, — пояснил мне Оуэн. — МЫ ПРОСТО БУДЕМ ТОРЧАТЬ ГДЕ-НИБУДЬ ПОБЛИЗОСТИ И ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ОБСТАНОВКЕ — В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ МНЕ МОЖЕТ ОБЛОМИТЬСЯ С ЭТОГО ПАРА СВОБОДНЫХ ДНЕЙ. КОГДА ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ЗАДНИЦУ, КАК ТЕПЕРЬ, НИЧЕГО НЕ СТОИТ НА ПАРУ ДНЕЙ ЗАДЕРЖАТЬСЯ С ПРИБЫТИЕМ В ГАРНИЗОН. НАДО ТОЛЬКО ИЗВЕСТИТЬ НАЧАЛЬСТВО, ЧТО Я ЗАДЕРЖИВАЮСЬ В ФЕНИКСЕ — «ПО ПРОСЬБЕ РОДСТВЕННИКОВ». Я ТАК ОБЫЧНО ДОКЛАДЫВАЮ. ИНОГДА ЭТО ДАЖЕ ПРАВДА — РОДСТВЕННИКИ ЧАСТО ХОТЯТ, ЧТОБЫ ТЫ ПОБЫЛ ВМЕСТЕ С НИМИ. В ОБЩЕМ, СУТЬ В ТОМ, ЧТО У МЕНЯ БУДЕТ КУЧА СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ И МЫ СМОЖЕМ РАССЛАБИТЬСЯ ВМЕСТЕ. Я ТЕБЕ УЖЕ ГОВОРИЛ, ЗДЕСЬ В МОТЕЛЕ ЕСТЬ КЛАССНЫЙ БАССЕЙН; А ЕСЛИ БУДЕТ НЕ СЛИШКОМ ЖАРКО, МОЖЕМ И В ТЕННИС СЫГРАТЬ.
— Я не умею в теннис, — напомнил я ему.
— НУ, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО В ТЕННИС, — ответил Оуэн.
Мне показалось, что ради пары дней лететь несколько далековато. Еще я подумал, что предстоит куча всякой мелкой и досадной неразберихи — в особенности с этим конкретным телом; так что вся затея представлялась какой-то сомнительной. В то же время я понял: Оуэн уже настроился, что я встречу его в Фениксе, и в его голосе слышалось даже большее возбуждение, чем обычно. Я решил, он соскучился; мы не виделись с самого Рождества. В конце концов, я никогда не бывал в Аризоне — и, вынужден признаться, в то время мне было любопытно посмотреть, как происходит так называемое сопровождение тела. Мне не пришло в голову, что июль — не лучшее время года для поездок в Феникс, но что я мог тогда знать?
— Ладно, давай встретимся — звучит заманчиво, — согласился я.
— ТЫ МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ, — сказал Оуэн Мини; его голос как-то дрогнул. Я решил, что помеха на линии. Плохая связь, подумал я.
В тот день приняли закон, по которому осквернение флага США стало считаться государственным преступлением. Ночь 5 июля 1968 года Оуэн Мини провел в Окленде, штат Калифорния, где его поместили в казарме для холостых офицеров. Утром 6 июля Оуэн покинул казарму Оклендской учебно-запасной войсковой части, сделав в своем дневнике следующую запись: «ПРИЗЫВНИКАМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ К ОТПРАВКЕ ВО ВЬЕТНАМ, ПРИКАЗЫВАЮТ ПОСТРОИТЬСЯ У ДВЕРИ, ГДЕ ИМ ВЫДАЮТ КАМУФЛЯЖНУЮ ФОРМУ И ПРОЧЕЕ БАРАХЛО. ПЕРЕД ОТЛЕТОМ НОВОБРАНЦЕВ КОРМЯТ ОБЕДОМ С БИФШТЕКСОМ. Я БЫВАЛ ЗДЕСЬ И ВИДЕЛ ВСЕ ЭТО УЖЕ СТОЛЬКО РАЗ: БРУСЬЯ, ПОДЪЕМНЫЕ КРАНЫ, ЖЕСТЯНЫЕ КРЫШИ СКЛАДОВ, ЧАЙКИ, ПАРЯЩИЕ НАД АНГАРАМИ — И ВСЕ ЭТИ НОВОБРАНЦЫ, КОТОРЫХ ОТПРАВЛЯЮТ ЗА ОКЕАН, И ПРИБЫВАЮЩИЕ ДОМОЙ ТЕЛА. НА ТРОТУАРАХ ВЕЗДЕ СТОЯТ ЗЕЛЕНЫЕ ВЕЩМЕШКИ. ИНТЕРЕСНО, ЗНАЮТ ЭТИ НОВОБРАНЦЫ, ЧТО НАХОДИТСЯ В СЕРЫХ ФАНЕРНЫХ ЯЩИКАХ?»
Оуэн отметил в дневнике, что ему, как обычно, выдали треугольную картонную коробку, в которой лежал сложенный по всем правилам флаг, — «КТО ВСЕ ЭТО ПРИДУМЫВАЕТ? ИНТЕРЕСНО, ТОТ, КТО ДЕЛАЕТ ЭТИ КАРТОННЫЕ КОРОБКИ, ЗНАЕТ, ДЛЯ ЧЕГО ОНИ НУЖНЫ?» Ему выдали обычные бланки для похорон и черную нарукавную повязку — он соврал чиновнику, будто уронил свою повязку в писсуар, чтобы ему выдали еще одну; он хотел, чтобы у меня тоже была черная повязка, — так, мол, я буду выглядеть ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО. Примерно в те минуты, когда мой самолет вылетал из Бостона, Оуэн Мини опознавал, как положено, фанерный контейнер в багажном отделении аэропорта Сан-Франциско.
Когда подлетаешь к Фениксу, первое впечатление — будто попал в никуда; похоже на рыжевато-коричневатую поверхность Луны, если не считать редких широких мазков зелени — поля для гольфа и другие освоенные участки с системами орошения. Из курса геологии я знал: здесь когда-то было океанское мелководье; в сумерках, когда мы уже летели над Фениксом, тени на скалах отливали лиловым пурпуром тропического моря, а скудная трава вроде перекати-поля — аквамарином, так что и вправду можно было вообразить себе доисторический океан. По правде говоря, Феникс до сих пор напоминает мелководное море, с искусственными зеленоватыми и голубоватыми островками бассейнов. Милях в десяти-двадцати вдалеке виднелись зубчатые гряды красноватых, чайного цвета гор, то тут, то там увенчанных шапками похожего на воск известняка, — выходец из Новой Англии мог принять их за грязноватый снег. Но здесь было слишком, слишком жарко для снега.
Хотя под вечер пекло уже не так сильно, над асфальтом колыхалось сухое жаркое марево; несмотря на легкий ветерок, жар накатывал волнами, как из топки. Помимо жары, я обратил внимание на пальмы — здесь повсюду стояли красивые, высоченные пальмы.
Самолет Оуэна с телом, которое он сопровождал домой, задерживался.
Я стал ждать вместе с мужчинами в мексиканских рубашках и кожаных сандалиях; кое на ком были ковбойские сапоги. Женщины, от маленьких и изящных до тучных, с бесстыдным самодовольством расхаживали в коротких шортах и майках на тонких бретельках; их резиновые тапочки гулко шлепали по бетонному полу аэропорта, носящего оптимистическое название Скай-Харбор — «Небесная гавань». И мужчины и женщины питали неудержимую любовь к местным украшениям из серебра с бирюзой.
Заглянув в игровой зал, я обнаружил там молодого, обгоревшего на солнце солдата; он с какой-то свирепой решимостью терзал пинбольный автомат, то и дело раскачивая его. Первый на моем пути мужской туалет оказался закрыт; на нем висело объявление: «Временно не работает», но бумажка уже успела пожелтеть, — судя по всему, она висела здесь давно. После некоторых поисков, пройдя через полосы прохлады разной степени кондиционированности, я нашел сооруженный наспех мужской сортир с наклейкой на дверях: «Временная мужская комната».
Сперва я усомнился, что попал в мужской туалет. Это была темная полуподвальная комната с громадной раковиной, словно в прачечной; я подумал: уж не писсуар ли это для великана? Настоящий писсуар скрывался за ограждением из швабр и ведер, а единственная туалетная кабинка, сооруженная из фанеры прямо посредине комнаты, так свежо пахла древесиной, что этот аромат едва не перебивал удушливый запах дезинфицирующей жидкости. Еще здесь имелось длинное зеркало, прислоненное к стенке, вместо того чтобы висеть на ней. Туалет «временнее» даже представить себе было трудно. Комната — служившая в прошлом, по-видимому, кладовой, но в которой имелась такая загадочно просторная раковина, что трудно было даже вообразить, какие такие вещи в ней можно стирать или замачивать, — отличалась совершенно нелепой для такого маленького помещения высотой потолка. Казалось, будто землетрясением или взрывом эту некогда длинную и узкую комнату поставило на попа. А единственное окошко располагалось под самым потолком, как если бы комната находилась настолько глубоко под землей, что только такое высокое окно и могло пропустить свет с уровня земли, — ничтожное количество этого света едва достигало пола комнаты. Такие окошки часто сооружают над дверью, но здесь оно было само по себе. Судя по петлям, оно открывалось, а подоконник под ним был такой широкий, что на нем мог бы с удобством усесться человек, если бы из-за нависающего потолка ему не пришлось согнуться пополам. Край подоконника отстоял от пола футов на десять или даже больше. Это было одно из тех недосягаемых окон, какие открывают и закрывают с помощью крюка на длинном шесте, — если только его вообще кто-нибудь когда-нибудь открывал. По крайней мере, выглядело оно так, будто не мыли его ни разу.
Я пописал в маленький узкий писсуар, пнул швабру в ведре, качнул хлипкую «временную» кабинку из фанеры. Этот туалет состряпали до того халтурно, что вряд ли, подумал я, потрудились подвести писсуар и унитаз к трубам. Угрожающих размеров раковина была такой грязной, что я решил не притрагиваться к кранам — так что руки мне вымыть не удалось. Ко всему прочему здесь не было полотенца. Хорошенькая «Небесная гавань», подумал я и побрел прочь, сочиняя на ходу жалобу авиапассажира. Мне даже в голову не пришло, что где-нибудь в другом месте может быть идеально чистый и исправный мужской туалет; возможно, он и был. Возможно, меня просто занесло в одно из тех унылых мест, на дверях которых обычно пишут «Для служебного пользования».
Я побродил немного в кондиционированной прохладе аэропорта; время от времени я выходил наружу — просто чтобы еще раз почувствовать поразительную, удушающую жару, невиданную в Нью-Хэмпшире. Не утихающий ни на секунду бриз дул со стороны пустыни, судя по тому, что такого ветра я никогда не ощущал ни раньше, ни потом. Ветер был сухой и горячий; он трепал свободные мексиканские рубашки на мужчинах, словно флаги.
Я стоял на улице, на горячем ветру, когда вдруг увидел семью погибшего уоррент-офицера; они все тоже дожидались самолета с Оуэном. Будучи до мозга костей Уилрайтом — то бишь типичным новоанглийским снобом, я искренне считал, будто Феникс в основном населен мормонами, баптистами и республиканцами. Однако родня уоррент-офицера не отвечала моим ожиданиям. Первое, что меня удивило, — они не производили впечатления цельной семьи; более того, казалось, они вообще не связаны друг с другом родственными узами. Человек шесть или семь, они стояли, обдуваемые пустынным ветром, возле серебристого катафалка и, хотя находились довольно близко друг от друга, все же напоминали не столько семейный портрет, сколько нанятых впопыхах сотрудников какой-нибудь маленькой бестолковой фирмы.
Вместе с ними стоял армейский офицер — должно быть, тот самый майор, с которым Оуэн уже работал вместе, преподаватель военной кафедры из университета штата Аризона. Это был плотный подтянутый мужчина, который напомнил мне Рэнди Уайта с его неутомимыми занятиями спортом. Офицер носил солнечные очки типа «консервов», которые предпочитают летчики. Возраста было не определить — можно дать и тридцать, и сорок пять — отчасти благодаря его тренированной фигуре; жесткие волосы торчали коротким ежиком, — то ли светлые от природы, то ли седоватые.
Я попытался понять, кто были остальные. Мне показалось, что я угадал в одном из них распорядителя похорон — директора похоронного бюро или его заместителя. Это был высокий, худой, бледный тип в белой крахмальной рубашке с длинными остроконечными углами воротника; он единственный из всей этой странной группы был одет в темный костюм с галстуком. Поодаль от общей группы стоял грузный мужчина в шоферской форме и безостановочно курил. Сами родственники уоррент-офицера хранили непроницаемый вид — если не считать общей для всех явной, хотя и по-разному выражавшейся ярости. Меньше всего она проявлялась у сутулого, медлительного на вид мужчины в рубашке с короткими рукавами и шнуровкой. Я мысленно определил его как отца. Его жена — предполагаемая мать погибшего — все время дрожала и дергалась рядом с этим мужчиной, который казался мне просто-таки воплощением неподвижности и непробиваемости. Женщина находилась в постоянном движении; ее пальцы беспрестанно теребили одежду и оправляли волосы, высоко взбитые и липкие на вид, словно сахарная вата. Лучи заходящего пустынного солнца усиливали это сходство с сахарной ватой, окрашивая волосы в розовый цвет. Три дня «поминок на свежем воздухе» здорово отразились на ее физиономии; к тому же она почти перестала владеть собой: время от времени она сжимала кулаки и разражалась ругательствами, которые я не мог расслышать из-за пустынного ветра и расстояния, нас разделявшего. Как бы то ни было, ее брань мгновенно действовала на парня и девушку, в которых я угадал брата и сестру погибшего.
С каждой злобной вспышкой матери ее дочь передергивало, будто ругательство было адресовано непосредственно ей (хотя я думаю, что это не так) или будто с каждым ругательством мать ухитрялась стегнуть дочь невидимым мне кнутом. При этом дочь вздрагивала и съеживалась, а пару раз даже зажала уши руками. По тому, как измятое хлопчатобумажное платье облепляло ее при каждом порыве ветра и к тому же было ей явно тесновато, я понял, что она беременна, хотя выглядела слишком юной для этого, и я не видел рядом ни одного мужчины, годящегося на роль отца ее нерожденного ребенка. Парень, стоящий возле девушки, как мне показалось, доводился братом — и притом младшим — как мертвому уоррент-офицеру, так и беременной девочке.
Это был долговязый и нескладный малый с костлявым лицом, наводящий оторопь своими смутно угадывающимися потенциальными габаритами. Лет ему было на вид не больше четырнадцати—пятнадцати, но, несмотря на худобу, костяк у него угадывался до того мощный — если судить по гигантским мосластым лапищам и непомерно большой голове, — что парень мог бы свободно набрать еще сотню фунтов, не особо увеличившись в размерах. С этой дополнительной сотней фунтов он стал бы гигантским монстром, а сейчас, пожалуй, он выглядел так, будто недавно как раз сбросил эту самую сотню, и в то же время чувствовалось, что он готов набрать ее снова хоть за ночь.
Этот верзила возвышался над всеми, раскачиваясь на ветру, как высоченные пальмы, что тянулись вдоль аллеи перед входом в здание аэропорта Скай-Харбор, и его ярость проявлялась агрессивнее, чем у всех остальных; его злоба, подобно его телу, казалась чудовищной и способной увеличиться многократно. Когда мать ему что-то говорила, парень запрокидывал назад голову и сплевывал; внушительный грязно-коричневый комок описывал длинную дугу и шлепался об асфальт. Поразительно, что родители позволяют ему в таком возрасте жевать табак. Затем он поворачивался и застывшим взглядом смотрел на мать в упор, пока та сама не отворачивалась от него, по-прежнему не зная, куда девать руки.
Надето на парне было нечто вроде засаленного, как мне показалось издалека, рабочего комбинезона, а с пояса, похожего на плотницкий, свисали на лямках какие-то тяжелые инструменты — они, правда, больше походили на инструменты автомеханика или телефонного мастера. Возможно, парень подрабатывал после школы и прямо с работы пришел в аэропорт встретить тело своего брата.
Если на аэродроме уоррент-офицера встречали самые близкие из его семьи, то при мысли о еще менее представительных родственничках, которые, наверное, уже третий день гуляют на поминках, у меня внутри все переворачивалось. Насмотревшись на всю эту шатию, я подумал, что не стал бы заниматься работой Оуэна Мини и за миллион долларов.
Никто не знал, с какой стороны должен подлететь самолет. Я решил положиться на майора и распорядителя похорон; они единственные из всех собравшихся смотрели в одну и ту же сторону, и я понял, что им приходится встречать уже не первый гроб. И я стал смотреть в ту же сторону, что и они. Хотя солнце уже зашло, необъятное небо пронизывали яркие полосы алого света, и в одной из таких полос я вдруг увидел идущий на посадку самолет Оуэна — словно Оуэна, куда бы он ни направлялся, всюду сопровождал свет.
Всю дорогу от Сан-Франциско до Феникса Оуэн писал в своем дневнике; он строчил страницу за страницей — знал, что у него мало времени.
«Я ЗНАЮ ТАК МНОГО, — писал он. — НО Я НЕ ЗНАЮ ВСЕГО. ВСЕ ЗНАЕТ ТОЛЬКО БОГ. У МЕНЯ НЕ ОСТАЛОСЬ ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ ВО ВЬЕТНАМ. Я ДУМАЛ, Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЧТО ПОЕДУ ТУДА Я ДУМАЛ, Я ЗНАЮ ЕЩЕ И ДАТУ ТОЖЕ. НО ЕСЛИ Я ПРАВ НАСЧЕТ ДАТЫ, ЗНАЧИТ, Я ОШИБАЮСЬ НАСЧЕТ ВЬЕТНАМА. А ЕСЛИ Я ПРАВ НАСЧЕТ ВЬЕТНАМА, ЗНАЧИТ, ОШИБСЯ НАСЧЕТ ДАТЫ. ВОЗМОЖНО, ЭТО И ВПРАВДУ «ТОЛЬКО СОН» — НО ОН КАЖЕТСЯ ТАКИМ РЕАЛЬНЫМ! САМОЙ РЕАЛЬНОЙ КАЗАЛАСЬ ДАТА, НО ТЕПЕРЬ Я УЖЕ НЕ ЗНАЮ — Я ТЕПЕРЬ НЕ УВЕРЕН НИ В ЧЕМ.
Я НЕ БОЮСЬ, НО ОЧЕНЬ ВОЛНУЮСЬ. ПОНАЧАЛУ Я НЕ ХОТЕЛ ЗНАТЬ — ТЕПЕРЬ Я НЕ ХОЧУ НЕ ЗНАТЬ. ГОСПОДЬ ИСПЫТЫВАЕТ МЕНЯ», — писал Оуэн Мини.
Там было много чего еще; он растерялся. Он отрезал мне палец, чтобы не дать мне попасть во Вьетнам; он попытался физически устранить меня из своего сна. Но хотя он и не дал мне попасть на войну, было очевидно — судя по записям в дневнике, — что в его сне я остался. Он мог не дать мне попасть во Вьетнам, он мог отрезать мне палец, но удалить меня из своего сна так и не смог, и это его беспокоило. Если ему предстоит умереть, он знал, что я буду рядом, но не знал зачем. Но если он отрезал мне палец, чтобы спасти мне жизнь, то это как-то не вяжется с тем, что он пригласил меня в Аризону. Бог обещал ему, что со мной не случится ничего плохого; Оуэн Мини всячески придерживался этого убеждения.
«МОЖЕТ, ЭТО И ВПРАВДУ «ВСЕГО ТОЛЬКО СОН»! — повторил он. — МОЖЕТ, ДАТА — ЭТО ВСЕГО-НАВСЕГО ПЛОД МОЕГО ВООБРАЖЕНИЯ! НО ОНА БЫЛА ВЫСЕЧЕНА НА КАМНЕ — ОНА ТЕПЕРЬ В САМОМ ДЕЛЕ ВЫСЕЧЕНА НА КАМНЕ!» — добавил он, имея в виду, конечно, что он сам уже высек дату своей смерти на собственном надгробии. Но теперь он растерялся; теперь он уже не чувствовал такой уверенности.
«ОТКУДА ВЬЕТНАМСКИЕ ДЕТИ МОГЛИ ВЗЯТЬСЯ В АРИЗОНЕ? — спрашивал Оуэн сам себя; он даже Богу задал вопрос: — ГОСПОДИ, ЕСЛИ Я НЕ СПАСУ ВСЕХ ЭТИХ ДЕТЕЙ, КАК ТЫ МОГ ЗАСТАВИТЬ МЕНЯ ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ ТАКОЕ? — Позже он добавил: — Я ДОЛЖЕН ДОВЕРИТЬСЯ ГОСПОДУ».
И буквально перед тем, как его самолет приземлился в Фениксе, он записал свое торопливое наблюдение с воздуха: «ВОТ И ОПЯТЬ — Я ВЫШЕ ВСЕГО, ЧТО ВОКРУГ ПАЛЬМЫ ТУТ ОЧЕНЬ СТРОЙНЫЕ И ВЫСОКИЕ, И Я СЕЙЧАС ВЫСОКО НАД ПАЛЬМАМИ. НЕБО И ПАЛЬМЫ ТУТ ОЧЕНЬ КРАСИВЫЕ».
С самолета он сошел первым; его военная форма резко и решительно бросала вызов жаре, черная нарукавная повязка ясно говорила всем о его миссии. В одной руке он держал зеленый вещмешок, в другой — треугольную картонную коробку. Он сразу подошел к багажному отсеку самолета. Хотя я и не слышал его голоса, можно было понять, что он дает распоряжения рабочим и водителю автопогрузчика, — не сомневаюсь, он объяснял им, что надо все время держать голову трупа выше уровня ног, чтобы из щелей ничего не потекло. Когда тело в фанерном ящике выгружали из самолета, Оуэн застыл на месте, отдавая честь. Потом водитель автопогрузчика закрепил ящик на вильчатом захвате, и Оуэн запрыгнул на один из зубьев вилки — так он и проехал это короткое расстояние через взлетную полосу к поджидающему гроб катафалку, похожий на деревянную фигуру, какими в старину украшали носы кораблей.
Я пересек асфальтовую площадку и подошел поближе к родственникам погибшего; те не шевелились и лишь взглядами сопровождали Оуэна и ящик с телом. Они стояли словно парализованные своим гневом, но майор решительно шагнул навстречу Оуэну и приветствовал его. Шофер откинул заднюю дверцу длинного серебристого катафалка, а представитель похоронного бюро тут же сделал елейную мину профессионального посланника смерти.
Оуэн легко спрыгнул с автопогрузчика, сбросил на асфальт вещмешок и с треском распечатал треугольную картонную коробку. С помощью майора Оуэн развернул флаг, на сильном ветру управиться с ним было нелегко. Внезапно включились дополнительные посадочные огни на взлетной полосе, и флаг, надувшись и затрепетав на ветру, ярко вспыхнул на фоне темного неба. После нескольких неловких попыток Оуэн с майором в конце концов накрыли флагом ящик. Как только тело задвинули в катафалк, флаг на крышке тут же успокоился, и вся семья, словно большое неуклюжее животное, приблизилась к катафалку и Оуэну Мини.
Я только тут разглядел, что парень-переросток одет не в рабочий комбинезон, а в камуфляжную форму, а то, что я сперва принял за разводы грязи или масла, оказалось маскировочными пятнами. Камуфляж выглядел как настоящий армейский, однако парень еще явно не достиг призывного возраста и вряд ли мог полностью соблюсти форму одежды — на его больших ногах вместо армейских красовались потертые и замызганные баскетбольные ботинки с высоким подъемом, а спутанная грива до плеч определенно не соответствовала уставу. И пояс был не плотницкий, а что-то вроде патронташа, снаряженного, судя по всему, настоящими боевыми патронами — по крайней мере, из нескольких ячеек торчали головки пуль, — а на разнообразных петлях, крючках и лямках, прицепленных к патронташу, свисали предметы, вовсе не похожие ни на слесарные инструменты, ни на аппаратуру телефонного мастера. Этот верзила носил на поясе настоящее (по крайней мере, с виду) армейское снаряжение: саперную лопатку, мачете, штык-нож — хотя ножны для штыка не походили на армейские; во всяком случае, мне так показалось. Они были сшиты из отражающей ткани ядовито-зеленого цвета с наклейкой в виде традиционного черепа с костями из такой же отражающей ткани, но ядовито-оранжевой.
Беременной девочке, которую я принял за сестру этого долговязого чудовища, было от силы лет шестнадцать. Она начала всхлипывать, затем сжала кулак и, чтобы не разреветься окончательно, закусила большую костяшку указательного пальца.
— Дерьмо собачье, — выдала мамаша.
Медлительный мужчина, показавшийся мне ее мужем, то складывал свои мясистые руки на груди, то снова опускал их, а малый в камуфляже после очередного ругательства матери машинально запрокинул голову и выплюнул еще один внушительных размеров грязно-коричневый комок, описавший длинную дугу.
— Может, хватит наконец? — попросила его беременная девочка.
— Пошла ты на хер! — отозвался он.
Медлительный мужчина оказался не таким уж и медлительным. Он неожиданно резко ударил парня правой рукой — увесистая оплеуха пришлась прямо в челюсть, и малый шмякнулся на асфальт не хуже Оуэнова вещмешка.
— Не смей так разговаривать с сестрой, — произнес мужчина.
Парень, не двигаясь, ответил:
— Отвали на хер!.. Она мне не сестра, наполовину только!
Мать вмешалась:
— Не разговаривай так со своим отцом.
— Он мне не отец, ты, сука! — ответил парень.
— Не смей называть мать сукой! — сказал мужчина; но стоило ему приблизиться к лежащему на асфальте парню, будто примериваясь, как бы половчее его пнуть, как мальчишка, пошатываясь, встал на ноги. В одной руке он держал мачете, в другой — штык-нож
— Вы оба суки, — сказал парень мужчине и женщине, и, когда его единоутробная сестра снова принялась плакать, он еще раз запрокинул голову и выплюнул табачную жвачку. В сестру он не попал, хотя и метил в нее. И тут с ним заговорил Оуэн Мини.
— КЛАССНЫЕ У ТЕБЯ НОЖНЫ, — сказал Оуэн. — САМ СМАСТЕРИЛ?
Я уже наблюдал, как действует голос Оуэна на свежего человека: вся эта жуткая семейка, едва услышав его, застыла на месте. Беременная девочка перестала плакать; отец — который, как оказалось, не был отцом верзилы — отшатнулся от Оуэна, словно испугался Голоса больше, чем штыка или мачете или даже и того и другого вместе; мамаша нервно пригладила свои липкие волосы, будто Оуэн напомнил ей, что надо позаботиться о своем внешнем виде. Оуэнова фуражка едва доставала верзиле до груди.
Верзила сказал ему:
— А ты-то кто такой, недомерок?
— Это офицер сопровождения выбывших из строя, — вмешался майор. — Его зовут лейтенант Мини.
— Пусть сам скажет, — проговорил парень, не сводя глаз с Оуэна.
— МЕНЯ ЗОВУТ ЛЕЙТЕНАНТ МИНИ, — сказал Оуэн и протянул руку для пожатия. — А ТЕБЯ КАК?
Но чтобы пожать Оуэну руку, парню пришлось бы убрать по крайней мере что-нибудь одно — или мачете, или штык-нож; судя по всему, делать этого ему не хотелось. Он также не потрудился назвать Оуэну свое имя.
— Что это у тебя с голосом? — спросил он Оуэна.
— НИЧЕГО. А С ТОБОЙ ЧТО? — спросил Оуэн. — ВЫРЯДИЛСЯ СОЛДАТОМ? В ВОЙНУШКУ ИГРАЕМ? ТЫ ЧТО, НЕ ЗНАЕШЬ, КАК ПОЛОЖЕНО РАЗГОВАРИВАТЬ С ОФИЦЕРОМ?
Нарвавшись на жесткий тон, парень тут же сник, как всякий грубиян.
— Знаю, сэр, — ответил он, злобно поглядев на Оуэна.
— УБЕРИ ОРУЖИЕ, — велел Оуэн. — ЭТО ТВОЕГО БРАТА Я ПРИВЕЗ ДОМОЙ? — спросил он.
— Да, сэр, — сказал парень.
— МНЕ ЖАЛЬ, ЧТО ТВОЙ БРАТ ПОГИБ, — сказал Оуэн Мини. — ТЫ НЕ ХОЧЕШЬ УДЕЛИТЬ ЕМУ НЕМНОГО ВНИМАНИЯ?
— Да, сэр, — смиренно произнес парень; он, похоже, растерялся, плохо представляя, каким образом ему следует уделить своему мертвому брату НЕМНОГО ВНИМАНИЯ, и угрюмо уставился на уголок флага, который был ближе к открытой задней дверце катафалка и потому время от времени вздрагивал на ветру.
Затем Оуэн Мини обошел всю родню, пожимая руки и выражая соболезнование. На лице матери в одно мгновение промелькнула целая гамма чувств; ее будто раздирали два противоречивых желания — начать заигрывать с Оуэном и убить его. На безучастного отца малый рост Оуэна, как мне показалось, произвел самое неприятное впечатление; тестообразное лицо мужчины выражало попеременно то животную тупость, то презрение. Когда Оуэн заговорил с беременной девочкой, та от стеснения едва не лишилась дара речи.
— МНЕ ЖАЛЬ ТВОЕГО БРАТА, — сказал он девушке; его макушка оказалась напротив ее подбородка.
— Он мне брат только наполовину, — промямлила она и потом добавила: — Но я все равно его любила!
Ее другой наполовину брат — тот, что был жив-здоров, — сделал, кажется, дикое усилие, чтобы снова не плюнуть. Ничего себе полусемейка, подумал я.
В майоровой машине, где мы с Оуэном наконец могли как следует поздороваться, обняться и похлопать друг друга по спине, майор рассказал нам про это семейство.
— Сброд, конечно, тот еще — они, пожалуй, все там с уголовными наклонностями, — начал он. Майора звали Ролз; в Голливуде он бы имел успех. Вблизи он выглядел на все пятьдесят — эдакий суровый и обветренный мужчина. Но оказалось, ему всего тридцать семь. Участвуя в боевых действиях в последние дни войны в Корее, он заработал офицерское звание, затем отслужил во Вьетнаме начальником штаба пехотного батальона. Майор Ролз пошел в армию в 1949-м, в восемнадцать лет. Прослужил девятнадцать лет, сражался в двух войнах; а потом его «забыли» повысить до подполковника и, в то время как все приличные старшие офицеры получили должности в Вашингтоне или во Вьетнаме, Ролза просто назначили преподавателем «запаски» на неопределенный срок
В ходе боевых действий вместе с офицерским чином майор Ролз приобрел и определенный цинизм. Майор говорил длинными тирадами, похожими на шквальный огонь, — словно палил очередями из автомата.
— Не удивлюсь, если они там все друг друга перетрахали, — с такой семейкой жди чего угодно, — выдал майор Ролз. — Братец там самый главный псих — околачивается целыми днями в аэропорту, следит за самолетами, пристает к солдатам. Спит и видит, как вырастет и поедет во Вьетнам. Еще психованнее там был только один — этот самый жмурик, которого мы везем. Он уже по третьему разу мотался на фронт. Видели б вы его в перерывах между поездками — вся эта долбаная шайка живет на стоянке для трейлеров, и наш уоррент-офицер все свободное время подглядывал за соседями в окна через оптический прицел. Ну, вы поняли — будто к стенке их ставил, сучонок.. Если б не вернулся во Вьетнам, точно сел бы.
— Оба брата от другого отца — тот уже умер, — продолжал просвещать нас майор Ролз. — Этот болван им не отец, он отец этой бедной девчонки. Не знаю точно, кто ее обрюхатил, но, сдается мне, кто-нибудь из своих. Я бы подумал на уоррент-офицера — он, верно, и ее держал на прицеле, ну, вы поняли? А может, ей оба братца втыкали, — предположил майор Ролз. — Но, по-моему, младший до того свихнулся, что у него даже не стоит, — он спит и видит, как вырастет и начнет убивать направо и налево. А еще есть мамаша — ну, эта, по-моему, скоро с катушек слетит от злости. Погодите, вы еще попадете на поминки — там увидите семейку в полном сборе. Я вам точно говорю — не надо было этого типа возвращать из Вьетнама, даже в ящике. Надо было, наоборот, всех этих сучьих родственничков послать туда. Вот, может, тогда бы мы выиграли эту долбаную войну, — поняли, а? — подытожил майор Ролз.
Мы ехали вслед за серебристым катафалком — тот еле тащился по шоссе с названием Черный Каньон. Затем мы свернули на нечто вроде улицы, что называлась Верблюжий Горб. Пальмы раскачивались на ветру над нашими головами; в одном из кварталов на лужайке с бермудской травой сидели в шезлонгах какие-то старики — несмотря на жару, пусть и вечернюю, старики были одеты в свитера и приветственно махали нам. Наверное, сумасшедшие.
Оуэн Мини представил меня майору Ролзу как своего лучшего друга.
— МАЙОР РОЛЗ, ЭТО МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ – ДЖОН УИЛРАЙТ. ОН ПРИЕХАЛ СЮДА АЖ ИЗ НЬЮ-ХЭМПШИРА! — сказал Оуэн.
— Это лучше, чем приехать из Вьетнама. Рад с вами познакомиться, Джон, — сказал майор Ролз. Он пожал мне руку, едва не переломав пальцы, а машину вел так, будто каждый встречный водитель уже успел смертельно оскорбить его.
— Погодите, сейчас увидите это долбаное похоронное бюро! — сказал мне майор.
— ТАМ ТАКОЙ МОРГ — ВРОДЕ ОТДЕЛА В СУПЕРМАРКЕТЕ, — пояснил Оуэн, и майору Ролзу шутка понравилась — он расхохотался.
— Это точно! А распорядитель похорон, мудила, вроде продавца! — сказал Ролз.
— У НИХ СЪЕМНЫЕ КРЕСТЫ НА ЧАСОВНЕ, — рассказывал мне Оуэн. — ОНИ ИХ МЕНЯЮТ, СМОТРЯ ПОТОМУ, ОТ КАКОЙ КОНФЕССИИ БУДЕТ СЛУЖБА. ТАМ ЕСТЬ РАСПЯТИЕ, НА КОТОРОМ ХРИСТОС ВИСИТ, КАК ЖИВОЙ, ВО ВСЕХ ПОДРОБНОСТЯХ — ЭТО ДЛЯ КАТОЛИКОВ. А ЕСТЬ ПРОСТОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ КРЕСТ ДЛЯ ПРОТЕСТАНТОВ — У ПРОТЕСТАНТОВ ВЕДЬ ВСЕГДА ВСЕ ПРОЩЕ. ЕСТЬ ДАЖЕ КАКОЙ-ТО ФИГУРНЫЙ КРЕСТ С ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ — ЭТО ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНИКОВ.
— Каких еще «промежуточников»? — не понял я.
— Таких, что сидят у нас тут как кость в горле, — отозвался майор Ролз. — Все эти долбаные баптисты — вот уж точно «промежуточники». Помнишь того мудака-священника, а, Мини?
— ВЫ ПРО БАПТИСТА, КОТОРОГО ПРИГЛАШАЮТ В ПОХОРОННОЕ БЮРО? ЕЩЕ БЫ МНЕ НЕ ПОМНИТЬ! — ответил Оуэн.
— Погодите, вы его еще увидите! — сказал мне майор Ролз.
— Жду не дождусь, — ответил я.
Оуэн заставил меня надеть свою запасную черную повязку.
— НЕ ПЕРЕЖИВАЙ, — сказал он мне. — У НАС БУДЕТ ПОЛНО СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ.
— Может, вам, ребята, бабы нужны? — осведомился майор Ролз. — У меня тут есть знакомые студенточки — вполне безотказные девчонки.
— Я ВЕРЮ, ВЕРЮ, — сказал Оуэн. — НЕТ, СПАСИБО — МЫ ПРОСТО СОБИРАЕМСЯ НЕМНОГО ПОБРОДИТЬ ПО ГОРОДУ.
— Я покажу вам, где тут порномагазин, — предложил майор Ролз.
— НЕТ, СПАСИБО, — отказался Оуэн. — МЫ ПРОСТО ХОТИМ НЕМНОГО РАССЛАБИТЬСЯ.
— Я гляжу, вы уж не педики, ребята? — спросил майор и сам рассмеялся собственной шутке.
— ОЧЕНЬ МОЖЕТ БЫТЬ, — ответил Оуэн Мини, и майор Ролз снова рассмеялся.
— Ваш дружок — мерзавец, первый юморист во всей армии, — заметил майор.
Похоронное бюро действительно оказалось чем-то вроде отдела в супермаркете — оно находилось в безумно неуместном окружении. Похоронное бюро с моргом, выстроенное в стиле мексиканской гасиенды, и часовня со сменными крестами образовывали один из многочисленных выступов в длинном извилистом ряду розоватых оштукатуренных строений. В непосредственной близости от морга располагалось кафе-мороженое; к часовне же был пристроен зоомагазин, на витрине которого красовалась выставленная на продажу коллекция змей.
— Немудрено, бля, что уоррент-офицеру хотелось обратно во Вьетнам, — прокомментировал майор Ролз.
Не дожидаясь, пока распорядитель похорон с елейной миной станет допытываться, кто я такой, — спрашивать, с чьего позволения меня пустили осматривать содержимое фанерного контейнера, — Оуэн Мини поспешил представить меня первым.
— ЭТО МИСТЕР УИЛРАЙТ, НАШ ЭКСПЕРТ, — сказал Оуэн. — ОН ИЗ ОСОБОГО ОТДЕЛА. ЭТО ТОНКАЯ УМСТВЕННАЯ РАБОТА, ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, — пояснил Оуэн похоронщику. — Я ВЫНУЖДЕН ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧТО ЭТО НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ.
— О, конечно, конечно! — поспешно сказал распорядитель; очевидно, он и не представлял себе, что туг можно было ОБСУЖДАТЬ. Майор Ролз закатил глаза и еле сдержал сухой смешок, притворившись, будто закашлялся. Устланный ковром коридор похоронного бюро вел в комнату, где пахло как в химической лаборатории и двое неприлично веселых служителей откручивали винты транспортного контейнера с гробом, а третий складывал у дальней стены фанерные листы. Он доедал мороженое и потому довольно неуклюже работал только одной рукой. Чтобы тяжелый гроб — клепанный из стального листа-двадцатки, как минимум, — перенести на хромированную тележку, понадобилось четыре человека. Майор Ролз отвернул три фиксатора, похожих на запирающие колодки, что устанавливают на колесах некоторых машин.
Оуэн Мини открыл крышку и заглянул внутрь. Спустя некоторое время он повернулся к Ролзу
— ЭТО ОН? — спросил Оуэн майора.
Майор Ролз долго смотрел внутрь гроба. Распорядитель похорон понимающе ждал своей очереди.
Наконец майор Ролз повернулся.
— Думаю, что он, — сказал Ролз и добавил: — По крайней мере, вполне похож
Похоронщик шагнул было к гробу, но Оуэн остановил его.
— ПОЖАЛУЙСТА, ДАЙТЕ СПЕРВА ПОСМОТРЕТЬ МИСТЕРУ УИЛРАЙТУ, — сказал он.
— О да, конечно! — согласился распорядитель и отступил назад, прошептав своим подчиненным: «Это из Особого отдела — сказали, не обсуждается». Двое служителей, как, впрочем, и тот добродушный парень, что складывал фанеру и ел мороженое, тревожно переглянулись друг с другом.
— Какова причина смерти? — спросил майора Ролза распорядитель похорон.
— КАК РАЗ ЭТО МЫ И ВЫЯСНЯЕМ! — резко оборвал его Оуэн. — ЭТО КАК РАЗ ТО, ЧТО НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ!
— О да, конечно! — кивнул идиот распорядитель.
Майор Ролз снова постарался не рассмеяться и кашлянул.
Я не стал рассматривать труп уоррент-офицера слишком близко. Я был настолько готов увидеть что-нибудь даже отдаленно не напоминающее человека, что поначалу испытал огромное облегчение: в гробу лежал нормальный с виду солдат в серо-зеленой форме с авиаторскими крылышками на воротнике кителя и уоррент-офицерскими «жестянками», у которого как будто все было на месте. Его загримировали под цвет загара, и кожа на лице, казалось, слишком туго обтягивала выступающие скулы. Волосы выглядели немного неестественно; они напоминали плохой парик Потом я начал замечать кое-какие странности, расходящиеся с моими привычными представлениями о человеческом лице: его уши сморщились и почернели, став похожими на чернослив, как если бы он слушал что-нибудь в наушниках и те в этот момент загорелись. Еще я обратил внимание на выжженные вокруг глаз круги, точно соответствующие по форме защитным очкам, отчего уоррент-офицер напоминал енота. Я догадался, что солнечные очки расплавились прямо у него на лице и что кожа так натянулась из-за того, что все лицо вздулось — оно превратилось в тугой и гладкий волдырь, отчего возникло впечатление, будто адский жар, в котором он сгорел, зародился где-то внутри его головы.
Мне сделалось не по себе; на самом деле мне стало больше стыдно, чем противно, — я почувствовал, что веду себя неприлично, вторгаясь в личные дела уоррент-офицера. Это примерно как если бы какой-нибудь любитель острых ощущений, подталкиваемый толпой зевак, оказался слишком близко к развороченному автомобилю и почувствовал себя виноватым, углядев клок окровавленных волос, торчащий из разбитого лобового стекла. Оуэн Мини понял, что я не могу говорить.
— ЭТО ТО, ЧТО ВЫ И ОЖИДАЛИ УВИДЕТЬ, НЕ ТАК ЛИ? — спросил меня Оуэн.
Я кивнул и отошел в сторону.
Распорядитель похорон тут же ринулся к гробу
— О, в самом деле, все могло оказаться гораздо хуже, — сказал похоронщик. Он суетливо вытащил салфетку и вытер какую-то жидкость, выступившую из угла рта уоррент-офицера. — Но все-таки я не одобряю открытые гробы, — признался он. — Это последнее прощание может здорово разбередить душу.
— Вряд ли этот парень способен был разбередить чью-то душу, — заметил майор Ролз. Но я подумал, что одну-то душу уоррент-офицер уже точно разбередил, — своему долговязому братцу он не то что разбередил душу, а пожалуй что и мозги сломал.
Мы с Оуэном купили себе по соседству мороженое, пока майор Ролз спорил с распорядителем похорон насчет «мудака священника». Была суббота. Завтрашнее отпевание нельзя было проводить в баптистской церкви — это помешало бы обычной воскресной службе. Имелся некий баптистский священник, который мог приехать в похоронное бюро и провести службу в местной универсальной часовне.
— Он что же, такой мудак, что у него нет даже собственной церкви и потому он переезжает с места на место? — съязвил майор Ролз. Он обвинил распорядителя похорон в том, что они слишком часто работают вместе с этим священником — и все «из-за денег».
— В церкви это тоже стоит денег — где бы вы ни умерли, если вам нужно отпевание, это стоит денег, — отвечал распорядитель.
— МАЙОРУ РОЛЗУ ПРОСТО УЖЕ НАДОЕЛ ЭТОТ БАПТИСТ, — пояснил мне Оуэн.
Когда мы снова оказались в машине, Ролз сказал:
— В жизни не поверю, что кто-нибудь из этого семейства вообще хоть когда-нибудь, хоть раз в жизни ходил в церковь! Этот долбаный тип из похоронного бюро — я знаю, это он уболтал их стать баптистами. Скорее всего, он сначала сказал им, что нужно назваться хоть кем-то, чтобы им организовали отпевание, а потом сказал, что баптисты лучше всех. Он да этот гребаный священник — чертова парочка, нечего сказать…
— ЛУЧШЕ ВСЕХ ЭТО УСТРАИВАЮТ КАТОЛИКИ, — возразил Оуэн Мини.
— Ну их в задницу, этих долбаных католиков! — выругался майор Ролз.
— НЕТ, ПРАВДА, ОНИ ВСЕ УСТРАИВАЮТ ЛУЧШЕ ВСЕХ — У НИХ ВСЕ ТАК ТОРЖЕСТВЕННО, И РИТУАЛЫ ЧТО НАДО, И ПРОЦЕССИЯ ДВИЖЕТСЯ КАК ПОЛОЖЕНО, — сказал Оуэн Мини.
Мне стало забавно, что Оуэн хвалит католиков; он говорил совершенно серьезно. Даже майор Ролз не захотел с ним спорить.
— Да никто не умеет «устраивать» это хорошо — вот все, что я знаю, — сказал майор.
— Я И НЕ ГОВОРИЛ, ЧТО КТО-ТО УСТРАИВАЕТ ЭТО ХОРОШО, СЭР, —Я ПРОСТО СКАЗАЛ, ЧТО КАТОЛИКИ ДЕЛАЮТ ЭТО ЛУЧШЕ. МОЖНО ДАЖЕ СКАЗАТЬ, ОНИ ДЕЛАЮТ ЭТО ЛУЧШЕ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ, — отозвался Оуэн Мини.
Я спросил Оуэна, что это за жидкость потекла изо рта уоррент-офицера.
— Ничего особенного, просто фенол, — ответил майор Ролз.
— ЕГО ЕЩЕ НАЗЫВАЮТ КАРБОЛОВОЙ КИСЛОТОЙ, — сказал Оуэн.






