Молитва об Оуэне Мини Ирвинг Джон
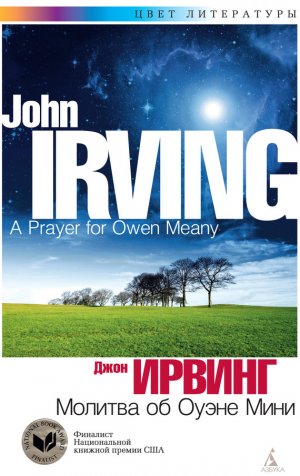
Я смотрел, как он медленно бредет по Центральной улице в сторону освещенных окон Академии. Вечер выдался теплым, повсюду то и дело хлопали сетчатые двери и поскрипывали кресла-качалки на летних верандах. Соседские ребятишки играли во что-то с карманными фонариками; к счастью, даже для самых американских детей было уже слишком темно, чтобы играть в бейсбол.
Мои братья и сестра были необычайно подавлены происшедшей трагедией. Ной все повторял: «Надо же, в голове не укладывается!» — и обнимал меня за плечо. А Саймон довольно бестактно, хотя и без всякого умысла, добавлял: «Кто бы подумал, что он может так сильно ударить по мячу?»
Тетя Марта свернулась калачиком на диване в гостиной, положив голову на колени дяде Алфреду; она лежала неподвижно, словно маленькая девочка, у которой болит ухо. Бабушка, по обыкновению, расположилась в своем кресле, похожем на трон; время от времени они с дядей Алфредом переглядывались и сокрушенно качали головами. Один раз тетя Марта поднялась со всклоченными волосами и грохнула своим кулачком по журнальному столику. «Господи, как же это бессмысленно!» — вскрикнула она, после чего снова положила голову на колени дяде Алфреду и заплакала. Этот всплеск чувств никак не подействовал на бабушку; она лишь глядела в потолок, что можно было понимать двояко: то ли она просила о ниспослании терпения и выдержки, то ли пыталась постичь смысл, недоступный тете Марте.
Хестер не стала переодеваться: траурное платье, сшитое из черного льна, отличалось простым покроем и хорошо на ней сидело — маме наверняка бы понравилось. Вид у Хестер в этом платье был совсем взрослый, правда, оно порядком помялось. Из-за жары она время от времени подбирала волосы и закалывала их на макушке, но непослушные пряди то и дело выбивались из пучка и падали ей на лицо и шею, пока она в конце концов не плюнула и не распустила их совсем. Пот крупными бисеринами выступил у нее на верхней губе, отчего кожа казалась гладкой и блестела, как стекло.
— Хочешь прогуляться? — спросила она меня.
— Конечно, — ответил я.
— Хочешь, мы с Ноем пойдем с вами? — спросил Саймон.
— Не надо, — сказала Хестер.
Во многих домах на Центральной улице до сих пор горели лампочки над входными дверями; хозяйских собак еще не забрали в дом, и они лаяли при нашем приближении; однако мальчишек, что недавно играли с фонариками, уже позвали домой. С тротуара поднимались волны теплого воздуха — у нас в Грейвсенде в теплые вечера жару первым делом ощущаешь промежностью. Хестер взяла меня за руку, и мы медленно побрели вдоль по улице.
— Я сегодня второй раз в жизни вижу тебя в платье, — признался я.
— Знаю, — ответила Хестер.
Ночь выдалась особенно темной — облачной и беззвездной; месяц проступал сквозь дымку тусклым обломком.
— Ты только не забывай, — сказала она, — что твоему другу Оуэну сейчас еще хуже, чем тебе.
— Знаю, — ответил я, ощутив при этом немалый прилив ревности — во многом оттого, что Хестер тоже думала об Оуэне.
Дойдя до грейвсендской гостиницы, мы свернули с Центральной; я поколебался, прежде чем пересечь Пайн-стрит, но Хестер, судя по всему, знала дорогу — ее рука настойчиво тянула меня вперед. Когда мы дошли до Линден-стрит и двинулись вдоль темного здания средней школы, нам обоим уже было ясно, куда мы идем. На школьной стоянке виднелась полицейская машина — чтобы удобнее выслеживать хулиганов, подумал я, или чтобы помешать школьникам использовать стоянку и игровые площадки для недозволенных занятий.
Мы слышали звук мотора, слишком низкий и хриплый для патрульной машины, а когда здание школы осталось у нас за спиной, урчание сделалось громче. Вряд ли для работы кладбища нужен мотор, однако звук доносился именно оттуда. Сегодня мне кажется, что я потому хотел посмотреть тогда на мамину могилу, что знал, как она ненавидит темноту; думаю, я хотел убедиться, что даже на кладбище ночью пробивается хоть какой-то свет.
Уличные фонари с Линден-стрит озаряли кладбищенскую ограду, выхватывая из темноты огромный грузовик «Гранитной компании Мини», что стоял у главных ворот с включенным двигателем. Вскоре мы с Хестер разглядели мрачный профиль мистера Мини за рулем грузовика, изредка освещаемый вспышкой сигареты после каждой затяжки. Мистер Мини сидел в кабине один, но я хорошо знал, где сейчас Оуэн.
Мистер Мини, кажется, нисколько не удивился, увидев меня, а вот появление Хестер его смутило. Хестер всех смущала: вблизи и при хорошем освещении ее облик вполне соответствовала возрасту — крупная, рано созревшая девочка двенадцати лет. Однако на расстоянии, а тем более в сумерках, она запросто сошла бы за восемнадцатилетнюю девицу, к тому же вполне определенного сорта.
— Оуэну нужно было еще кой-чего сказать, — доверительно сообщил нам мистер Мини. — Но он чего-то подзастрял. Верно, вот-вот закончит.
Я почувствовал новый приступ ревности: выходит, Оуэн первым позаботился о том, как моя мама проведет свою первую ночь под землей. Во влажном и душном воздухе дизельный выхлоп казался особенно тяжелым и смрадным, но, боюсь, мне бы не удалось уговорить мистера Мини заглушить двигатель. Возможно, он не стал этого делать нарочно, чтобы поторопить Оуэна с его молитвами.
— Я хочу, чтоб ты знал кой-чего, — снова заговорил мистер Мини, обращаясь ко мне. — Я собираюсь послушаться твою маму. Она просила не мешаться, если Оуэн захочет пойти в Академию. Вот я и не буду. — Он помолчал и затем добавил: — Я обещал.
Пройдут годы, пока я осознаю, что с момента удара Оуэна по мячу мистер Мини больше никогда не «мешался» в его дела — что бы тот ни задумал.
— Еще она велела мне не волноваться насчет денег, — продолжал мистер Мини. — Я не знаю, как теперь с этим быть, — добавил он.
— Оуэн получит полную стипендию, — сказал я.
— Я ничего в этом не смыслю, — сказал мистер Мини. — Наверно, получит, если захочет. Твоя мама толковала чего-то насчет одежды. Всякие там пиджаки-галстуки.
— Не беспокойтесь, — сказал я.
— Да я-то не беспокоюсь, — сказал он. — Я просто хотел пообещать, что не буду мешать, вот и все.
Где-то в глубине кладбища мигнул луч света, и мы с Хестер невольно стали туда всматриваться. Мистер Мини заметил это.
— У него с собой фонарик, — пояснил он. — Не пойму, чего он так долго. Ушел-то уже давно. — Он слегка газанул пару раз, как будто этот звук мог поторопить Оуэна. Спустя некоторое время мистер Мини сказал: — Может, вы сходите поглядите, чего он там мешкает?
На само кладбище свет почти не пробивался, и мы с Хестер пробирались медленно и осторожно, стараясь не наступить на чужие цветы и не ушибить ногу о чье-нибудь надгробие. Чем дальше мы уходили от грузовика «Гранитной компании Мини», тем приглушеннее становился рокот двигателя — но вместе с тем он делался все более низким и глубоким, словно шел откуда-то из центра Земли, словно это был тот самый мотор, который вращает земной шар и отвечает за смену дня и ночи. Мы уже различали обрывки молитв, произносимых Оуэном; я подумал, он, должно быть, принес фонарик затем, чтобы читать из Книги общей молитвы — наверное, решил прочитать ее всю.
— «…ПУСТЬ ВВЕДУТ ТЕБЯ В РАЙ АНГЕЛЫ ГОСПОДНИ», — звучал его голос.
Мы с Хестер замерли; она встала за моей спиной и обхватила меня руками за талию. Я почувствовал, как ее груди прижались к моим лопаткам, а еще — поскольку она была чуть повыше меня ростом — я ощутил затылком ее теплое дыхание; она слегка пригнула мне голову своим подбородком.
— «ОТЕЦ ВСЕГО СУЩЕГО, — читал Оуэн. — МЫ МОЛИМСЯ ТЕБЕ ЗА ТЕХ, КОГО ЛЮБИМ, НО КОГО НЕТ БОЛЬШЕ С НАМИ…»
Хестер крепче сжала меня в объятиях и принялась целовать мои уши. Мистер Мини снова энергично газанул пару раз, но Оуэн, кажется, не слышал ничего вокруг, он стоял на коленях перед первой на этой могиле горкой цветов, у подножия свежего холмика напротив надгробия. Раскрытый молитвенник лежал перед ним прямо на земле, а фонарик он зажал между коленями.
— Оуэн? — позвал я, но он не услышал меня. — Оуэн! — сказал я погромче. Оуэн поднял голову, но не обернулся, а именно что поднял голову, — вверх — он услышал, что его окликнули по имени, но явно не узнал мой голос.
— Я СЛЫШУ! — крикнул он гневно. — ЧТО ТЕБЕ НУЖНО? ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ? ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ ОТ МЕНЯ?
— Оуэн, это я. — Я почувствовал, как Хестер за моей спиной задрожала и ее дыхание стало прерывистым. До нее вдруг дошло, с Кем Оуэн разговаривает.
— Это я и Хестер, — добавил я; мне вдруг пришло в голову, что фигура Хестер, маячившая за моей спиной и словно грозно нависавшая надо мной, тоже может ввести Оуэна Мини в заблуждение: он ведь теперь постоянно ждал появления ангела — того самого, которого спугнул в спальне моей мамы.
— А, ЭТО ВЫ, — отозвался Оуэн; в его голосе сквозило явное разочарование. — ПРИВЕТ, ХЕСТЕР. Я НЕ УЗНАЛ ТЕБЯ — ТЫ В ПЛАТЬЕ ВЫГЛЯДИШЬ ТАКОЙ ВЗРОСЛОЙ. ИЗВИНИ, ПОЖАЛУЙСТА.
— Ничего страшного, Оуэн, — сказал я.
— КАК ДЭН? — спросил он.
Я ответил, что Дэн держится, но он ушел ночевать в свое общежитие совсем один. Услыхав эту новость, Оуэн сразу сделался сосредоточенным и деловитым.
— МАНЕКЕН, КОНЕЧНО, ВСЕ ЕЩЕ ТАМ, В СТОЛОВОЙ? — осведомился он.
— Ну да, — недоуменно ответил я.
— ЭТО ОЧЕНЬ ПЛОХО, — сказал Оуэн. — ДЭНУ НЕЛЬЗЯ ОСТАВАТЬСЯ ОДНОМУ С МАНЕКЕНОМ. ЧТО, ЕСЛИ ОН БУДЕТ ВСЕ ВРЕМЯ СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ НА НЕГО? А ВДРУГ ОН ПРОСНЕТСЯ НОЧЬЮ, ЗАХОЧЕТ ВЗЯТЬ ЧЕГО-НИБУДЬ ПОПИТЬ ИЗ ХОЛОДИЛЬНИКА И НАТКНЕТСЯ НА МАНЕКЕН В СТОЛОВОЙ? НАДО ПОЙТИ ЗАБРАТЬ ЕГО. ПРЯМО СЕЙЧАС.
Он пристроил фонарик так, чтобы его блестящий корпус был полностью скрыт цветами, а луч освещал могильный холмик. Затем встал, тщательно отряхнул со штанов землю, закрыл молитвенник и еще раз взглянул, как освещается мамина могила; судя по всему, он остался доволен. Не один я, оказывается, знал, как мама не любила темноту.
Втроем в кабине мы бы не поместились, поэтому пришлось устроиться на пыльном полу прицепной платформы, и мистер Мини повез нас в общежитие к Дэну. Старшие школьники еще не спали; мы видели их на лестничных площадках и в холле — некоторые были уже в пижамах, и все с недвусмысленным интересом пялились на Хестер. Пока Дэн шел к двери, чтобы открыть нам, я услышал, как в его стакане гремят кубики льда.
— МЫ ПРИШЛИ ЗАБРАТЬ МАНЕКЕН, ДЭН, — сообщил Оуэн без долгих предисловий.
— Манекен? — переспросил Дэн.
— ТЕБЕ ВРЕДНО ВСЕ ВРЕМЯ СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ НА НЕГО, — заявил Оуэн. Он уверенно прошагал в столовую, где манекен по-прежнему, словно часовой, возвышался над маминой швейной машинкой; на обеденном столе до сих пор лежало несколько кусков ткани и бумажная выкройка, прижатая к одному из них портновскими ножницами. На манекене, однако, обновок не было — он стоял в том же самом красном платье, которое мама терпеть не могла. Оуэн наряжал манекен последним; в этот раз он нацепил на него широкий черный пояс — один из маминых любимых, — пытаясь сделать ансамбль более эффектным.
Оуэн снял пояс и положил его на стол — как будто он мог когда-нибудь понадобиться Дэну! — и поднял манекен за бедра. Вообще Оуэн доставал манекену головой только до груди; когда же он поднял фигуру, ее груди оказались над головой Оуэна и словно указывали дорогу.
— МОЖЕШЬ ДЕЛАТЬ ЧТО ХОЧЕШЬ, ДЭН, — сказал Оуэн. — НЕ НУЖНО ТОЛЬКО СМОТРЕТЬ ВСЕ ВРЕМЯ НА МАНЕКЕН И ЕЩЕ БОЛЬШЕ РАССТРАИВАТЬСЯ.
— Ладно, — ответил Дэн и глотнул виски из своего стакана. — Спасибо тебе, Оуэн, — добавил он, но Оуэн уже выходил из квартиры.
— ПОШЛИ, — бросил он на ходу нам с Хестер, и мы вышли вслед за ним. Мы проехали по Корт-стрит, а потом через всю Пайн-стрит, и над головой у нас проносились ветви деревьев, и в лицо впивались мелкие гранитные пылинки. Один раз Оуэн стукнул кулаком по кабине. «БЫСТРЕЕ!» — крикнул он отцу, и мистер Мини поехал быстрее.
На Центральной улице, как раз в тот момент, когда мистер Мини стал притормаживать, Хестер сказала:
— Я могла бы так кататься хоть всю ночь. Можно было бы съездить к берегу моря и обратно. Ветерок так приятно обдувает. Хоть чуть-чуть прохладнее становится.
Оуэн снова стукнул кулаком по кабине.
— ПОЕХАЛИ К МОРЮ! — крикнул он. — К КАБАНЬЕЙ ГОЛОВЕ И ОБРАТНО!
Мы выехали за город. «БЫСТРЕЕ!» — снова крикнул Оуэн, когда мы ехали по пустой дороге по направлению к Рай-Харбору. Эти восемь— десять миль мы одолели стремительно; гранитные крошки скоро совсем сдуло с пола платформы, и теперь нам в лица лишь изредка ударялись случайные насекомые, проносящиеся мимо. Волосы у Хестер растрепались. Ветер гудел так, что не давал разговаривать. Пот на лицах мгновенно высох, слезы тоже. Красное платье плотно облепило мамин манекен и хлопало на ветру; Оуэн сидел, опершись спиной о кабину грузовика и разложив манекен у себя на коленях — сосредоточенный, словно пытаясь воспарить вместе с ним.
На берегу, у Кабаньей Головы, мы скинули обувь и зашли в море; мистер Мини все это время исправно ждал нас, так и не заглушив двигатель. Оуэн не выпускал манекен из рук, стараясь не заходить слишком глубоко, чтобы не замочить платье.
— МАНЕКЕН БУДЕТ У МЕНЯ, — сообщил он. — ВАШЕЙ БАБУШКЕ ТОЖЕ НЕ СТОИТ ПОСТОЯННО СМОТРЕТЬ НА НЕГО. А ТЕМ БОЛЕЕ ТЕБЕ, — добавил он.
— А уж тем более — тебе, — парировала Хестер, но Оуэн не отвечал, продолжая идти, высоко переступая через волны.
Когда мистер Мини наконец привез нас обратно на Центральную улицу, во всем квартале на первых этажах домов свет уже не горел, — если не считать бабушкиного дома, конечно, — светились только немногие окна на верхних этажах: кое-кто читал перед сном. В жаркие ночи мистер Фиш обычно спал в гамаке на застекленной веранде, так что мы старались не шуметь, прощаясь с Оуэном и его отцом; Оуэн не велел ему разворачиваться на нашей подъездной аллее. Поскольку манекен нельзя было согнуть и он не помещался в кабине грузовика, Оуэн поехал на платформе; он стоял, обхватив манекен за талию, а грузовик тем временем медленно отъезжал в темноту. Свободной рукой Оуэн крепко держался за цепь, которой бордюрные камни и могильные плиты пристегиваются к платформе.
Если мистер Фиш спал-таки на веранде в своем гамаке и если бы он проснулся в этот момент, то увидел бы незабываемую картину, проплывающую под фонарями Центральной улицы. Громоздкий темный грузовик, неуклюже движущийся по ночному городу, и женщина в красном платье — некая особа с соблазнительной фигурой, но без головы и без рук, — которую держит за талию прикованный цепью не то ребенок, не то карлик
— Надеюсь, ты хоть понимаешь, что он чокнутый, — устало произнесла Хестер.
Но я смотрел вслед удаляющейся фигуре Оуэна с восхищением: он сумел совершенно по-особому заполнить для меня этот горестный вечер после маминых похорон. И, как и в случае с когтями броненосца, он взял то, что хотел, — на этот раз маминого двойника, скромный портновский манекен в нелюбимом платье. Потом, спустя годы, я не раз подумывал о том, что Оуэн, видимо, знал: этот манекен еще сыграет свою роль; видимо, он уже тогда предвидел, что нелюбимое платье еще сработает — что и у него есть предназначение. Но тогда, в ту ночь, я готов был согласиться с Хестер; мне казалось, красное платье просто стало для Оуэна чем-то вроде талисмана — амулетом, отводящим злую волю того самого «ангела», которого Оуэн якобы видел. Сам я тогда ни в каких ангелов не верил.
Торонто, 1 февраля 1987 года — четвертое воскресенье после Крещения. Сегодня я верю в ангелов. Я вовсе не утверждаю, что это хорошо; например, на вчерашних выборах в церковный совет мне это не особенно помогло — меня даже не внесли в список кандидатов. Я был членом приходского правления столько раз и столько лет подряд, что вряд ли стоит обижаться; может, наши прихожане просто решили пожалеть меня и дать отдохнуть год-другой. Разумеется, если бы меня выдвинули помощником, я мог бы отказаться. Признаться, я порядком устал; я уже и так поработал для церкви Благодати Господней гораздо больше, чем многие. И все же удивительно, что мне не предложили ни одной должности; уж это-то могли бы сделать — если не за верную службу и преданность, то хотя бы из простой вежливости.
Напрасно я позволил обиде — если это обида — отвлечь мои мысли от воскресной службы; нехорошо это. Когда-то я был старостой при нашем викарии, канонике Кэмпбелле — еще когда каноник Кэмпбелл был нашим викарием; признаться, пока он был жив, ко мне, по-моему, относились получше. Но с тех пор, как викарием стал каноник Мэки, я успел побывать и помощником старосты при викарии, и общественным старостой. А еще меня как-то на год избрали первым помощником старосты, а в другой раз — председателем приходского совета. Каноник Мэки не виноват, что в моем сердце он никогда не заменит каноника Кэмпбелла; каноник Мэки добр и приветлив, а его болтливость ничуть меня не раздражает. Просто в канонике Кэмпбелле было что-то особое, и в тех давних временах тоже было что-то совершенно особое.
Напрасно я переживаю насчет всей этой ерунды с ежегодным перераспределением приходских должностей; тем более нельзя позволять подобным мыслям отвлекать меня от литургии и проповеди. Каюсь, это мальчишество.
Приглашенный проповедник меня тоже отвлекает. Каноник Мэки вообще любит приглашать для ведения проповеди чужих священников, чем избавляет нас от собственной болтовни. Не знаю уж, откуда пришел наш сегодняшний проповедник, но он явно из числа англиканских «реформаторов»; главное положение его проповеди, все, что на первый взгляд кажется новым, на самом деле то же самое. Поневоле подумаешь: что сказал бы на это Оуэн Мини?
У протестантов принято часто обращаться к Библии; именно там мы обычно ищем ответы на все вопросы. Но даже Библия сегодня мешает мне сосредоточиться. Для службы в четвертое воскресенье после Крещения каноник Мэки выбрал Евангелие от Матфея — а именно, эти Заповеди Блаженства. Нам с Оуэном, по крайней мере, постичь их было трудно.
«Блаженны нищие духом; ибо их есть Царство Небесное».
Трудно представить себе, как могут «нищие духом» достичь хоть чего-то существенного.
«Блаженны плачущие; ибо они утешатся».
Когда погибла моя мама, мне было одиннадцать лет. А я оплакиваю ее до сих пор. Более того, я оплакиваю не только ее. И пока не чувствую никакого «утешения».
«Блаженны кроткие; ибо они наследуют землю».
«НО ЭТОМУ ЖЕ НЕТ НИКАКОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ», — говорил Оуэн, обращаясь к миссис Ходдл в воскресной школе.
А дальше:
«Блаженны чистые сердцем; ибо они Бога узрят».
«А ПОМОЖЕТ ЛИ ИМ ТО, ЧТО ОНИ УЗРЯТ БОГА?» — вопрошал Оуэн у миссис Ходдл.
Помогло ли Оуэну то, что он узрел Бога?
«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить на Меня, — говорит Иисус. — Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас».
Награда на небесах — в этом есть что-то такое, что нам с Оуэном всегда было трудно принять.
«ТО ЕСТЬ ПРАВЕДНОСТЬ — ЭТО ВЗЯТКА», — уточнял Оуэн; но миссис Ходдл уклонялась от дискуссии.
Так что после Заповедей Блаженства и проповеди, прочитанной незнакомым священником, мне показалось, что Никейский символ веры мне навязывают. Каноник Кэмпбелл имел обыкновение разъяснять все, что непонятно, — например, мне не давало покоя место, где говорится о вере в «Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь», и каноник Кэмпбелл помог мне увидеть, что скрывается за этими словами: он заставил меня понять, что подразумевается под «соборностью», в каком смысле церковь «апостольская». А каноник Мэки говорит, что я зря переживаю, — это «просто слова». Просто слова?
И еще остается вопрос насчет «всех народов» и особенно — «королевы нашей». Я уже не американец, но меня до сих пор коробит от этой строки: «..даруй рабе Твоей ЕЛИЗАВЕТЕ, королеве нашей…» А уж думать, будто можно «вести все народы стезею добродетели», — просто смешно!
И перед тем, как получить святое причастие, я передумал участвовать в общей исповеди.
«Признаем наши многие грехи и беззакония и каемся в них». В некоторые из воскресений мне невероятно трудно это произнести; каноник Кэмпбелл всегда бывал снисходителен ко мне, когда я клялся, что мне тяжело сделать подобное признание, но каноник Мэки опять и опять оперирует тезисом «просто слова», пока я не начинаю закипать от ненависти. И когда каноник Мэки начал обряд святого причастия, приступив к благодарственному молебну и освящению хлеба с вином — а читал каноник нараспев, — я почувствовал раздражение даже от его певучего голоса, которому никогда не сравниться с голосом каноника Кэмпбелла — упокой, Господи, его душу.
За всю службу только один псалом как следует пронял меня и заставил устыдиться: тридцать седьмой[12]; мне казалось, хор обращается прямо ко мне:
«Перестань гневаться, и оставь ярость; не ревнуй до того, чтобы делать зло».
Да, все правильно: мне нужно перестать гневаться и оставить ярость. Что хорошего в раздражении? Я часто раздражаюсь. Иногда я даже готов «делать зло» — вы это еще увидите.
4. Младенец Христос
Первое Рождество после маминой смерти я впервые в жизни провел не в Сойере. Бабушка сказала тете Марте и дяде Алфреду, что, если наша семья соберется в полном составе, мы слишком остро будем чувствовать мамино отсутствие. Если я с Дэном и бабушкой останусь в Грейвсенде, уверяла она, а Истмэны — в Сойере, мы все будем скучать друг по другу — а значит, будем меньше тосковать по маме. В то Рождество 1953 года я понял, каким адом может стать этот святой праздник для семьи, потерявшей кого-то из близких или где есть иная беда; так называемый дух дарения порой так же ненасытен, как и дух стяжательства, — в Рождество мы отчетливее всего осознаем, чего лишены и кого с нами нет.
Все время каникул я проводил попеременно то в бабушкином доме на Центральной улице, то в покинутой мною общежитской квартире Дэна, благодаря чему впервые увидел, как Грейвсендская академия выглядит в Рождество, когда все ученики, живущие в общежитии, разъезжаются по домам. Унылый камень и кирпич, запорошенный снегом плющ, наглухо закрытые и потому казарменно-однообразные окна спальных и учебных корпусов — все это придавало учебному заведению сходство с тюрьмой, охваченной массовой голодовкой. По дорожкам четырехугольного двора не спешили, как обычно, школьники, и одинокие голые березы цвета кости выделялись на фоне снега, словно рисунки углем или скелеты былых выпускников.
Колокола капеллы, как и звонок, возвещающий о начале очередного урока, временно безмолвствовали, и мамино отсутствие как бы подчеркивалось отсутствием обычной для Грейвсенда музыки — я к ней так привык, что почти перестал замечать, пока она вдруг не умолкла. Осталось только торжественно-мрачное «бом», отмеряющее часы на колокольне церкви Херда. В льдистые дни того декабря, разносясь над старым снегом, оттаявшим и смерзшимся снова, тускло отсвечивающим истертым оловом, бой часового колокола церкви Херда напоминал погребальный звон.
В то Рождество веселиться было не с чего, хотя наш славный Дэн Нидэм и старался изо всех сил. Он слишком много пил и потом скрипучим голосом распевал рождественские гимны, гулким эхом отдававшиеся во всех уголках пустого корпуса. Его манера исполнения этих гимнов мучительно-резко отличалась от маминой. А когда к Дэну присоединялся Оуэн, чтобы спеть строфу из «Да пошлет Господь вам радость» или — еще хуже — «И озарилась светом ночь», старые каменные лестничные колодцы общежития наполнялись и вовсе надрывной музыкой, нисколько не похожей на рождественскую, а, напротив, совершенно отчетливо похоронной; казалось, это поют призраки учеников Академии, которые когда-то не смогли уехать домой на Рождество и теперь взывают к своим далеким семьям.
Спальные корпуса Грейвсендской академии носили имена давно умерших преподавателей и директоров: Аббот, Амен, Бэнкрофт, Данбар, Гилман, Горам, Куинси, Лэмберт, Перкинс, Портер, Скотт, Хупер. Дэн Нидэм жил в корпусе под названием Уотерхаус-Холл, названном в честь некоего покойного латиниста-зануды по имени Эймос Уотерхаус, — но даже его переложение рождественских гимнов на латынь, я уверен, звучало бы куда веселее, чем эта заунывная несуразица в исполнении Дэна с Оуэном Мини.
Словно в отместку за то, что теперь Рождество будет проходить без моей мамы, бабушка отказалась участвовать в праздничном оформлении дома 80 по Центральной улице; в результате венки оказались прикреплены на дверях слишком низко, а нижние ветки рождественской елки были явно перегружены мишурой и игрушками — не страдающей изысканным художественным вкусом Лидии удалось сотворить это лишь на высоте инвалидной коляски.
— Все-таки лучше было бы нам всем поехать в Сойер, — заявил Дэн Нидэм слегка заплетающимся языком.
Оуэн тяжело вздохнул.
— ПО-МОЕМУ, Я УЖЕ НИКОГДА НЕ ПОБЫВАЮ В СОЙЕРЕ, — угрюмо сказал он.
Вместо Сойера мы с Оуэном отправились по комнатам ребят, которые на Рождество разъехались из Уотерхаус-Холла по домам. У Дэна Нидэма имелся универсальный ключ, отпиравший замки всех комнат. Почти каждый день Дэн уходил репетировать со своими актерами сценическое переложение «Рождественской песни»[13] — ее ставили у нас каждый год и успели отчаянно затрепать; чтобы хоть как-то освежить игру, Дэн заставлял актеров меняться ролями от одного Рождества к другому. Так, мистер Фиш, который в позапрошлом году играл Призрака Марли, в прошлом — Святочного Духа Прошлых Лет, теперь был самим Скруджем. Несколько лет подряд Дэн приглашал на роль Малютки Тима прелестных детишек, но те вечно путали слова, и Дэн стал уговаривать Оуэна. На что Оуэн сказал, что все лопнут со смеху — если не при первом же его появлении, то уж когда он откроет рот — точно. И кроме того, мать Малютки Тима играла миссис Ходдл — при одной мысли об этом, заявил Оуэн, у него ВНУТРИ ВСЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ.
Хватит того, сказал он, что его до сих пор каждый год выставляют на всеобщее посмешище на рождественском утреннике в церкви Христа. «ВОТ УВИДИШЬ, — мрачно говорил он мне. — БОЛЬШЕ У ВИГГИНОВ ЭТОТ НОМЕР НЕ ПРОЙДЕТ — ДЕЛАТЬ ИЗ МЕНЯ СВОЕГО ДУРАЦКОГО АНГЕЛА!»
Мне впервые предстояло участвовать в рождественском утреннике, — все прежние годы я в последнее воскресенье перед Рождеством был уже в Сойере. Однако Оуэн не раз жаловался мне, что ему всегда приходится играть ангела-благовестника — роль, которую на него возложили преподобный командир Виггин с женой стюардессой Розой; та уверяла, что другого «такого славненького, как Оуэн», не сыскать на роль сходящего с небес в «столпе света» ангела (при содействии массивного механизма, напоминающего подъемный кран, к которому Оуэна, словно марионетку, подвешивали на тросах). Оуэн должен был возвестить о чуде — божественном Младенце, лежащем в яслях в Вифлееме; при этом он то и дело хлопал руками, чтобы привлечь внимание к исполинским крыльям, приклеенным к его балахону, и заодно приглушить смешки, то и дело раздающиеся среди прихожан.
Каждый год у алтарных перил собирались толпой «пастухи» один другого угрюмее и наперебой изображали трепет при виде Святого Посланника Господа. Разношерстная куча статистов, «пастухи» вечно наступали на полы своих халатов, а крючковатыми посохами норовили сбить друг у друга с голов тюрбаны и оторвать приклеенные бороды. Розе Виггин с большим трудом удавалось собрать всех их вместе в «столпе света», который в то же время должен был освещать и Сошедшего С Небес Ангела, то бишь Оуэна Мини.
Викарий зачитывал из Евангелия от Луки: «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим». Затем мистер Виггин делал небольшую паузу, чтобы все могли убедиться в раболепном страхе, охватившем пастухов при виде Оуэна, изо всех сил пытающегося достать ногами до пола, — Роза Виггин, управляя скрипучей машиной, опускала Оуэна на землю в опасной близости от зажженных свечей, изображавших костер, вокруг которого пастухи сторожат свое стадо.
— «НЕ БОЙТЕСЬ, — обращался к ним Оуэн, отчаянно барахтаясь в воздухе, — Я ВОЗВЕЩАЮ ВАМ ВЕЛИКУЮ РАДОСТЬ, КОТОРАЯ БУДЕТ ВСЕМ ЛЮДЯМ: ИБО НЫНЕ РОДИЛСЯ ВАМ В ГОРОДЕ ДАВИДОВОМ СПАСИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ЕСТЬ ХРИСТОС ГОСПОДЬ; И ВОТ ВАМ ЗНАК ВЫ НАЙДЕТЕ МЛАДЕНЦА В ПЕЛЕНАХ, ЛЕЖАЩЕГО В ЯСЛЯХ». После этого вспыхивал ослепительный, хотя и прерывистый, словно молния, «столп света» (возможно, в церкви Христа просто были какие-то неполадки в электропроводке), и Оуэна поднимали — иногда буквально вздергивали — куда-то вверх, в темноту; а как-то раз его дернули так стремительно, что одно крыло оторвалось от спины и шлепнулось в толпу обалдевших пастухов.
Самое неприятное заключалось в том, что Оуэну потом приходилось болтаться в воздухе до конца праздника — конструкция аппарата не позволяла опустить ангела где-нибудь в стороне от освещенного пятачка перед алтарем. Так что бедняга висел на тросах и с высоты обозревал все происходящее — младенца, лежащего в яслях, неуклюжих осликов, у которых головы качались из стороны в сторону, спотыкающихся пастухов и волхвов, пошатывающихся под тяжестью своих корон.
А еще Оуэна злило, что, кто бы ни играл Иосифа, он почему-то всегда глупо ухмылялся — как будто Иосифу было над чем ухмыляться. «ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ВООБЩЕ ИОСИФ? — сердито недоумевал Оуэн. — ПУСТЬ СЕБЕ СТОИТ СПОКОЙНО У ЯСЛЕЙ, НО ЗАЧЕМ ОН УХМЫЛЯЕТСЯ?» А на роль Марии всегда подбирали самую красивую девочку. «ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ КРАСОТА? — вопрошал Оуэн. — КТО СКАЗАЛ, ЧТО МАРИЯ БЫЛА КРАСИВОЙ?»
Некоторые штрихи, которые Виггины норовили привнести в представление, доводили Оуэна до белого каления — к таким «штрихам», например, относились маленькие детишки, переодетые голубями. Их костюмы выглядели до того нелепо, что невозможно было догадаться, кого изображают эти малыши. Они напоминали каких-то фантастических духов, диковинных живых существ из другой Галактики, словно Виггины решили, будто за Святым Рождеством непременно наблюдали (или, по крайней мере, должны были наблюдать) обитатели с отдаленных планет.
— НИКТО ЖЕ НЕ ПОНИМАЕТ, ЧТО ЭТО ЗА ДУРАЦКИЕ ГОЛУБИ И ЗАЧЕМ ОНИ! — возмущался Оуэн.
Что касается самого Младенца Христа, то тут Оуэн был просто-таки оскорблен. Виггины были уверены, что маленький Иисус не должен уронить ни слезинки, и в погоне за этим из года в год упорно собирали за кулисами пару десятков грудных детей. Выбор имелся настолько большой, что маленького Иисуса могли убрать из хлева при первом же неподобающем хныке или гуканье — и тут же заменить беззвучным младенцем, или по крайней мере временно оцепеневшим. Для того чтобы очередной тихий младенец всегда был под рукой, выстраивалась порядочная очередь из зловещего вида взрослых, уходящая в темноту за кафедрой проповедника и дальше — за малиново-лиловые занавеси под распятием. Эти здоровенные люди, умело и уверенно обращающиеся с младенцами (по крайней мере, достаточно уверенно, чтобы не уронить расшалившегося Младенца Христа), выглядели до странного неуместно на рождественском действе. Может, это волхвы или пастухи? Но почему тогда они настолько больше остальных волхвов и пастухов, что кажутся неестественно огромными? Костюмы на них были детские, а бороды у многих — настоящими, сами они казались проникнутыми не столько духом Рождества, сколько решимостью выполнить поставленную задачу, — словно добровольцы на пожаре, передающие по цепочке ведра с водой.
Матери переживали за кулисами: конкурс на самого благовоспитанного Младенца — дело нешуточное! Так благодаря затее Виггинов на каждое Рождество, вдобавок к новорожденному Иисусу, на свет во множестве появлялись новые члены самого чудовищного женского клуба — актерские мамаши. Я посоветовал Оуэну быть «выше» всей этой мелочной суеты, но он намекнул, что я вместе с другими ребятами из воскресной школы по крайней мере отчасти виноват в этих его унизительных вознесениях — не мы ли первыми придумали поднимать его в воздух? И не миссис ли Ходдл, подозревал Оуэн, надоумила Розу Виггин использовать Оуэна в роли ангела небесного?
Почему-то Оуэн не вдохновился предложением Дэна сыграть Малютку Тима.
— КОГДА Я ГОВОРЮ: «НЕ БОЙТЕСЬ; Я ВОЗВЕЩАЮ ВАМ ВЕЛИКУЮ РАДОСТЬ», ВСЕ ДЕТИ НАЧИНАЮТ РЕВЕТЬ, А ВСЕ ВЗРОСЛЫЕ ПОКАТЫВАЮТСЯ СО СМЕХУ. КАК ТЫ ДУМАЕШЬ, ЧТО БУДЕТ, КОГДА Я СКАЖУ: «ДА ОСЕНИТ НАС ГОСПОДЬ СВОЕЮ МИЛОСТЬЮ!»?
Да, все дело, конечно, в его голосе. Он мог бы сказать: «НАСТУПАЕТ КОНЕЦ СВЕТА!» — и даже тогда все кругом схватились бы за животики. Для Оуэна это было сущей пыткой: ему недоставало чувства юмора — сохраняя полнейшую серьезность, он заставлял публику умирать от смеха.
Неудивительно, что он начал волноваться из-за рождественского утренника еще в конце ноября: в церковном бюллетене, приуроченном к последнему воскресенью по Пятидесятнице, было помещено объявление под заголовком: «Вниманию желающих принять участие в рождественском утреннике». Первую репетицию назначили сразу после ежегодного приходского собрания и выборов в церковный совет, почти в самом начале наших рождественских каникул. «Кем бы вы хотели быть? — спрашивалось в этом дурацком бюллетене. — Нам нужны волхвы, ангелы, пастухи, ослики, голуби, Мария, Иосиф, младенцы — и многие другие!»
— «ОТЧЕ! ПРОСТИ ИМ, ИБО НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ДЕЛАЮТ», — сказал тогда Оуэн.
Бабушка ворчала, когда мы играли в доме 80 на Центральной улице; поэтому неудивительно, что мы с Оуэном искали любой удобный случай уединиться в Уотерхаус-Холле. Поскольку Дэн днем уходил на репетиции, все здание, можно сказать, оставалось в нашем с Оуэном полном распоряжении. Мальчишечьи комнаты располагались на четырех этажах; на каждом — общий душ, писсуары и кабинки с унитазами, а в конце коридора — преподавательские квартиры. Дэн жил на третьем этаже. Обитатель такой же квартиры на втором этаже, сам похожий на школьника, уехал на Рождество домой; это был молодой, совсем еще неопытный учитель математики мистер Пибоди, холостяк без перспектив изменить свой статус, — из тех, кого мама называла «мимозами». Обидчивого и застенчивого, его с удовольствием дразнили мальчишки, жившие на втором этаже. В те ночи, когда он дежурил по корпусу, в Уотерхаус-Холле происходил форменный путч. Это в его дежурство одного школьника-первогодка, держа за ноги, опустили вниз головой в желоб для белья на четвертом этаже; приглушенные вопли несчастной жертвы эхом разносились по всему общежитию, и мистер Пибоди, открыв люк на втором этаже, сам перепугался до полусмерти, увидев двумя этажами выше глядящую на него перекошенную от страха орущую физиономию.
Мистер Пибоди реагировал в стиле миссис Ходдл. «Ван Арсдейл! — крикнул он вверх. — А ну, вылезай сейчас же из желоба! Приведи себя в порядок, я кому сказал! Встань на ноги как положено!»
Бедняга мистер Пибоди, ему, конечно, в жизни было не догадаться, что Вана Арсдейла крепко держат за ноги два бугая из футбольной сборной Грейвсенда — они измывались над Ваном Арсдейлом каждый божий день.
Стало быть, мистер Пибоди уехал домой к родителям, так что второй этаж остался без преподавательского присмотра. Фанатик-физкультурник с четвертого этажа, тренер по легкой атлетике мистер Тубулари, — и тот уехал на Рождество. Мистер Тубулари тоже был холостяк. Он специально выпросил себе жилье на четвертом этаже — для укрепления здоровья, уверяя, что любит взбегать вверх по лестнице. К нему в гости часто ходили женщины; мальчишки с удовольствием наблюдали снизу, как они в платье или юбке поднимаются и спускаются по ступенькам. В те ночи, когда выпадало его дежурство по Уотерхаус-Холлу, мальчишки вели себя тише воды ниже травы. Мистер Тубулари славился тем, что мог беззвучно и молниеносно накрыть нарушителей на месте любого преступления, как то: перестрелка кремом из тюбиков, курение в комнатах и занятие онанизмом. На каждом этаже имелась специально отведенная для курильщиков комната отдыха, которую все называли просто «курилкой», а вот в жилых комнатах курение запрещалось, как, впрочем, и секс в любом виде, спиртное в любом виде, а также лекарства, кроме тех, что прописал школьный врач. Мистер Тубулари возражал даже против аспирина. Дэн сказал, что мистер Тубулари уехал на какие-то изнурительные рождественские соревнования, — что-то вроде пятиборья по самым тяжелым зимним видам спорта. Сам мистер Тубулари в шутку называл это «зимарафоном». Дэн Нидэм терпеть не мог подобных слов-уродов и задавался риторическим вопросом — в каких-таких видах спорта состязается мистер Тубулари; дело в том, что этот фанатик уехал не то на Аляску, не то в Миннесоту.
Дэн развлекал нас с Оуэном, в красках расписывая пятиборье мистера Тубулари, этот его «зимарафон».
— Первым видом должно быть что-нибудь капитальное, — рассуждал Дэн Нидэм, — например, колка дров на время. За поломку топора — штрафные очки. Затем — бег по глубокому снегу: десять миль в сапогах или сорок в снегоступах. После этого — пробиваешь в озере лунку и, держа топор, плывешь подо льдом, а на том берегу пробиваешь другую лунку и вылезаешь. Затем строишь иглу — чтобы согреться. Следующий вид — езда на собачьих упряжках: нужно проехать в санках от Анкориджа до Чикаго. Затем строишь еще одно иглу — чтобы отдохнуть.
— ЭТО УЖЕ ШЕСТЬ ЭТАПОВ, — заметил Оуэн. — В ПЯТИБОРЬЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТОЛЬКО ПЯТЬ.
— Ну ладно, тогда выбросим второе иглу, — не стал спорить Дэн.
— ИНТЕРЕСНО, ЧТО МИСТЕР ТУБУЛАРИ ДЕЛАЕТ В НОВОГДНИЙ ВЕЧЕР? — сказал Оуэн.
— Морковный сок, — ответил Дэн, наливая себе очередную порцию виски. — Мистер Тубулари сам себе готовит морковный сок.
Как бы то ни было, мистер Тубулари уехал из общежития; и когда Дэн уходил на свои репетиции, полновластными хозяевами трех верхних этажей Уотерхаус-Холла становились мы с Оуэном. Что касается первого этажа, то там нашими конкурентами оставались только Бринкер-Смиты; но если вести себя достаточно тихо, то их можно было не принимать в расчет. Молодая супружеская пара из Англии, Бринкер-Смиты не так давно произвели на свет двойню и все свое время всецело — и по большей части не без удовольствия — посвящали выживанию с двойней. Мистер Бринкер-Смит, вообще-то биолог по специальности, ударился в изобретательство; он смастерил высокий стульчик с двумя сиденьями, коляску с двумя сиденьями, качели с двумя сиденьями — они висели в дверном проеме, и двойняшки могли качаться на них, как мартышки на лиане, достаточно близко один от другого, чтобы дергать друг друга за волосы. Сидя на высоком стульчике, они могли бросаться друг в друга кашей, и потому спустя некоторое время мистер Бринкер-Смит соорудил между ними перегородку — достаточно высокую, чтобы нельзя было перебросить кашу через верх. Тогда они стали перестукиваться, чтобы убедиться, что другой на месте; а еще они размазывали по ней кашу, так что получалось похоже на пещерную живопись — так сказать, до-письменная стадия коммуникации внутри этого сообщества. А мистер Бринкер-Смит с восторгом наблюдал, как очередное изобретение преодолевается «близнецовым методом»: для истинного ученого отрицательный результат эксперимента представляет почти такой же интерес, как и положительный, — и его инженерная мысль, подстегиваемая сообразительностью детей, не знала покоя ни днем ни ночью.
Миссис Бринкер-Смит, это, напротив, несколько утомляло. Хорошенькая от природы, она не выглядела совсем уж изможденной; ее усталость от малышей — и от изобретений мистера Бринкер-Смита, призванных облегчить ей жизнь, — проявлялась лишь в приступах такой глубокой рассеянности, что мы с Оуэном и Дэном подозревали, что она засыпает на ходу. Она не замечала нас в буквальном смысле. Звали ее Джинджер-Рыжулька — за пикантные веснушки и рыжеватые волосы; она была предметом похотливых фантазий многих мальчишек из Грейвсендской академии — и тех, что учились до меня, и тех, что после; а если учесть, что грейвсендские мальчишки (как и любые другие) не могут не предаваться похотливым фантазиям, Джинджер Бринкер-Смит, думаю, вызывала у них вожделение, даже когда была беременна своими двойняшками. Но нас с Оуэном в то Рождество пятьдесят третьего ее внешность не слишком привлекала; наряды Джинджер выглядели так, будто она спит, не снимая их, и я уверен: так оно и было. А ее пресловутые округлости, которые отпечатаются у меня в памяти не менее прочно, чем у любого другого ученика Академии, тогда совершенно терялись под мешковатыми блузами — такая одежда, разумеется, удобнее для кормящей матери: не надо долго возиться, чтобы расстегнуть специальный лифчик. По европейской традиции, пышно разросшейся на нью-хэмпширской почве, миссис Бринкер-Смит, кажется, намеревалась кормить своих двойняшек грудью чуть ли не до школьного возраста.
Бринкер-Смиты вообще были страстными поборниками грудного вскармливания, если судить по тому, что мистер Бринкер-Смит даже использовал жену в качестве наглядного пособия на своих уроках биологии. Любимый учениками и осуждаемый коллегами-занудами за излишнюю либеральность, мистер Бринкер-Смит искал любую возможность, чтобы, как он выражался, «оживить» урок. Это подразумевало и потрясающее зрелище, как Джинджер Бринкер-Смит на глазах у всего класса кормит грудью своих двойняшек. Увы, этот опыт был растрачен на юных грейвсендских биологов задолго до того, как мы с Оуэном доросли до учебы в Академии.
В общем, мы с Оуэном не боялись, что Бринкер-Смиты помешают нам обследовать комнаты мальчишек на первом этаже Уотерхаус-Холла. Наоборот, мы жалели, что так мало видели их в то Рождество — мы-то рассчитывали хоть краешком глаза посмотреть, как Джинджер кормит грудью. Мы даже замешкались на первом этаже с затаенной надеждой — вдруг мистер Бринкер-Смит выглянет из квартиры, увидит, что мы с Оуэном слоняемся без всякой образовательной пользы, и тотчас пригласит нас к себе — продемонстрировать, как его жена кормит двойняшек. Увы, он так и не вышел.
Как-то в один из морозных дней мы с Оуэном сопровождали миссис Бринкер-Смит на рынок, по очереди толкая перед собой двойную коляску, в которой сидели плотно укутанные карапузы, — мы даже занесли продукты в квартиру к Бринкер-Смитам. Поход в такую ненастную погоду совершенно свободно можно считать частью пятиборья мистера Тубулари — и вы думаете, после всего этого миссис Бринкер-Смит вынула свои груди и предложила посмотреть, как она кормит двойняшек? Увы, нет.
И нам с Оуэном оставалось изучать, что же хранят в своих комнатах ученики привилегированных школ, когда разъезжаются по домам на Рождество. Мы взяли универсальный ключ Дэна Нидэма, висевший на крючке рядом с консервным ножом, и начали свой обход с комнат четвертого этажа. Работа детектива невероятно захватила Оуэна; он входил в каждую комнату так, будто ее обитатель вовсе даже не уехал домой на Рождество, а спрятался с топором под кроватью или в шкафу. О том, чтобы Оуэн поторопился — хотя бы в самых заурядных комнатах, — не могло быть и речи. Он заглядывал в каждый ящик, исследовал каждый предмет одежды, присаживался на каждый стул, ложился на каждую кровать. На кровати он устраивался всегда в последнюю очередь: ляжет, закроет глаза, глубоко вздохнет и задержит дыхание. И только потом, как следует отдышавшись, провозгласит свое мнение об обитателе этой комнаты — нравится тому в Академии или нет, а может, он тревожится о своем далеком доме или парня беспокоят события далекого прошлого. Оуэн всегда честно признавался, когда жилец оставался для него загадкой.
— ЭТОТ ПАРЕНЬ — СУЩАЯ ЗАГАДКА, — говорил Оуэн. — ДВЕНАДЦАТЬ ПАР НОСКОВ, БЕЛЬЯ НЕТ СОВСЕМ, ДЕСЯТЬ РУБАШЕК, ДВОЕ ШТАНОВ, ОДНА СПОРТИВНАЯ КУРТКА, ОДИН ГАЛСТУК, ДВЕ РАКЕТКИ ДЛЯ ЛАКРОССА, НИ ОДНОГО МЯЧА, НИ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ ДЕВУШКИ ИЛИ РОДИТЕЛЕЙ И НИ ОДНОГО БОТИНКА.
— Ну, ботинки-то, наверное, на нем, — сказал я.
— ТОЛЬКО ОДНА ПАРА, — заметил Оуэн.
— Может, он сдал много вещей в химчистку как раз перед тем, как уехать на каникулы, — предположил я.
— БОТИНКИ И СЕМЕЙНЫЕ ФОТОГРАФИИ В ХИМЧИСТКУ НЕ СДАЮТ, — сказал Оуэн. — ДА, СУЩАЯ ЗАГАДКА.
Мы узнали, где нужно искать порнографические журналы и всякие похабные открытки: между матрасом и панцирной сеткой. От некоторых таких картинок у Оуэна ВНУТРИ ЧТО-ТО ПЕРЕВОРАЧИВАЛОСЬ. В то время подобные фотографии огорчали своей нечеткостью; а некоторые разочаровывали целомудренностью — например, календари с девушками в купальниках. Более волнующие карточки были такого качества, как если бы ребенок снимал на ходу из окна машины; а сами женщины выглядели так, будто их застали врасплох за чем-то, что им самим противно. Да и сюжет снимка трудно было понять, — к примеру, на одном фото женщина непонятно зачем склонилась над мужчиной, может собираясь надругаться над беспомощным трупом. И еще: половые органы женщин часто оказывались скрыты лобковыми волосами — у некоторых такой густоты, какой мы с Оуэном даже вообразить себе не могли, а соски были закрыты черными цензурными штрихами. Сперва мы даже приняли эти штрихи за какие-то изощренные орудия пыток — они поразили нас своим угрожающим видом даже больше, чем сама обнаженная натура. Голое тело тоже казалось нам угрожающим — в немалой степени потому, что девушки не отличались красотой, а по их серьезным встревоженным лицам можно было подумать, что они сурово осуждают собственную наготу.
Многие открытки и журналы местами испортились: ведь мальчишки месяцами вдавливали их всем своим весом в металлические пружины, покрытые ржавчиной. Женские тела кое-где были изукрашены спиралевидными татуировками, словно старые пружины символически отпечатали на женской плоти темный знак водоворота, увлекающего в пучину похоти.
Понятное дело, присутствие порнографии омрачало впечатление Оуэна обо всех обитателях комнаты. Полежав какое-то время на кровати с закрытыми глазами и затаенным дыханием, он в конце концов выдыхал воздух и выдавал свое заключение:
— ОН НЕСЧАСТНЫЙ. ИНАЧЕ РАЗВЕ СТАНЕШЬ ПРИРИСОВЫВАТЬ СВОЕЙ МАМЕ УСЫ И МЕТАТЬ ДРОТИКИ В ПАПИН ПОРТРЕТ? И РАЗВЕ ИНАЧЕ БУДЕШЬ ПРЕДСТАВЛЯТЬ В КРОВАТИ, КАК ЭТО ДЕЛАЮТ С НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКОЙ? И ЗАЧЕМ НУЖЕН ПОВОДОК ДЛЯ СОБАКИ В ШКАФУ? А БЛОШИНЫЙ ОШЕЙНИК В ЯЩИКЕ СТОЛА? ВЕДЬ В ОБЩЕЖИТИИ НЕЛЬЗЯ ДЕРЖАТЬ ЖИВОТНЫХ, ВЕРНО?
— Может, его собака погибла летом, — сказал я. — И он оставил поводок и ошейник на память.
— НУ ДА, — отозвался Оуэн. — А ЗАДАВИЛ СОБАКУ, НАВЕРНО, ЕГО ОТЕЦ, ДА? ЗА ТО, ЧТО МАМА С НЕЙ ДЕЛАЛА ЭТО, ДА?
— Это же просто вещи, — сказал я. — Нет, правда, что можно сказать о парне, что здесь живет?
— ОН НЕСЧАСТНЫЙ, — упрямо повторил Оуэн.
За целый день мы успели исследовать комнаты только на четвертом этаже. Оуэн в своих поисках проявлял такую последовательность, он так тщательно укладывал каждую вещь точно на то место, откуда взял, будто мальчишки из Академии хоть отдаленно напоминают его самого, будто в их комнатах царила хоть десятая доля того порядка, что был в музее, который Оуэн сделал из собственной комнаты. То были разыскания святого в античном храме, пытающегося провидеть некие праведные намерения древних.
Счастливыми Оуэн назвал очень немногих жильцов. К этим немногим, по его мнению, следовало отнести тех, у кого в рамках трюмо торчали семейные портреты и фотографии настоящих подружек (впрочем, это запросто могли быть фотографии сестер). Обладатель календаря с девушками в купальниках в принципе мог быть счастливым или условно счастливым. Тот, кто вырезал из каталога Сирса[14] фотомоделей, рекламирующих бюстгальтеры, трусики и корсеты, оказывался, по Оуэну, скорее несчастным, — для того же, кто прятал фотографии полностью обнаженных женщин, приговор Оуэна был короток и однозначен. Чем волосатее женщина, тем несчастнее парень; чем основательнее цензорские штрихи на сосках, тем более жалким виделся Оуэну обитатель комнаты.
— КАК МОЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ, ЕСЛИ ВСЕ ВРЕМЯ ТОЛЬКО И ДУМАЕШЬ, ЧТО ОБ ЭТОМ? — спрашивал Оуэн.
Я предпочитал думать, что в комнатах, которые мы обследовали, было больше случайного и гораздо меньше разоблачительного, чем представлял себе Оуэн, — в конце концов, это не более чем монастырские кельи для приезжих школяров, нечто среднее между берлогой и гостиничным номером, а не жилье в привычном понимании. Что же мы там обнаружили? Полный беспорядок и угнетающее однообразие. Даже фотографии спортивных кумиров и кинозвезд были одни и те же; они словно кочевали из одной комнаты в другую, точно так же, как в комнате за комнатой повторялись элементы того, по чему скучают вдали от дома: фотография машины с гордо восседающим за рулем мальчишкой (ученикам, живущим в общежитии, запрещалось не только водить машину, но и вообще ездить в ней); фотография идеально ровной лужайки на заднем дворе или даже снимок настолько личного свойства — какой-нибудь невнятный силуэт уходящего прочь человека, — что суть изображения оставалась наглухо заперта в памяти его обладателя. Впечатление от этих келий, с поселившейся в них до жути одинаковой тоской по дому и походным беспорядком, — вот что подразумевал Оуэн, заявив как-то маме: в общежитии ЖИТЬ ВРЕДНО.
После ее смерти он дал мне понять, что главной силы, толкающей его в Грейвсендскую академию, — маминой настойчивости — больше нет. Экскурсия по пустующим комнатам дала нам представление о том, что ждет впереди нас самих — пусть мы и не собирались поселиться в общежитии (ведь я и дальше мог жить то с Дэном, то с бабушкой, а Оуэн — у себя дома), нам совсем скоро предстояло скрывать те же секреты, те же едва сдерживаемые низкие устремления, ту же похоть, наконец, что скрывали бедные обитатели Уотерхаус-Холла. Не куда-нибудь, а в собственное ближайшее будущее заглядывали мы, когда обыскивали чужие спальни; и потому следует отдать должное проницательности Оуэна — не зря мы потратили на это столько времени.
Презервативы Оуэн откопал в одной из комнат третьего этажа. Во всем мире презервативы зовут «резинками», но в Грейвсенде, штат Нью-Хэмпшир, для них имелось еще и особое название — «кишочки». Откуда оно пошло и кто первый его придумал, я не знаю. Строго говоря, «кишочка» — это использованный презерватив; если быть уж совсем точным, то это презерватив, который обнаруживаешь на автостоянке или на пляже, выброшенный, или тот, что плавает в писсуаре кинотеатра для автомобилистов под открытым небом. На мой взгляд, только это и есть настоящие «кишочки»: старые и как следует использованные презервативы, на которые натыкаешься в общественных местах.
Так вот, в комнате на третьем этаже, где жил выпускник по имени Поттер (кстати, подопечный Дэна Нидэма), Оуэн и нашел штук шесть или семь презервативов в упаковках из фольги, не слишком старательно спрятанных в комоде, в ящике для носков.
— КИШОЧКИ! — вскрикнул Оуэн, уронив их на пол; мы слегка попятились. Неиспользованные «резинки» в аптечной упаковке мы видели впервые в жизни.
— Ты уверен?
— ЭТО НОВЫЕ КИШОЧКИ, — пояснил мне Оуэн. — КАТОЛИКИ ЗАПРЕЩАЮТ ИХ, — добавил он. — КАТОЛИКИ ВООБЩЕ ПРОТИВ ТОГО, ЧТОБЫ КОНТРОЛИРОВАТЬ РОЖДАЕМОСТЬ.
— Почему? — спросил я.
— ДА ЭТО НЕ ВАЖНО, — сказал Оуэн. — Я БОЛЬШЕ НЕ ИМЕЮ ОТНОШЕНИЯ К КАТОЛИКАМ.
— Ну и правильно, — сказал я.
Мы прикидывали, вспомнит ли потом Поттер, сколько точно «кишочек» лежало у него в ящике с носками — заметит или нет, если мы разорвем одну обертку из фольги и примерим «кишочку» на себя. На место-то ее уже нельзя будет положить — придется выбросить. Заметит Поттер пропажу или нет — вот в чем вопрос. Оуэн утверждал: если мы сможем определить, насколько аккуратный жилец этот Поттер, то получим ответ на свой вопрос. Лежит ли его белье в отдельном ящике, сложены ли футболки, стоит ли обувь рядком на полу шкафа, висят ли пиджаки, рубашки и брюки отдельно друг от друга, смотрят ли все плечики в одну сторону, хранятся ли ручки и карандаши отдельно или вперемешку, лежат ли скрепки для бумаги в специальной коробочке, имеется ли у него больше одного начатого тюбика зубной пасты, надежно ли упакованы бритвенные лезвия, есть ли у него специальная вешалка для галстуков, или они болтаются где попало? И пользуется ли он «кишочками» по назначению или только ими хвастает?
В шкафу Поттера мы нашли поллитровую бутылку «Джек Дэниелс № 7» с черной этикеткой, спрятанную в походном ботинке 44-го размера. Оуэн решил, если этот Поттер не боится хранить в комнате бутылку виски, то «кишочки» у него явно не для показухи. И если Поттер часто ими пользуется, заключили мы, то пропажи одной-единственной уж точно не заметит.
Испытание «кишочки» проходило в весьма торжественной обстановке. Презерватив был без смазки (я не уверен, выпускали ли вообще «резинки» со смазкой в те времена, когда нам с Оуэном было по одиннадцать лет), и мы не без труда и боли по очереди надели эту штуку на свои крохотные члены. Эту сторону жизни нашего недалекого будущего нам особенно трудно было себе представить; но сегодня я понимаю, что обряд, совершенный нами в комнате этого дерзкого Поттера, кроме всего прочего, имел для Оуэна Мини смысл некоего религиозного бунта — это был еще один выпад против католиков, от которых он, по его собственным словам, СБЕЖАЛ.
Увы, он не смог сбежать от преподобного Дадли Виггина с его рождественским утренником. Первая репетиция проходила в нефе церкви Христа во второе воскресенье Адвента, после того как отслужили евхаристию. Обсуждение ролей задержалось, потому что перед нами еще слушался доклад Женской ассоциации. Женщины желали сообщить, что день Тихой молитвы, приуроченный ими к началу Адвента, прошел успешно — мысли, высказанные присутствующими, и наступившая затем тишина для размышлений об услышанном были всеми хорошо восприняты. Миссис Ходдл, чье членство в церковном совете скоро истекало — отчего она еще больше злобствовала в воскресной школе, — пожаловалась, что на вечерних библейских курсах для взрослых посещаемость падает день ото дня.
— Ну, знаете, перед Рождеством все так заняты, — сказала Роза Виггин. Ей не терпелось поскорее начать распределение ролей для утренника — она не хотела заставлять нас, будущих «осликов» и «голубей», долго ждать. Я буквально ощущал, как Оуэн уже заранее начинает на нее злиться.
Совершенно не замечая его враждебности, Роза Виггин начала с ангела-благовестника — разумеется, после того, как наконец началось само это святое мероприятие.
— Так, в общем, все мы знаем, кто у нас будет ангелом… — начала было Роза Виггин.
— ТОЛЬКО НЕ Я, — тут же заявил Оуэн.
— В чем дело, Оуэн? Почему? — удивилась Роза Виггин.
— ПОДВЕШИВАЙТЕ В ВОЗДУХЕ КОГО-НИБУДЬ ДРУГОГО, — сказал Оуэн. — НАВЕРНО, ПАСТУХИ МОГУТ ПРОСТО СМОТРЕТЬ НА «СТОЛП СВЕТА» — В БИБЛИИ ГОВОРИТСЯ, ЧТО АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ ЯВИЛСЯ ПАСТУХАМ, А НЕ ЦЕЛОЙ ТОЛПЕ НАРОДУ. И ВОЗЬМИТЕ КОГО-НИБУДЬ, НАД ЧЬИМ ГОЛОСОМ НЕ БУДУТ СМЕЯТЬСЯ, — добавил он после того, как все кругом засмеялись.
— Но, Оуэн… — попыталась возразить Роза Виггин.
— Нет-нет, Розмари, — прервал ее мистер Виггин. — Если Оуэн устал быть ангелом, нам нужно уважать его желание. У нас же, как-никак, демократия, — неуверенно добавил он. Бывшая бортпроводница одарила бывшего летчика многозначительным взглядом: словно сказать и даже подумать подобное можно только при кислородном голодании.
— И КРОМЕ ТОГО, — заметил Оуэн, — ИОСИФ НЕ ДОЛЖЕН УХМЫЛЯТЬСЯ.
— Конечно не должен! — искренне возмутился викарий. — Я понятия не имел, что все эти годы Иосиф портил нам представление своими ухмылками.
— Ну и кто, по-твоему, может быть хорошим Иосифом, Оуэн? — спросила Роза Виггин, утратив последние остатки профессиональной приветливости.
Оуэн указал на меня. И оттого что сделал он это столь безмолвно, со своей обычной безапелляционностью, волосы у меня на затылке встали дыбом — потом, спустя годы, я пойму, что меня-то ведь избрал Избранный. Но тогда, во второе воскресенье Адвента, когда мы собрались в нефе церкви Христа, я разозлился на Оуэна донельзя — как только волосы у меня на затылке легли на место. До чего же нудная роль! Быть Иосифом, этим незадачливым ухажером, этим «дублером», парнем на подхвате.
— Обычно мы сперва выбираем Марию, — напомнила Роза Виггин. — А потом даем Марии самой выбрать себе Иосифа.
— Ах вон что, — сказал преподобный Дадли Виггин. — Ну а в этом году давай разрешим Иосифу выбрать свою Марию. Не надо бояться перемен! — воскликнул он с жаром.
Однако жена пропустила его слова мимо ушей.
— Обычно мы начинаем с ангела, — заметила Роза Виггин. — У нас до сих пор нет ангела. Подумать только: мы еще не нашли Марию, но у нас уже есть Иосиф, а ангела до сих пор нет, — сказала она.
Бортпроводницы очень любят порядок; им гораздо спокойнее, когда все идет по накатанной колее.
— Так, ну ладно, кто хочет в этом году немножко повисеть в воздухе? — спросил викарий. — Расскажи им, Оуэн, какой оттуда вид открывается.
— ИНОГДА ЭТА ШТУКОВИНА, НА КОТОРОЙ ТЫ ВИСИШЬ, РАЗВОРАЧИВАЕТ ТЕБЯ НЕ В ТУ СТОРОНУ, — предупредил Оуэн кандидатов на роль ангела. — А ИНОГДА ЛЯМКИ БОЛЬНО ВПИВАЮТСЯ В ТЕЛО.
— Уверен, это все поправимо, Оуэн, — сказал викарий.
— А КОГДА ТЫ ПОДНИМАЕШЬСЯ ВВЕРХ И ВЫХОДИШЬ ИЗ «СТОЛПА СВЕТА», ТАМ ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ТЕМНО, — продолжал Оуэн. Желающих стать ангелом пока что не наблюдалось. — А ЕЩЕ НАДО ЗАПОМНИТЬ ДОВОЛЬНО ДЛИННЫЙ ТЕКСТ, — добавил Оуэн. — НУ, ВЫ ЗНАЕТЕ: «НЕ БОЙТЕСЬ; Я ВОЗВЕЩАЮ ВАМ ВЕЛИКУЮ РАДОСТЬ… ИБО НЫНЕ РОДИЛСЯ ВАМ… СПАСИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ЕСТЬ ХРИСТОС ГОСПОДЬ…»
— Мы знаем, Оуэн, мы все это знаем, — нетерпеливо прервала его Роза Виггин.
— ЭТО НЕ ТАК-ТО ПРОСТО, — не унимался Оуэн.
— Может, нам все-таки лучше выбрать Марию, а затем вернуться к ангелу? — спросил преподобный мистер Виггин.
Роза Виггин заломила руки.
Но если они думали, что я — такой болван, который выберет себе Марию, то должны были подумать и о том, в какое безвыходное положение меня ставят. В самом деле, что потом скажут обо мне и о той девчонке, которую я выберу? И что обо мне подумают другие девчонки — которых я не выберу?
— МАРИЯ БЕТ БЭЙРД ЕЩЕ НИ РАЗУ НЕ ИГРАЛА МАРИЮ, — снова подал голос Оуэн. — К ТОМУ ЖЕ ТАК МАРИЕЙ БЫЛА БЫ НАСТОЯЩАЯ МАРИЯ.
— Марию выбирает Иосиф! — возразила Роза Виггин.
— Я ЖЕ ПРОСТО ПРЕДЛАГАЮ, — сказал Оуэн
Но как теперь отказать Марии Бет Бэйрд — после того как он ее предложил на эту роль? Мария Бет Бэйрд была цветущая розовощекая дурочка — застенчивая и неуклюжая.
— Я три раза была голубем, — промямлила она.
— НУ И ЧТО, — заявил Оуэн. — ВСЕ РАВНО НИКТО НЕ ПОНИМАЕТ, ЧТО ЭТО ГОЛУБИ.
— Ну-ка погодите, — вмешался Дадли Виггин. — Давайте по порядку.
— В общем, так: Иосиф, выбирай себе Марию! — взялась за дело Роза Виггин.
— По-моему, Мария Бет Бэйрд подойдет, — сказал я.
— Вот и хорошо. Значит, Марией у нас будет Мария! — сказал мистер Виггин.






