Молитва об Оуэне Мини Ирвинг Джон
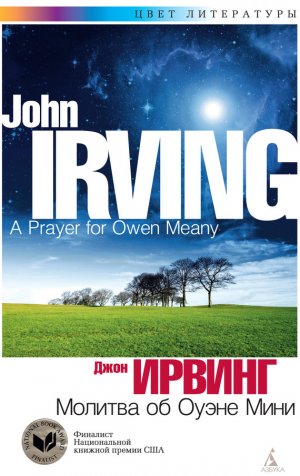
Дэн сообщил мне, что за всю первую неделю мистер Моррисон так и не пришел посмотреть постановку. К удивлению Дэна, мистер и миссис Мини в зрительном зале тоже не появились.
— Они что, не читают «Грейвсендский вестник»? — спросил меня Дэн.
Я не мог представить миссис Мини за чтением: она же так занята все время. Ведь ее пристальный взгляд постоянно устремлен то на стены, то в угол, то мимо окна, то на тлеющий огонь в камине, то на манекен — когда ей еще читать газеты? А мистер Мини был не из тех мужчин, что читают хотя бы спортивную колонку. Я догадывался и о том, что сам Оуэн ни разу не говорил родителям о «Рождественской песни»; в конце концов, он ведь не хотел, чтобы они знали о рождественском утреннике.
Пожалуй, мистер Мини мог услышать о пьесе от кого-нибудь из рабочих в карьере — какой-нибудь камнерез или жена крановщика вполне могли побывать на представлении или хотя бы прочитать о пьесе в «Вестнике», а потом поделиться с мистером Мини:
— Говорят, ваш сын стал театральной звездой.
Но я явственно представлял, как бы Оуэн опроверг все слухи.
«МНЕ ПРОСТО НУЖНО БЫЛО ВЫРУЧИТЬ ДЭНА. У НЕГО ВЫШЛА НЕСТЫКОВКА — УШЕЛ АКТЕР, ЧТО ИГРАЛ ПРИЗРАКА ВЫ ЗНАЕТЕ МОРРИСОНА, ЭТОГО ТРУСЛИВОГО ПОЧТАРЯ? НУ ВОТ. ОН ПРОСТО ИСПУГАЛСЯ ВЫХОДИТЬ НА ПУБЛИКУ. ЭТО ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКАЯ РОЛЬ — В НЕЙ ДАЖЕ НЕТУ СЛОВ. ДА И ПЬЕСА, ПО-МОЕМУ, ТАК СЕБЕ — НЕ СЛИШКОМ ПРАВДОПОДОБНАЯ. И ЛИЦА МОЕГО ТОЖЕ НЕ ВИДНО. Я ВООБЩЕ ПОЯВЛЯЮСЬ НА СЦЕНЕ СОВСЕМ НЕНАДОЛГО — НА КАКИЕ-ТО ПЯТЬ МИНУТ…»
Я уверен, что именно так Оуэн и повернул бы все дело. Мне казалось, он чересчур задирает нос, а родителей буквально тиранит. Мы все проходим через некий этап — у кого-то он длится всю жизнь, — когда немного стесняемся родителей; нам неприятно быть с ними рядом — вдруг они сделают или скажут что-то такое, отчего нам станет за них неловко. Но у Оуэна это стеснение, по-моему, превосходило все мыслимые масштабы — и именно поэтому, думал я, он держит родителей на таком расстоянии. А уж отцом он просто раскомандовался. В таком возрасте мы обычно сами переживаем, что родители нами командуют; Оуэн же постоянно указывал своему отцу, что тому делать.
Во мне стеснительность Оуэна вызывала мало сочувствия. Мне ведь так не хватало мамы; я бы сделал что угодно, только бы она все время находилась где-то рядом. А Дэн не был мне родным отцом, и я никогда его не стеснялся. Наоборот, мне нравилось, когда он рядом, — ведь бабушка, хотя и любила меня, держалась довольно отстраненно.
— Оуэн, — обратился к нему Дэн как-то вечером. — Ты бы пригласил родителей посмотреть пьесу, а? Скажем, на заключительное представление — в сочельник?
— БОЮСЬ, В СОЧЕЛЬНИК ОНИ БУДУТ ЗАНЯТЫ, — ответил Оуэн.
— Ну тогда, может, как-нибудь пораньше? — спросил Дэн. — В один из ближайших вечеров, например. Хочешь, я сам их приглашу? В общем-то, в любой вечер было бы здорово.
— ЗНАЕШЬ, ОНИ НЕ СОВСЕМ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, ТЕАТРАЛЫ, — признался Оуэн. — ТЫ ТОЛЬКО НЕ ОБИЖАЙСЯ, ДЭН, НО, БОЮСЬ, МОИМ РОДИТЕЛЯМ БУДЕТ СКУЧНО.
— Но ведь на тебя-то они, верно, с удовольствием посмотрели бы, а, Оуэн? — сказал Дэн. — Неужели им неинтересно, как ты играешь?
— ОНИ ЛЮБЯТ ТОЛЬКО ПРАВДИВЫЕ ИСТОРИИ, — сказал Оуэн. — НУ, РЕАЛИСТЫ, ПОНИМАЕШЬ? ИХ НЕ ОЧЕНЬ-ТО УВЛЕКАЮТ ВСЯКИЕ ВЫДУМКИ, ФАНТАЗИИ И ВСЕ ТАКОЕ — ИМ ЭТО НЕИНТЕРЕСНО. А УЖ С ПРИВИДЕНИЯМИ — ЭТИ ВЕЩИ ВООБЩЕ НЕ ДЛЯ НИХ.
— Привидения не для них? — переспросил Дэн.
— ВСЕ ТАКИЕ ВЕЩИ — НЕ ДЛЯ НИХ, — ответил Оуэн.
Я удивлялся, слушая его объяснения, — у меня сложилось о его родителях совершенно иное представление. Мне казалось, отец и мать Оуэна Мини верят исключительно в так называемые выдумки и фантазии; если им что-то и интересно — так это исключительно привидения, а духи — это единственное, о ком они стали бы слушать.
— Я ВОТ ЧТО ДУМАЮ, ДЭН, — снова заговорил Оуэн. — Я, ПОЖАЛУЙ, НЕ БУДУ ПРИГЛАШАТЬ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ. ЕСЛИ САМИ ПРИДУТ — ТОГДА ЛАДНО. НО Я ДУМАЮ, ОНИ НЕ ПРИДУТ.
— Да-да, конечно, — сказал Дэн. — Как скажешь, Оуэн.
Дэн Нидэм страдал той же слабостью, что и моя мама: у него тоже руки сами тянулись к Оуэну. Правда, Дэн не взлохмачивал волосы, не похлопывал по плечам или по заднице. Он просто сграбастает ваши руки своими лапами и мнет их, причем иногда увлечется так, что ваши и его косточки начинают трещать вместе. Однако его физические проявления привязанности к Оуэну превосходили даже ту нежность, которой он одаривал меня. Дэн очень точно чувствовал дистанцию, какую ему следует держать со мной — чтобы быть мне вместо отца, но не утверждаться в этой роли слишком настойчиво. Сдерживая себя со мной, Дэн отыгрывался на Оуэне. В конце концов, мистер Мини ведь никогда не прикасался к Оуэну — по крайней мере, при мне. Наверняка Дэн тоже прекрасно знал, что и дома Оуэна никогда не погладят и не обнимут.
Когда в субботу вечером публика вызвала артистов на поклон в четвертый раз, Дэн отправил одного Оуэна. Было совершенно очевидно, что зрители ждут именно его, — мистер Фиш уже выходил на сцену и в одиночку, и вместе с Оуэном; теперь зал требовал своего любимца.
Зрители встали и устроили ему овацию. Зловещий черный капюшон был великоват для его маленькой головы, и остроконечная верхушка все время валилась набок, придавая Оуэну сходство с гномом, притом довольно дерзким и недобрым. Когда он откинул капюшон и публика наконец увидела его сияющую физиономию, какая-то девочка, наша ровесница, лет двенадцати — тринадцати, сидевшая близко к сцене, потеряла сознание и грохнулась на пол.
— Там просто было слишком душно, — оправдывалась ее мама после того, как Дэн помог привести девочку в чувство.
— ДУРА НЕСЧАСТНАЯ, — выругался Оуэн за кулисами. Он привык гримироваться сам. Даром что огромный развевающийся капюшон надежно скрывал его лицо, Оуэн выбеливал себе физиономию детской присыпкой и чернил косметическим карандашом и без того темные круги под глазами. Он хотел, чтобы его лицо — на случай, если кто-то из зрителей мельком углядит его под капюшоном, — не нарушило общего жуткого впечатления; простуда была ему только на руку — чем дальше она заходила, тем бледнее он становился.
Когда мы с Дэном отвозили его домой, он уже кашлял почти не переставая. До последнего воскресенья перед Рождеством — дня нашего утренника — оставалось меньше суток
— Кажется, он разболелся сильнее, чем нужно, — сказал мне Дэн, когда мы возвращались в город. — Боюсь, мне самому придется играть Духа Будущих Святок Или тебе, — если Оуэн совсем сляжет — ты, может, возьмешь эту роль на себя?
Но я был всего лишь Иосифом. Я чувствовал, что Оуэн Мини уже определил мне ту единственную роль, которую я мог играть.
Ночью пошел снег, поднялась метель; затем температура начала падать, пока не стало так холодно, что снегопад прекратился. Наутро весь Грейвсенд лежал под свежим, белым и тусклым покрывалом — в городе стало еще белее и тусклее, чем в церкви; лютый морозный ветер вздымал сухую поземку, дребезжа и завывая в водостоках дома 80 по Центральной. Водосточные трубы были пусты, сухой ледяной снег не мог их залепить изнутри.
В воскресное утро снегоуборочные машины не торопились выезжать на работу, и единственным автомобилем, который мог проехать по Центральной улице не буксуя и не боясь заноса, был тяжелый тягач «Гранитной компании Мини». Оуэн напялил на себя столько одежды, что, шагая по нашей подъездной аллее, с трудом сгибал колени, а размахивать руками вообще не мог — они неподвижно торчали в стороны, как у огородного пугала. Он так плотно замотался длинным темно-зеленым шарфом, что лица вовсе не было видно — но разве кто-нибудь мог не узнать Оуэна Мини? Этот шарф ему подарила моя мама, когда однажды, в одну из зим, обнаружила, что у Оуэна нет своего. Оуэн называл его своим ВЕЗУЧИМ шарфом и приберегал либо для особо важных случаев, либо для особо сильных холодов.
В то последнее перед Рождеством воскресенье шарф требовался Оуэну как никогда — оба повода были налицо. Мы топали по Центральной улице по направлению к церкви Христа, и редкие птички, едва заслышав бухающий кашель Оуэна, в испуге срывались с веток. Из его грудной клетки исторгались булькающие хрипы, отчетливо слышные даже сквозь множество слоев зимней одежды.
— Плохой у тебя кашель, Оуэн, — сказал я ему.
— ЕСЛИ БЫ ИИСУСУ ВЫПАЛО РОДИТЬСЯ В ТАКОЙ ВОТ ДЕНЬ, Я ДУМАЮ, ОН БЫ НЕ ПРОТЯНУЛ ДО СВОЕГО РАСПЯТИЯ, — заметил Оуэн.
Нетронутую белизну тротуара Центральной улицы нарушала единственная цепочка человеческих следов, что тянулась прямо перед нами, да желтевшие кое-где небрежные собачьи метки. Человеческая фигура, первой проложившая тропу через девственно-чистую снежную гладь, маячила слишком далеко впереди и была слишком тепло укутана, чтобы мы с Оуэном могли узнать, кто это.
— А ТВОЯ БАБУШКА ЧТО, НЕ СОБИРАЕТСЯ НА УТРЕННИК? — спросил Оуэн.
— Она же конгрегационалистка, — напомнил я ему.
— НУ И ЧТО? РАЗВЕ ОНА ТАКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ, ЧТО НЕ МОЖЕТ РАЗ В ГОДУ ПРИЙТИ В ДРУГУЮ ЦЕРКОВЬ? У КОНГРЕГАЦИОНАЛИСТОВ ВЕДЬ НЕТ СВОЕГО РОЖДЕСТВЕНСКОГО УТРЕННИКА.
— Знаю, знаю, — сказал я. Но я знал и другое: у конгрегационалистов в последнее воскресенье перед Рождеством вообще нет утренней службы; вместо нее в этот день — вечерня, особое мероприятие, когда в основном поются рождественские песни и гимны. Иными словами, ничто не мешало бабушке прийти на наш утренник. Просто ей самой не хотелось видеть Оуэна в роли Младенца Христа: она как-то назвала подобную затею «отвратительной». А еще бабушка обеспокоилась, как бы ей по морозу не сломать бедро, и заявила, что намерена даже пропустить вечерню в конгрегационалистской церкви. Ближе к вечеру, в сумерки, еще легче не заметить в темноте лед, поскользнуться и сломать бедро, рассудила она.
Человек, идущий по тротуару впереди нас, оказался мистером Фишем. Мы довольно быстро догнали его: мистер Фиш прокладывал себе путь в глубоком снегу с какой-то совершенно нелепой осторожностью — должно быть, тоже боялся сломать бедро. Он здорово испугался, увидев Оуэна Мини, плотно закутанного в шарф моей мамы, из-под которого виднелись только глаза. Впрочем, мистер Фиш почти всегда пугался, встречаясь с Оуэном.
— А почему вы до сих пор не в церкви? Вам ведь нужно еще переодеться в костюмы, — спросил он. Мы объяснили ему, что и так придем чуть ли не за час до начала утренника. Даже мистер Фиш своим черепашьим шагом доплетется туда как минимум за полчаса до начала. Но нас с Оуэном удивило, что он вообще туда собрался.
— ВЫ ЖЕ ОБЫЧНО НЕ ХОДИТЕ В ЦЕРКОВЬ! — с легким упреком сказал Оуэн.
— Обычно нет, тут ты прав, — согласился мистер Фиш. — Но сегодняшнее мероприятие я не пропущу ни за что на свете!
Оуэн недоверчиво оглядел своего партнера по «Рождественской песни». Мистер Фиш был настолько подавлен и в то же время впечатлен успехом Оуэна, что его желание посмотреть утренник в церкви Христа выглядело подозрительно. Скорее всего мистеру Фишу просто нравилось себя накручивать; к тому же, бескорыстно преданный любительскому театру, он изо всех сил старался брать на заметку все, что можно, наблюдая за талантливой игрой Оуэна.
— Я СЕГОДНЯ НЕМНОГО НЕ В ФОРМЕ, — предупредил Оуэн мистера Фиша, после чего выразительно продемонстрировал свой лающий кашель.
— Такой искусный актер, как ты, Оуэн, не должен пугаться легкой простуды, — заметил мистер Фиш.
Мы все трое зашагали по рыхлому снегу; мистеру Фишу пришлось приноравливаться к нашим шагам.
Он признался нам с Оуэном, что немного волнуется. Ребенком его никогда не заставляли ходить в церковь — его родители, сказал он, были неверующими, и сам он «наведывался» туда только по случаю свадьбы или похорон. Мистер Фиш даже не знал толком, большой ли отрезок жизни Христа «охватывает» наш рождественский утренник
— НЕ ВСЮ ЖИЗНЬ, — ответил ему Оуэн.
— А там нет того эпизода, когда он на кресте? — спросил мистер Фиш.
— ЕГО ЖЕ НЕ СРАЗУ ПРИГВОЗДИЛИ К КРЕСТУ, КАК ТОЛЬКО ОН РОДИЛСЯ! — насупил брови Оуэн.
— А то место, где он всех исцеляет и где поучает этих, апостолов? — снова спросил мистер Фиш.
— ЭТО БЫЛО НЕ В РОЖДЕСТВО! — возмутился Оуэн. — У НАС ТОЛЬКО СЦЕНА, КОГДА ОН РОДИЛСЯ!
— Роль без речей, — напомнил я мистеру Фишу.
— Ах ну да, я и забыл, — спохватился мистер Фиш.
Церковь Христа находилась на Эллиот-стрит, на окраине учебного городка Грейвсендской академии. На углу Эллиот-стрит и Центральной нас ждал Дэн Нидэм: очевидно, наш режиссер тоже был не прочь взять что-нибудь на заметку.
— Ба, вот это да! Кого я вижу! — воскликнул Дэн при виде мистера Фиша, отчего тот покраснел.
Увидев Дэна, Оуэн приободрился.
— ЗДОРОВО, ЧТО ТЫ ЗДЕСЬ, ДЭН, — сказал ему Оуэн. — ПОТОМУ ЧТО МИСТЕР ФИШ СЕГОДНЯ ПЕРВЫЙ РАЗ ИДЕТ СМОТРЕТЬ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УТРЕННИК И НЕМНОГО ВОЛНУЕТСЯ.
— Я даже не знаю точно, когда нужно преклонить колени и все такое! — хихикнул мистер Фиш..
— В ЕПИСКОПАЛЬНОЙ ЦЕРКВИ НЕ ВСЕ ПРЕКЛОНЯЮТ КОЛЕНИ, — пояснил Оуэн.
— Я — нет, — сказал я.
— А Я — ДА, — сказал Оуэн Мини.
— А я — то да, то нет, — признался Дэн. — Когда я прихожу в церковь, то смотрю на других и делаю как они.
Наконец наша пестрая компания добралась до церкви Христа.
Несмотря на холод, преподобный Дадли Виггин стоял на ступеньках церкви с непокрытой головой и приветствовал первых посетителей; сквозь его редкие седоватые волосы просвечивал ярко-розовый череп. Уши у него, наоборот, замерзли и побелели так, что казалось, вот-вот отвалятся. Роза Виггин стояла рядом с ним, одетая в шубку из серебристого меха и такую же шапку.
— ТОЧНО КАК ПРОВОДНИЦА ТРАНССИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ, — съязвил Оуэн.
Увидев рядом с Виггинами преподобного Льюиса Меррила с его калифорнийской женой, я едва не раскрыл рот от изумления. Оуэн тоже здорово поразился и даже спросил:
— ВЫ ЧТО, ПЕРЕШЛИ В ДРУГУЮ ЦЕРКОВЬ?
Многострадальным Меррилам, судя по всему, не хватало воображения понять, шутит Оуэн или нет; от его вопроса у мистера Меррила обычное легкое заикание превратилось чуть ли не в паралич языка.
— У н-н-на-нас сегод-д-дня в-в-в-вечерня, — ответил мистер Меррил.
Оуэн ничего не понял.
— Конгрегационалисты сегодня служат вечерню, — пояснил я Оуэну. — Вместо обычной утренней службы, — добавил я. — Вечерня бывает во второй половине дня.
— ДА ЗНАЮ Я, КОГДА СЛУЖАТ ВЕЧЕРНЮ! — раздраженно ответил Оуэн.
Преподобный мистер Виггин обнял своего коллегу за плечи и сжал его так сильно, что на лице преподобного мистера Меррила, который был и меньше ростом, и бледнее, промелькнул неподдельный испуг. Мне кажется, епископалы в среднем вообще сердечнее конгрегационалистов.
— Мы с Розой ходим каждый год на вечерню послушать гимны, — объявил викарий Виггин. — А Меррилы приходят посмотреть наш утренник
— Каждый год, — безучастно добавила миссис Меррил. По-моему, она с дикой завистью смотрела на шарф Оуэна, которым можно было укутать все лицо.
Преподобный мистер Меррил с трудом совладал с собой. Подобного заикания я не слышал со дня, когда нам пришлось экспромтом хоронить Сагамора; уж не присутствие ли Оуэна, подумал я, всякий раз лишает нашего пастора дара речи.
— Да, мы и правда любим петь гимны; мы встречаем Рождество пением — у нас всегда уделялось огромное внимание хору, — поведал пастор Меррил, проникновенно заглянув при слове «хор» мне в глаза, будто упоминанием об этих поставленных ангельских голосах хотел вызвать в моей памяти навеки умолкший мамин голос.
— Ну а мы больше любим наш миракль про чудо Рождества! — весело провозгласил мистер Виггин. — И в этом году, — добавил викарий, внезапно ухватив Оуэна за плечо твердой рукой пилота, — в этом году наш Младенец Христос произведет полный фурор!
Преподобный Дадли Виггин потрепал своей огромной лапой Оуэна по голове, опустил козырек его клетчатой красно-черной охотничьей кепки и замотал маминым ВЕЗУЧИМ шарфом так, что Оуэн ничего не мог видеть.
— Да, сэр! — воскликнул викарий Виггин и сорвал охотничью кепку с головы Оуэна, отчего его по-детски тонкие шелковистые волосы, наэлектризовавшись, встали дыбом. — В этот раз, — предупредил командир Виггин, — мы выжмем слезу из каждого!
Оуэн, задыхавшийся в собственным шарфе, громко чихнул.
— Оуэн, пойдем со мной! — резко скомандовала Роза Виггин. — Нужно запеленать бедного ребенка, пока он не простудился! — пояснила она Меррилам. Но мистер Меррил и его дрожащая жена выглядели так, словно их самих надо было срочно запеленать. Весть о том, что роль Сына Божьего будет исполнять Оуэн Мини, судя по всему, привела их в ужас. Похоже, конгрегационалисты гораздо меньше любят чудеса, чем епископалы.
В холодном вестибюле церкви Роза Виггин принялась заматывать Оуэна в пеленки. Но как бы туго или свободно ни бинтовала она его широкими хлопчатобумажными полосами, Оуэн оставался недоволен.
— ТАК СЛИШКОМ ТУГО, МНЕ НЕЧЕМ ДЫШАТЬ! — кашляя, жаловался он. А через минуту кричал: — А МЕНЯ ПРОДУЕТ!
Роза Виггин трудилась над Оуэном с таким решительным, серьезным и целеустремленным видом, будто бальзамировала труп; наверное, для нее это был способ успокоиться.
То, что моя бабушка решила не приходить на утренник, хотя и могла бы, в сочетании с грубыми ухватками Розы Виггин здорово испортило Оуэну настроение — он все больше капризничал и раздражался. Он велел распеленать его и завернуть в ВЕЗУЧИЙ шарф, подаренный моей мамой, после чего белые хлопчатобумажные «бинты» следовало намотать снова поверх шарфа. Причем требовал, чтобы шарф ему намотали прямо на голое тело.
— ЧТОБЫ БЫЛО ТЕПЛЕЕ И ЧТОБЫ ВЕЗЛО, — объяснил он.
— Младенец Христос не нуждается в везении, Оуэн, — заметила Роза Виггин.
— ВЫ ЧТО, ХОТИТЕ СКАЗАТЬ, ХРИСТУ СИЛЬНО ПОВЕЗЛО? — спросил Оуэн. — А МНЕ ВОТ КАЖЕТСЯ, ЕМУ БЫ НЕ ПОМЕШАЛА ЧУТОЧКА ВЕЗЕНИЯ. МНЕ КАЖЕТСЯ, ПОД КОНЕЦ ЕМУ ВООБЩЕ ПЕРЕСТАЛО ВЕЗТИ.
— Но послушай, Оуэн, — мягко заговорил викарий Виггин. — Его распяли, да, но ведь потом он восстал из мертвых. Он же воскрес! Разве это не означает, что он был спасен?
— ЕГО ПРОСТО ИСПОЛЬЗОВАЛИ, — отрезал Оуэн Мини, охваченный духом противоречия.
Викарий, вероятно, задумался, подходящее ли сейчас время для богословских дебатов, а Роза Виггин, вероятно, задумалась, не задушить ли Оуэна маминым шарфом. Повезло или не повезло Христу, спасен он был или использован — эти расхождения представлялись довольно существенными даже несмотря на суматоху, царившую в церковном вестибюле, где гуляли сквозняки от постоянно открывающихся и закрывающихся дверей и к тому же поднимался пар от влажной шерстяной одежды, с которой на решетку обогревателя капал тающий снег. Но что такое простой викарий церкви Христа, чтобы спорить со спеленатым младенцем, которому сейчас предстоит ложиться в ясли?
— Заверни его, как он хочет, — велел жене мистер Виггин таким грозным голосом, словно решал в этот момент, считать Оуэна Мини Христом или Антихристом. Ярость же, с которой Роза Виггин раскутала Оуэна и потом закутала снова, явно говорила, что для нее-то Оуэн уж точно никакой не Царь Царей.
Волы — бывшие голуби — слонялись по переполненному вестибюлю, словно искали сено. Мария Бет Бэйрд в своем белом одеянии выглядела очень даже недурно — эдакая в меру пухленькая восходящая звезда театральных подмостков, но длинная кокетливая косичка начисто разрушала образ как Божьей Матери, так и Пресвятой Девы Марии. Меня облачили в традиционный для Иосифа темно-бурый балахон — библейский эквивалент современного костюма-тройки. Харолд Кросби, пытаясь хоть чуть-чуть оттянуть свой полет на ненадежном ангелоподъемнике, уже дважды «в последний раз» просился в туалет. Хорошо еще, подумал я, что Оуэну туда не нужно: в своих «пеленках» встать он не мог, а если бы его подняли, он все равно не ступил бы и шагу — с такой силой Роза Виггин стянула ему ноги.
Вот тут-то мы и столкнулись с первой загвоздкой: как переместить его в ясли. Для того чтобы наш творческий коллектив мог собраться в одном месте и при этом остаться не замеченными прихожанами, перед грубо сработанными яслями установили трехстворчатую ширму, лиловые панели которой украшали кресты из золотистой парчи. Нам следовало потихоньку занять свои места позади этой своеобразной запрестольной перегородки и застыть без движения, словно перед объективом фотоаппарата. Когда ангел-благовестник начнет свое душераздирающее нисхождение с небес, отвлекая на себя взгляды публики, лиловую ширму предполагалось убрать. Потом «столп света» вслед за волхвами и пастухами должен был переместиться в хлев и тем самым привлечь к нам зрительское внимание.
Разумеется, Мария Бет Бэйрд тут же вызвалась перенести Оуэна Мини в ясли на руках.
— Я могу это сделать! — провозгласила Дева Мария. — Я уже поднимала его раньше!
— НЕТ! МЛАДЕНЦА ХРИСТА ПОНЕСЕТ ИОСИФ! — крикнул Оуэн, умоляюще взглянув на меня, но тут Роза Виггин перехватила инициативу. Обнаружив, что у маленького Иисуса течет из носа, она проворно вытерла его, затем поднесла носовой платок еще раз и велела Оуэну высморкаться. Тот издал негромкий автомобильный гудок. Марии Бет Бэйрд был выдан чистый платок на тот случай, если Младенец Христос на виду у всей публики позорно хлюпнет носом, и Дева Мария обрадовалась возможности наконец-то позаботиться об Оуэне физически.
Перед тем как поднять Сына Божьего на руки, Роза Виггин наклонилась над ним и потерла ему щеки. В ее обхаживании Оуэна Мини любопытным образом сочетались небрежность и чувственность. Разумеется, в том, как она это делала, от начала до конца ощущалась рука бывалой стюардессы — миссис Виггин обращалась с Оуэном Мини так, будто меняла ему пеленку; и одновременно было что-то не очень пристойное в том, как близко она наклонила к нему свое лицо, словно собираясь соблазнить его.
— Ты слишком бледненький, — заявила Роза Виггин и принялась щипками придавать лицу Оуэна нужный цвет.
— АЙ! — вскрикнул он.
— У Младенца Христа щечки должны быть розовые, как яблочки, — сказала она ему, после чего нагнулась еще ниже, прикоснулась к его носу кончиком своего носа и довольно неожиданно поцеловала в губы. Этот поцелуй не был нежным и ласковым, то был хищный, дразнящий поцелуй, напугавший Оуэна; он густо покраснел — чего, собственно, и добивалась Роза Виггин, — и на глаза его навернулись слезы.
— Не любишь, когда тебя целуют, правда, Оуэн? — игриво промурлыкала Роза Виггин. — Но это же просто для везения, только и всего.
Я знал, что Оуэна никто не целовал в губы с тех пор, как умерла моя мама; наверняка само уподобление Розы Виггин маме показалось ему святотатством. Оуэн в ярости стиснул кулаки, когда Роза Виггин подняла его, прямого, словно полено, и поднесла к своей груди; его ноги, спеленатые так туго, что не сгибались в коленях, торчали вперед; все это походило на цирковой номер с левитацией в исполнении шлюхи-иллюзионистки. Мария Бет Бэйрд, которая не так давно умоляла разрешить ей поцеловать Младенца Христа, бросила уничтожающе-ревнивый взгляд в сторону Розы Виггин, по-видимому некогда феноменально могучей стюардессы. Ей не составляло труда отнести Оуэна в уготованное ему на сене место; она легко держала его, прижав к груди с суровой церемонностью, — рыжая лисица-могильщица, уносящая тело малолетнего фараона в потайной склеп в глубине пирамиды.
— Спокойно, спокойно, — шептала она, неприлично приблизившись губами к его уху, отчего он заливался краской все сильнее и сильнее.
И тут я, Иосиф, вечно стоящий за кулисами, увидел то, что укрылось от взгляда ревнивой Девы Марии. Это увидел и я, и, не сомневаюсь, Роза Виггин тоже — уверен, затем-то она и продолжала так долго и бесстыдно издеваться над Оуэном: у Младенца Христа встал член. На известном месте, несмотря на несколько плотных слоев обмоток, отчетливо торчал бугорок
Роза Виггин положила Оуэна в ясли; она понимающе усмехнулась и еще раз нахально чмокнула его в порозовевшую щеку — само собой, исключительно для везения. В житии Христа подобному искушению аналогии не найдется — лежа в яслях, узнать, что у тебя встает на человека, которого терпеть не можешь. От злости и стыда Оуэн весь побагровел; Мария Бет Бэйрд, неправильно истолковав эту перемену в лице Младенца, поспешила вытереть ему нос. Тут вол наступил на ногу одному из ангелов; тот шарахнулся и едва не опрокинул лиловую трехстворчатую ширму, которая, покачнувшись, толкнула заднюю часть ослика. Я вглядывался в темноту между декорациями в виде арок, пытаясь разглядеть ангела-благовестника, но Харолд Кросби оставался невидим для посторонних глаз — его, без сомнения перепуганного и дрожащего, надежно скрывала темнота над «столпом света».
— Высморкайся! — шепнула Мария Бет Бэйрд Оуэну, который, казалось, вот-вот взорвется.
Его спас хор.
Раздался металлический скрежет, словно от гигантских шестеренок, и подъемник стал опускать ангела на сцену. Харолд Кросби коротко ойкнул, судорожно схватил ртом воздух — и хор запел:
- Спит спокойно Вифлеем,
- Горожане спят;
- В вышине над миром всем
- Сонмы звезд горят.
Мало-помалу новорожденный Иисус разжал кулачки; мало-помалу эрекция у Младенца Христа прошла. Вспышка гнева, промелькнувшая в глазах Оуэна несколько минут назад, померкла, словно на Сына Божьего нашла дремота — его лицо озарилось миром и благоволением, и слезы обожания навернулись на уже и без того влажные глаза Божьей Матери.
— Ну же, высморкайся! Почему ты не хочешь высморкаться? — жалобно прошептала Мария Бет Бэйрд. Она прижала платок к его носу, ухитрившись заодно закрыть и рот, словно давала ему маску с наркозом. С галантной учтивостью Оуэн отвел ее руку в сторону; его улыбка прощала Благословенной Марии все, включая ее неуклюжесть, отчего пресвятая пошатнулась, стоя на коленках, словно собралась грохнуться в обморок
Роза Виггин, скрытая от глаз прихожан, однако зловеще-отчетливо видимая нам, крепко ухватилась за рычаги управления ангелоподъемником, словно экскаваторщик, намеревающийся с размаху обрушить ковш на неподатливую породу. Но стоило Оуэну встретиться с ней глазами, как она тут же заметно утратила свою железную решимость: во взгляде, который он ей бросил, таилось что-то сладострастно-вызывающее. По телу Розы Виггин пробежала дрожь; она передернула плечами, на мгновение отвлекшись от своей работы. Торжественное схождение ангела засторопилось, и Харолд Кросби завис в воздухе.
— «Не бойтесь…» — пролепетал ангел дрожащим голосом. Но я-то видел, кто сейчас боится по-настоящему. Роза Виггин оцепенела, застыв у кнопок управления «столпом света» и подъемником; она боялась Оуэна Мини. К Сыну Божьему вернулось самообладание; он сделал маленькое, но важное открытие: эрекция — вещь преходящая. «Столп света», сопровождавший Харолда Кросби во время его внезапно прерванного опасного спуска, вдруг зажил своей собственной жизнью; вырвавшись из-под контроля Розы Виггин, он озарял Оуэна, возлежащего на копне сена. Вместо того чтобы показывать публике сошедшего с небес ангела, луч прожектора заливал своим светом ясли.
После того как привратник церкви на цыпочках унес трехстворчатую ширму, среди прихожан раздались недоуменные бормотания, однако Младенец Христос тут же едва заметным движением руки восстановил тишину, после чего посмотрел на Розу Виггин, язвительно и совершенно не по-детски. Только тут она пришла в себя и снова направила «столп света» на нисходящего ангела.
— «Не бойтесь…» — повторил Харолд Кросби; Роза Виггин чересчур сильно нажала на кнопку подъемника, и футов десять Харолд буквально падал, пока она так же резко не остановила механизм. Голова Харолда дернулась, он завертел ею по сторонам, ловя ртом воздух и раскачиваясь взад-вперед над испуганными пастухами, словно гигантская чайка, кувыркающаяся на ветру. — «Не бойтесь!..» — громко крикнул ангел, продолжая качаться, — и замолк всерьез и надолго: он начисто забыл текст.
Роза Виггин, пытаясь остановить качающегося ангела, развернула Харолда Кросби спиной и к пастухам и ко всем зрителям, но он по-прежнему раскачивался на своих растяжках, только теперь казалось, будто он решил отвергнуть сей мир и отозвать свою весть.
— «Не бойтесь…» — невнятно пробубнил он уже в который раз.
В это время из темноты яслей донесся надтреснутый фальцет, разбитый голос странного суфлера, — но кто лучше мог помнить слова, забытые Харолдом Кросби, как не бывший ангел-благовестник?
— «…Я ВОЗВЕЩАЮ ВАМ ВЕЛИКУЮ РАДОСТЬ, КОТОРАЯ БУДЕТ ВСЕМ ЛЮДЯМ…» — шептал Оуэн; но Оуэн Мини не умел шептать — в его голосе было слишком много песка и гранитных осколков. Подсказки Младенца Христа слышал не только Харолд Кросби, но и все до единого прихожане — напряженный, вещий голос раздавался из темноты хлева, подсказывая ангелу, что говорить, а Харолд старательно повторял все слово в слово.
Таким образом, когда «столп света» в конце концов привел пастухов с волхвами туда, где им следовало поклониться новорожденному Мессии, перед ним благоговела уже вся публика — ведь это особенный Христос, он знает не только свою роль, но и все остальное в этой истории!
Марию Бет Бэйрд обуревали чувства. Она зарылась лицом в сено, затем щекой уткнулась Младенцу в бедро, а потом, кажется, впала в полную прострацию и положила свою тяжелую голову Оуэну на колени. При виде этого бесстыдного, совсем не материнского поведения «столп света» мелко задрожал. Ярость и худшие опасения, охватившие Розу Виггин, придавали ей сходство с пулеметчиком в доте; с ожесточенным усилием она кое-как утихомирила «столп света».
Я знал, что Роза Виггин вздернула Харолда Кросби так высоко, что он полностью исчез из поля зрения публики. Где-то в мрачной вышине, между пыльными, навевающими тоску декоративными арками, до сих пор повернутый не в ту сторону, Харолд Кросби, должно быть, бился, словно летучая мышь в проводах, — но я не видел его. Я мог лишь смутно догадываться о его ужасе и беспомощности.
- Возлюбленный Боже,
- Ты с неба взгляни,
- Всю ночь до рассвета
- Мой сон охрани, —
пел хор, завершая «Спит в хлеве пастушьем». Преподобный Дадли Виггин слегка замешкался с Евангелием от Луки. Возможно, он удивился, что Дева Мария «поклонилась», не дожидаясь, пока он зачитает соответствующий отрывок. Теперь, когда голова Марии Бет уже покоилась на коленях Оуэна, викарий, должно быть, с испугом думал: что же она сделает теперь вместо того, чтобы «поклониться»?
— «Когда Ангелы отошли от них на небо…» — начал наконец викарий, и все прихожане машинально задрали головы, пытаясь разглядеть под потолком Харолда Кросби. Я заметил, что ни один из сидящих в передних рядах не выискивал исчезнувшего ангела с большим рвением, нежели мистер Фиш, пораженный уже тем, что роль Оуэна оказалась-таки «с речами».
Казалось, Оуэн собирался чихнуть, а может, ему мешала дышать тяжелая голова Марии Бет Бэйрд. Из его давно не вытираемого носа на верхнюю губу выкатились две блестящие струйки. Я видел, что он вспотел. В этот холодный день старая церковная печка работала на полную катушку, и на возвышении вокруг алтаря было гораздо теплее, чем на деревянных скамейках, — многие прихожане так и остались сидеть в верхней одежде. А возле яслей стояла удушливая жара. Бедные волы и ослики, должно быть, обливаются потом в своих костюмах, подумал я. «Столп света» так припекал, что казалось, он вот-вот подожжет сено, на котором лежал придавленный Божьей Матерью Младенец Христос.
Мы все еще слушали, как викарий читает из Евангелия от Луки, когда свалился в обморок первый ослик. Строго говоря, сначала упала только задняя часть, что со стороны выглядело жутковато; а так как многие прихожане понятия не имели, что ослики состоят из двух частей, то их это зрелище должно было и вовсе напугать. Казалось, у ослика отнялись задние ноги, в то время как передние изо всех сил пытаются устоять и голова с шеей судорожно дергается из стороны в сторону, с трудом сохраняя равновесие. Круп вместе с задними ногами просто шлепнулся на пол, словно бедное животное сразил паралич или в задницу ему попала пуля. Передняя часть ослика некоторое время мужественно сопротивлялась, но отнявшиеся конечности скоро утянули ее за собой. Вол слепой из-за упавших на глаза рогов, шарахнулся в сторону, чтобы не попасть под падающего осла, и боднул одного из пастухов так, что тот перелетел через низкие престольные перила, задев по пути стопку подушечек для колен, и растянулся в проходе у первого ряда.
Когда упал второй ослик, преподобный мистер Виггин стал читать быстрее:
— «..А Мария сохраняла все слова сии, слагая их в сердце Своем».
Божья Матерь оторвала голову от колен маленького Иисуса; на ее раскрасневшемся лице блуждала загадочная усмешка. Мария тяжко стукнула себя в сердце обеими руками, словно ее насквозь проткнули сзади стрелой или копьем; ее глаза закатились под блестящий от пота лоб, словно, еще не успев упасть, она уже испустила дух. Младенец Христос, внезапно сообразив, куда и с какой силой Дева Мария собирается грохнуться, в испуге выставил руки. Но Оуэну не хватило сил, чтобы удержать Марию Бет Бэйрд, — она буквально вдавила его в сено своей грудью, как борец на ковре.
И тут Иосиф увидел, каким образом Младенцу Иисусу удалось спихнуть с себя Матерь, — он взял и резко ткнул ее под ребра. Мгновенная контратака — только сено взметнулось в воздух; нужно было быть Иосифом или Розой Виггин, чтобы понять, что произошло. Прихожане увидели только, как Божья Матерь кубарем скатилась с копны сена и остановилась на полу хлева, отряхиваясь на безопасном расстоянии от непредсказуемого Сына Божьего. Оуэн осадил Марию Бет таким же презрительным взглядом, каким недавно ответил Розе Виггин.
Тем же взглядом он затем удостоил публику — не обращая никакого внимания на дары, возложенные к его ногам волхвами и пастухами, и чуть ли не выказывая к ним презрение. Младенец Христос медленно обвел зрителей глазами, словно военачальник — войско на плацу. На видимых мне лицах — тех, кто сидел в первых рядах, — в ответ появилось напряженно-заискивающее выражение. И мистер Фиш, и Дэн разинули рты в немом восхищении. Оба были достаточно искушенными в театральном деле, чтобы по достоинству оценить впечатление, произведенное Оуэном: он преодолел и дилетантизм всей постановки, и собственную простуду, и накладки, и плохую игру, и отступления от сценария.
И тут я перевел взгляд на лица, которые Оуэн, должно быть, увидел в ту же секунду, что и я; благоговейное восхищение читалось на них отчетливее, чем на всех других. Это были мистер и миссис Мини. Гранитную физиономию мистера Мини перекосило от страха, однако он неотрывно следил за действием; что же до миссис Мини, то в ее вытаращенных безумных глазах сквозило полное непонимание. Она сцепила руки в неистовой молитве, а муж придерживал ее за плечи, содрогавшиеся от мучительных рыданий, тягостных, словно животное страдание умственно отсталого ребенка.
Оуэн сел на своей копне сена так внезапно, что несколько прихожан из первых рядов перепугались; кто-то охнул, кто-то вскрикнул. Оуэн с трудом согнулся в поясе, как туго взведенная пружина, и свирепо ткнул пальцем в мать и отца; но чуть не каждому показалось, что указывают лично на него — или на всех присутствующих, вместе взятых.
— А ВЫ-ТО ЧТО ЗДЕСЬ ДЕЛАЕТЕ? — возопил разъяренный Младенец Христос.
Многие прихожане подумали, что он имеет в виду именно их; я заметил, как ошеломил этот вопрос мистера Фиша, но я-то знал, к кому обращается Оуэн. Я увидел, как его родители съежились и сползли со скамейки на подушечки для колен. Миссис Мини закрыла лицо руками.
— ВАМ НЕЛЬЗЯ СЮДА! — крикнул Оуэн на родителей; но мистеру Фишу, да и доброй половине народу, показалось, что этот запрет адресован им. Я увидел лица преподобного Льюиса Меррила и его калифорнийской жены; очевидно, они тоже приняли слова Оуэна на свой счет.
— ТО, ЧТО ВЫ СЮДА ПРИШЛИ, — ЭТО СВЯТОТАТСТВО! — орал Оуэн. По крайней мере десяток прихожан, сидевших на задних скамьях, виновато поднялись, чтобы уйти. Мистер Мини помог подняться на ноги своей оторопевшей жене. Та беспрестанно крестилась — беспомощно, бездумно, по-католически, что, вероятно, взбесило Оуэна еще больше.
Мистер и миссис Мини стали неловко продвигаться к выходу. Они оба были довольно крупными, и каждый шаг, пока они пробирались через множество чужих коленей в центральный проход, чтобы одиноко застыть посреди него, был неуклюж и мучителен.
— Мы только хотели посмотреть на тебя! — оправдываясь, сказал Оуэну отец.
Но Оуэн Мини неумолимо продолжал показывать пальцем на дверь в глубине нефа, через которую уже вышли несколько прихожан, и родители Оуэна, подобно другой паре, изгнанной из известного сада, покинули церковь Христа, как им и было велено. Даже хор, запевший после отчаянных знаков викария свое торжественное «Вести ангельской внемли!», не сумел перебить впечатления, которое мистер и миссис Мини произвели на присутствующих своим беспрекословным подчинением сыну.
Викарий Виггин, теребя Библию обеими руками, пытался привлечь внимание жены; однако Роза Виггин словно окаменела. А викарий хотел, чтобы она погасила наконец этот злополучный «столп света», продолжавший ярко освещать разгневанного Иисуса Христа.
— ЗАБЕРИ МЕНЯ ОТСЮДА! — сказал Иосифу маленький Иисус. Хорош был бы Иосиф, посмей он не послушаться! Я взял Оуэна на руки. Мария Бет Бэйрд, естественно, тоже хотела подержать его — хотя бы вместе со мной. То ли ее обожание Младенца Христа еще усилилось от тычка под ребра, то ли Оуэну просто удалось поставить ее на место, ни на йоту не умерив ее пыл, — неизвестно; но она осталась рабыней, готовой исполнить любое его приказание. Итак, мы вдвоем подняли его с сена — негнущегося и громоздкого, как икона, так его туго запеленали.
Куда его нести, мы себе не совсем представляли. Путь назад, за алтарь — туда, откуда мы вошли в хлев и где нас не было видно зрителям, — перекрыла Роза Виггин.
Как обычно в моменты всеобщего замешательства, Младенец Христос взял все на себя. Он показал пальцем на центральный проход между скамейками, которым вышли его родители. Я сомневаюсь, что кто-то направил волов и осликов нам вслед, — они просто устремились на свежий воздух. Вскоре наша процессия по своей численности и мощи больше напоминала отряд на марше, и получилось, что третья строфа заключительного гимна возвестила о нашем выходе.
- Младенца восславь, Младенца хвали!
- На землю пришел Христос!
- Он смерть победил, и сынам земли
- Он вечную жизнь принес.
Все время, пока мы шли по центральному проходу, Роза Виггин освещала нас «столпом света»; какая сила заставляла ее делать это? Идти нам было некуда, кроме как на улицу, в снег и холод. Чтобы получше рассмотреть Младенца Христа, волы и ослики посрывали свои головы. В основном это были маленькие дети; некоторые, хоть и немногие, — даже меньше Оуэна. Они глядели на него с благоговейным трепетом. Пронизывающий ветер продувал Оуэна сквозь плотные слои пеленок; его голые руки порозовели, и он, поеживаясь, сложил их на своей цыплячьей груди. В кабине гранитного тягача сидели перепуганные мистер и миссис Мини и ждали своего сына. Мы вместе с Девой Марией внесли его в кабину. Из-за всех этих пеленок его пришлось положить поперек сиденья — ноги на колени отца — так, чтобы не мешать мистеру Мини управлять машиной, а голову и плечи — на колени миссис Мини, которая, по своему обыкновению, смотрела отчасти в окно, отчасти непонятно куда.
— ДА, КСТАТИ, НАСЧЕТ МОЕЙ ОДЕЖДЫ, — обратился ко мне Христос Господь. — ЗАБЕРИ ЕЕ И ОСТАВЬ ПОКА У СЕБЯ.
— Ну конечно, — заверил его я.
— ХОРОШО ВСЕ-ТАКИ, ЧТО НА МНЕ ОСТАЛСЯ ВЕЗУЧИЙ ШАРФ, — сказал мне Оуэн. — ПОЕХАЛИ ДОМОЙ! — приказал он своим родителям, и мистер Мини включил передачу.
Снегоуборочная машина свернула с Центральной улицы на Эллиот-стрит. Вообще-то в Грейвсенде принято уступать им дорогу, но сейчас даже снегоуборочная машина уступила дорогу Оуэну.
Торонто, 4 февраля 1987 года — в среду на утренней службе с евхаристией почти нет прихожан. Причащаться гораздо приятнее, когда не приходится толпиться в проходе у престольных перил, словно в стаде, ждущем, пока освободится место у кормушки, или в очереди у прилавка закусочной быстрого обслуживания. Я не люблю причащаться вместе с толпой.
Мне больше нравится, как подает хлеб преподобный мистер Фостер. Каноник Мэки все время норовит надо мной подшутить: он любит, скажем, дать мне самую крошечную облатку из тех, что держит в руке, — буквально одну корочку. Или, наоборот, даст кусище, который едва умещается во рту, — его приходится долго жевать, пока проглотишь. Каноник любит меня дразнить. Скажет: «Н-да, часто вы причащаетесь; так вам скоро придется садиться на диету — кто-то должен следить, как вы питаетесь, Джон!» — и хихикает. А в другой раз — наоборот: «Н-да, часто вы причащаетесь; оголодали, наверно, — видно, покормить-то некому!» И опять хихикает.
Преподобный мистер Фостер, наш внештатный священник, по крайней мере подает хлеб всем с одинаковым благоговением — а больше мне ничего и не нужно. Касательно вина у меня нет нареканий — его подносят наши добровольные помощники, преподобный мистер Ларкин и преподобная миссис Килинг. Миссис Кэтрин Килинг, директор школы имени епископа Строна, вызывает у меня тревогу, только когда она бывает беременна. Преподобная миссис Килинг часто бывает беременна, и, на мой взгляд, ей не стоит подавать вино, когда уже трудно нагибаться с чашей, — лично мне каждый раз больно на нее смотреть. Кроме того, когда вы стоите на коленях у престольных перил в ожидании чаши с вином и видите, как к вам приближается ее большой живот, это отвлекает от таинства. Что касается преподобного мистера Ларкина, то он иногда отнимает чашу еще до того, как вы успели пригубить вино, — тут важно не зевать. А еще он как-то небрежно вытирает ободок чаши после каждого причастившегося.
После того как не стало каноника Кэмпбелла, мне приятнее всего разговаривать с преподобной миссис Килинг. К Кэтрин Килинг я отношусь с искренней теплотой и восхищением. Жаль, что сегодня я не могу поговорить с ней, — ведь нынче мне это нужно, как никогда. Но ничего не поделаешь: миссис Килинг в отпуске — ждет очередного ребенка. Преподобный мистер Ларкин всегда торопится свернуть разговор, точно так же, как торопится отнять чашу для причащения. А нашему внештатному священнику преподобному мистеру Фостеру, при всем его миссионерском пыле, неохота вникать в заботы ворчунов вроде меня — нестарых, живущих без забот в таком престижном районе, как Форест-Хилл. Преподобный мистер Фостер целиком увлечен идеей открыть миссию на Джарвис-стрит; а также женскую консультацию для проституток на предмет выявления венерических заболеваний; а еще он по уши занят благотворительными проектами для аборигенов с Карибских островов, что живут на Батерст-стрит, — тех самых, которых вовсю поносит заместитель старосты Холт. А вот к моим тревогам преподобный мистер Фостер выказывает совсем мало сочувствия: он говорит, все эти тревоги существуют только в моем сознании. Как вам это «только»?
Так что сегодня, кроме каноника Мэки, мне поговорить не с кем. А разговор с каноником, как всегда, не клеится. Я его спрашиваю:
— Вы газету читали? Сегодняшний номер «Глоб энд мейл»? Первую полосу.
— Нет, сегодня утром я не успел, — отвечает каноник Мэки. — Но, кажется, я догадываюсь: там есть что-то о США? Опять президент Рейган что-нибудь сказал?
Он не просто снисходителен, каноник Мэки. Он пренебрежителен.
— Вчера прошли ядерные испытания. Первый взрыв в США в восемьдесят седьмом году, — сказал я. — Он был назначен на завтра, но его перенесли на два дня раньше. Чтобы обдурить недовольных. Естественно, намечались акции протеста — на завтра.
— Естественно, — поддакнул мне каноник Мэки.
— А демократы назначили на сегодня голосование по резолюции, призывающей Рейгана отменить испытания, — втолковываю я канонику. — Но оказывается, правительство соврало даже насчет даты испытаний. Просто чудесное применение денежкам налогоплательщиков, а?
— Вы ведь уже не налогоплательщик Соединенных Штатов, — замечает каноник.
— Советы обещали не проводить испытания, если США не сделают этого первыми, — сказал я. — Неужели вы не видите, что это — преднамеренная провокация? Это вызов! Что нам плевать на соглашения по вооружениям — на любые соглашения, по любым вооружениям! Надо бы каждого американца заставить пожить за пределами США годик-другой. Надо заставить американцев посмотреть на себя со стороны. Чтобы поняли, как по-дурацки они выглядят в глазах всего мира! Им бы послушать, что о них говорят другие — все равно кто! Да в любой другой стране об Америке знают больше, чем сами американцы знают о себе! А о других странах американцы вообще ничего не знают!
Каноник Мэки кротко поглядел на меня, и я уже вижу, куда он сейчас все повернет. Вот так всегда: говоришь ему об одном, а он берет да и переводит разговор на меня лично.
— Я понимаю, Джон, вы огорчены итогами выборов в церковный совет, — сказал он. — Но поймите, никто ведь не сомневается в вашей преданности церкви.
Вот тебе пожалуйста. Я ему о ядерной войне и обычном для американцев самодовольном высокомерии, а канонику Мэки непременно надо поговорить обо мне.
— Вы, конечно, знаете, как вас уважают в нашей общине, Джон, — продолжает каноник. — Но неужели вы не чувствуете, что ваши… ммм… суждения иногда смущают? Это так по-американски — иметь такие… резкие суждения. И так по-канадски — не очень доверять резким суждениям.
— Я канадец, — возражаю я. — Я уже двадцать лет канадец.
Каноник Мэки, долговязый, сутулый, с добродушным лицом, он до того некрасив, что его нескладная фигура уже не кажется страшной, и до того порядочен, что даже его упертые мозги не вызывают раздражения.
— Эх, Джон, Джон, — качает головой каноник — Да, вы гражданин Канады, но давайте посмотрим, о чем вы все время говорите. Вы же говорите об Америке больше, чем любой из моих знакомых американцев! И в то же время вы сильнее, чем любой из моих знакомых канадцев, настроены против Америки. Вы немного… ммм… зациклились на этой теме, вам не кажется?
— Нет, не кажется, — отвечаю я.
— Эх, Джон, — вздыхает каноник Мэки. — Ваш гнев — это ведь тоже не очень по-канадски.
Каноник знает, гнев — мое слабое место.
— Да и не по-христиански, — признаю я. — Каюсь!
— Не нужно каяться! — ободряет каноник — Просто постарайтесь чуть-чуть изменить… свое отношение.
Эти его постоянные паузы раздражают почти так же, как и его советы.
— Вся эта петрушка со «звездными войнами» меня просто бесит, — пытаюсь объяснить канонику. — Единственное, что сдерживает сегодня гонку вооружений, — это договор семьдесят второго года между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны. Сейчас Рейган открыто толкает Советский Союз на то, что бы они продолжали испытывать свое собственное ядерное оружие. А если он будет продвигать свои планы по ракетам в космосе, то заставит СССР в конце концов похоронить и договор семьдесят второго года!
— У вас такая память на исторические события, — замечает каноник — Как вы запоминаете все эти даты?
— Знаете что, каноник…
— Ну-ну, Джон, — примирительно говорит каноник — Я вижу, как вы огорчены, я и не думаю подтрунивать над вами, честное слово. Просто хочу, чтобы вы поняли — выборы в церковный совет…
— Да плевать мне на выборы в церковный совет! — перебиваю я со злостью, ясно показывающей, что на самом деле мне вовсе не плевать. — Простите, — тут же остыл я.
Каноник положил мне на плечо свою теплую и слегка влажную руку.
— Нашим более молодым членам приходского правления вы кажетесь немного чудаком, — признался он мне. — Они не понимают, что происходило в те годы, когда вы оказались здесь. Им хочется знать: почему — притом, что вы так громогласно поносите Соединенные Штаты, — почему вы так мало похожи на канадца? Вы же так и не стали канадцем, знаете ли, а это смущает и тех прихожан, что постарше. Это смущает даже тех из нас, кто помнит обстоятельства, которые привели вас сюда. Если вы решили поселиться в Канаде, почему вас так мало с нею связывает? Почему вы так мало знаете о нас? Джон, только не обижайтесь, это шутка: но вы ведь даже Торонто толком не знаете.
Вот в этом весь каноник Мэки. Я переживаю из-за войны, а его заботит, что я могу заблудиться, стоит мне шаг ступить за пределы Форест-Хилла. Я ему толкую о том, что может сорваться самый значительный договор между США и Советским Союзом, а каноник иронизирует насчет моей памяти на даты!
Да, память на даты у меня хорошая. Как насчет 9 августа 1974 года? Карьере Ричарда Никсона пришел конец. А как насчет 8 сентября 1974-го? Ричард Никсон получил прощение. А потом было 30 апреля 1975-го: подразделения Военно-морского флота США эвакуировали из Вьетнама последних оставшихся там военных советников и дипломатов — операция под названием «Частый ветер».
Каноник Мэки управляется со мной весьма умело, это да. Его замечания насчет «дат» и, как он это называет, «памяти на исторические события» работают на привычную посылку: я, мол, живу прошлым. Каноник Мэки заставляет меня задуматься, считать ли мне свою верность памяти каноника Кэмпбелла одним из проявлений того, что я живу прошлым. В те годы, когда я чувствовал в канонике Кэмпбелле родственную душу, я жил прошлым гораздо меньше, впрочем, то, что мы сейчас называем прошлым, тогда было настоящим; и мы с каноником Кэмпбеллом жили в нем, и оно целиком поглощало нас обоих. Будь каноник Кэмпбелл жив, оставайся он до сих пор викарием церкви Благодати Господней — как знать, возможно, он бы сочувствовал мне не больше, чем сегодня каноник Мэки.
Каноник Кэмпбелл был еще жив 21 января 1977-го. В тот самый день президент Джимми Картер объявил амнистию «отказникам» — простил всех уклонившихся от призыва во время войны во Вьетнаме. Какое мне до этого было дело? Я уже давно гражданин Канады.
Хотя каноник Кэмпбелл тоже не раз попрекал меня, что я слишком часто гневаюсь, он понимал, почему эта «амнистия» привела меня в такую ярость. Я показал канонику Кэмпбеллу письмо, которое написал Джимми Картеру. «Уважаемый господин Президент! — писал я. — А кто амнистирует Соединенные Штаты?»
А ведь правда, кто сможет простить Соединенные Штаты? Как можно простить им Вьетнам, их поведение в Никарагуа, их упорное и такое весомое участие в распространении ядерного оружия?
— Эх, Джон, Джон, — качает головой каноник Мэки. — Ваша краткая речь о Рождестве, на собрании церковного совета… Н-да… Мне кажется, даже Скрудж вряд ли посчитал бы это подходящим местом для подобного заявления.
— Я сказал, что меня Рождество угнетает, только и всего, — буркнул я.
— «Только и всего!» — всплеснул руками каноник Мэки. — Да ведь церковь придает Рождеству такое огромное значение — от него зависит и наша миссионерская деятельность, да и наше существование в этом городе. Я уже не говорю о маленьких прихожанах нашей церкви, для них Рождество — вообще главное событие года.
Что бы ответил мне каноник, скажи я ему, что Рождество 1953-го добавило последние штрихи к моему образу Рождества и закрыло для меня эту тему? Он снова заметил бы мне, что я живу прошлым. Потому-то я и промолчал. Говорить о Рождестве мне совсем не хочется.
Стоит ли удивляться, что Рождество — с того самого Рождества — так угнетает меня? То, чему я стал свидетелем в 53-м, вытеснило в моем сознании старую знакомую историю. Христос, конечно, родился «чудесным образом», но куда поразительнее требования, которые он ухитряется выдвинуть, еще не начав ходить! Он не только требует всеобщего поклонения и обожания — от крестьян и от царственных особ, от животных и собственных родителей, — но еще и изгоняет мать с отцом из храма Божия. Я никогда не забуду, как алело его голое тело на морозном ветру, не забуду это госпитальное белое на белом — белые пелены на фоне свежевыпавшего снега — видение Младенца Господа, от рождения — жертвы, от рождения — кровоточащего, от рождения — в бинтах, от рождения — гневного и обличающего; запеленатого так туго, что ноги не сгибались, и вынужденного неподвижно лежать на коленях родителей, словно смертельно раненный боец на носилках.
Как после этого любить Рождество? Прежде чем уверовать, я мог по крайней мере верить в сказку.
То воскресенье, когда я стоял на улице, чувствуя, как ветер пробирает меня до костей сквозь Иосифову хламиду, способствовало моей вере в чудо Рождества — и моей неприязни к нему. Тому, как прихожане брели к выходу по главному нефу, как возмущались, что привычный ритуал изменили без всякого предупреждения. Викарий не стоял, как обычно, на ступеньках и не пожимал им на прощание руки, потому что после нашего торжественного выхода многие последовали за нами, оставив онемевшего преподобного мистера Виггина у алтаря: это ведь ему, а не нам полагалось спуститься в неф во время заключительного гимна, чтобы произнести затем благодарственный молебен.
И что было делать Розе Виггин со «столпом света» теперь, после того как она проводила с его помощью Господа Иисуса и всю его свиту до самых дверей? Дэн Нидэм потом сказал мне, что преподобный Дадли Виггин сделал жест, мало подобающий викарию церкви Христа, стоящего за кафедрой: провел по горлу указательным пальцем — знак жене, чтобы она вырубила свет, что та в конце концов и сделала (правда, только после того, как мы вышли). Но большинство растерянных прихожан, искавших подсказку в каждом движении викария (чтобы знать, как вести себя на этом неканоническом мероприятии?), жест преподобного Дадли Виггина, чиркнувшего по горлу пальцем, просто поразил. Неискушенный мистер Фиш повторил жест викария и вопросительно посмотрел на Дэна. Как заметил Дэн, мистер Фиш был не одинок в своем замешательстве.
А что было делать нам? Вся наша братия, выйдя из жаркого хлева на улицу, нерешительно сбилась в зябкую кучку, после того как грузовик «Гранитной компании Мини» свернул на Центральную улицу и скрылся из виду. Задняя часть ослика, пришедшая в себя после обморока, побежала к дверям вестибюля, но они оказались заперты. У волов на скользком снегу разъезжались ноги. Куда могли мы еще пойти, как не обратно в церковь через главный вход? Неужели двери закрыли, чтобы воры не украли нашу одежду? Насколько мы знали, в Грейвсенде не было ни проблем с детской одеждой, ни грабителей. Но делать нечего; чтобы попасть внутрь, нам пришлось ринуться против течения — прихожане валом валили наружу. Розу Виггин, которая всегда старалась, чтобы служба проходила гладко, как авиарейс — без воздушных ям, с вылетом и прибытием строго по расписанию, — должно быть, больше других удручал неожиданный затор в дверях. Ангелы и пастухи — они были младше всех — сновали между ногами взрослых; более солидные и величественные волхвы, зажав в руках свалившиеся короны, и неуклюжие волы и ослики, распавшиеся теперь на половинки, неловко протискивались сквозь поток объемистых пальто. На потрясенных физиономиях многих прихожан читалась обида, словно Христос Господь только что плюнул им в лицо и проклял за святотатство. Пожилые члены паствы, не питавшие расположения ни к затейнику командиру Виггину, ни к его выскочке жене, едва сдерживали гнев, мрачно хмуря брови и поджав губы, будто позорное зрелище, которому они только что стали свидетелями, и вправду было попыткой викария «осовременить» привычный рождественский утренник. Так или иначе, им это не понравилось, и бывший летчик еще не скоро добьется у них признания.
Я вдруг уперся подбородком в грудь преподобному Льюису Меррилу, растерянному не меньше, чем прихожане-епископалы, и не понимавшему, что им с женой делать дальше. Они находились ближе к выходу, чем куда-то запропастившийся викарий, и если бы преподобный мистер Меррил и дальше продолжил вместе с толпой пробиваться к дверям, то совсем скоро, опередив преподобного мистера Виггина, оказался бы снаружи, на ступеньках, где викарий обычно пожимал на прощание руки всем уходящим. Уж конечно, пожимание рук епископалам после их халтурного утренника не входило в обязанности пастора Меррила. Упаси Боже кто-то подумает, что это ради него, пастора Меррила, так исковеркали утренник или что конгрегационалисты понимают Рождество именно так






