Молитва об Оуэне Мини Ирвинг Джон
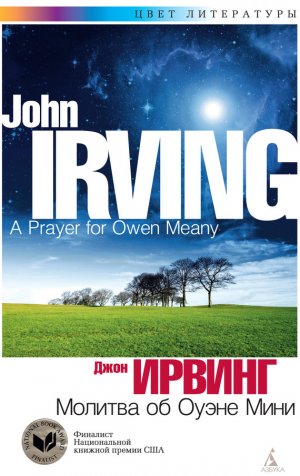
На полке камина, в котором огонь всегда еле теплился — то ли поленья там всегда лежали отсыревшие, то ли угли часами никто не ворошил, — стоял рождественский вертеп с аляповато раскрашенными деревянными фигурками. Трехногий вол, почти такого же сомнительного вида, как и те, что получились у Марии Бет Бэйрд, опирался на жутковатого цыпленка размером чуть ли не с половину этого вола; своими пропорциями цыпленок здорово смахивал на голубей Розы Виггин. Скол на лице Девы Марии, выкрашенном в телесный цвет, сделал ее совершенно слепой и такой страшной, что кто-то из домашних заботливо отвернул ее от колыбельки Младенца Христа — да-да, колыбель там имелась! У Иосифа не хватало руки — он, верно, отрубил ее себе в припадке ревности, потому что в выражении его лица читалась затаенная ярость, словно дым из камина, покрывший полку слоем копоти, омрачил заодно и дух Иосифа. У одного ангела была сломана арфа, а оскал другого рождал в воображении скорее плач над покойником, чем сладкоголосое пение.
Но самым зловещим в этой рождественской идиллии было отсутствие самого новорожденного Иисуса. Его колыбель стояла пустой — вот почему Дева Мария отвернула в сторону свое изуродованное лицо, вот почему один из ангелов разломал свою арфу, а другой отчаянно вопил, вот почему Иосиф лишился руки, а вол — ноги. Младенец Христос исчез — то ли его похитили, то ли он сам сбежал. В традиционной композиции отсутствовал сам объект поклонения.
В комнате Оуэна было опрятнее, даже чувствовалось некоторое присутствие божественного порядка; и все-таки даже здесь ничего не напоминало о грядущем празднике Рождества — разве что красное, как листья пуансеттии, платье, надетое на мамин манекен. Но я-то знал, что другого наряда у манекена просто нет.
Манекен располагался в изголовье кровати Оуэна — ближе, чем мама обычно ставила его у своей кровати. Для того, как я понял, чтобы Оуэн мог лежа дотронуться до знакомой фигуры.
— НЕ СМОТРИ ТАК ДОЛГО НА МАНЕКЕН, — предостерег меня Оуэн. — ТЕБЕ ЭТО ВРЕДНО.
Самому Оуэну, видимо, это было полезно — манекен стоял прямо над его изголовьем.
С бейсбольными карточками, некогда лежавшими на самом видном месте, я уверен, Оуэн не расстался; однако теперь он их куда-то запрятал. О бейсболе здесь вообще ничего не напоминало — хотя я не сомневался, что тот смертоносный мяч тоже хранится в этой комнате. И когти моего броненосца, конечно, были где-то тут, хотя тоже не на виду. И новорожденный Иисус, которого умыкнули из колыбельки… Да, я не сомневался, что Младенец Христос находится где-то в комнате Оуэна, возможно, в одной компании с презервативом Поттера — Оуэн ведь тогда унес его домой. И куда-то спрятал — как и когти броненосца, похищенного Сына Божьего, и так называемое орудие убийства моей мамы.
Сама эта комната не располагала к тому, чтобы в ней засиживались. Мы заходили в дом Мини совсем ненадолго, иногда только затем, чтобы Оуэн переоделся, — ведь у меня он ночевал чаще, чем дома, особенно в те рождественские каникулы.
Миссис Мини никогда не заговаривала со мной; она вообще не обращала на меня внимания, когда я заходил к ним в дом. Не помню, чтоб Оуэн хотя бы сообщал матери о моем присутствии — да, если уж на то пошло, и о своем тоже. А вот мистер Мини обычно встречал меня учтиво. Не то чтобы он выказывал восторг или даже просто радость при виде меня; да и поболтать не пытался — но всякий раз приветствовал одной и той же осторожной шуткой. «Это надо же — Джонни Уилрайт!» — говорил он, будто удивляясь, как я вообще оказался у них в доме или будто не видел меня лет сто. Возможно, таким неуклюжим способом он объявлял обо мне миссис Мини, но его жена на это никак не реагировала — она по-прежнему оставалась сидеть боком и к нам и к окну. Иногда она для разнообразия переводила пристальный взгляд на камин; однако зрелище тлеющего огня ни разу не побудило ее поправить поленья или помешать угли. Возможно, дым ей больше нравился.
Однажды, видимо почувствовав какую-то особую потребность пообщаться, мистер Мини сказал:
— Это надо же — Джонни Уилрайт! Ну и как ваши рождественские репетиции?
— Оуэн у нас теперь звезда всего представления, — сказал я и тут же почувствовал, как мне в спину больно ткнулись костяшки его крошечного кулачка.
— Да? А ты никогда не говорил, что стал звездой, — обратился мистер Мини к Оуэну.
— Он у нас играет Младенца Христа! — пояснил я. — А я всего лишь Иосиф.
— Младенца Христа? — переспросил мистер Мини. — А я думал, ты играешь ангела, Оуэн.
— В ЭТОМ ГОДУ — НЕТ, — ответил Оуэн. — ПОШЛИ, НАМ ПОРА, — сказал он, потянув меня сзади за рубашку.
— Так ты — Младенец Христос? — еще раз спросил его отец.
— Я ЕДИНСТВЕННЫЙ, КТО МОЖЕТ УМЕСТИТЬСЯ В ЛЮЛЬКЕ, — сказал Оуэн.
— Но теперь мы уже решили обойтись без люльки, — продолжал объяснять я. — Оуэн рулит всем утренником — он у нас не только главный артист, а еще и режиссер.
Оуэн так сильно дернул меня за рубашку, что она вылезла из штанов.
— Режиссер, угу, — вяло повторил мистер Мини.
Тогда-то я и почувствовал холод, словно в дом каким-то противоестественным способом — вниз через каминный дымоход, навстречу теплому воздуху — проник сквозняк. Но то был не сквозняк — то была миссис Мини. Я заметил, что она слегка изменила позу и во все глаза смотрит на Оуэна. На ее лице отобразилось смятение, на нем смешались ужас и благоговейный трепет, на нем читалось потрясение и вместе с тем очень знакомое выражение обиды. Я только тогда понял, насколько Оуэну легче видеть свою мать в профиль.
Когда мы оказались на промозглом ветру, что дул со стороны Скуамскотта, я спросил Оуэна, не сболтнул ли я чего-нибудь лишнего.
— Я ДУМАЮ, ИМ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ, КОГДА Я ИГРАЮ АНГЕЛА — сказал он.
Снег, кажется, никогда не задерживался на Мейден-Хилле, он никак не хотел налипать на огромные, торчащие из земли гранитные плиты, которыми размечали границы карьеров. В самих ямах снег лежал грязный, вперемешку с песком; по нему тянулись цепочки птичьих и беличьих следов — для собак стенки карьеров были слишком крутыми. Вокруг гранитных карьеров всегда полно песку — он каким-то образом оказывается поверх снега; а возле дома Оуэна всегда гуляет такой ветер, что песок этот больно впивается в лицо, как на пляже зимой.
Только заметив, что Оуэн опустил уши своей охотничьей кепки в красно-черную клетку, я сообразил, что свою шапку оставил у него на кровати. Мы уже наполовину спустились с Мейден-Хилла; Дэн пообещал встретить нас на машине у эллинга на Суэйзи-Парквей.
— Погоди минутку, — сказал я Оуэну. — Я забыл у тебя шапку.
Я побежал обратно в дом, а он остался стоять, рассеянно пиная кусок породы, вмерзшей в борозду фунтовой дороги.
Я не стал стучаться — все равно на том месте, куда удобнее всего стучать, висела связка сосновых веток. Мистер Мини стоял у каминной полки и смотрел то ли на рождественский вертеп, то ли на огонь.
— Я шапку забыл, — пояснил я, увидев, что он поднял на меня глаза.
В комнату Оуэна я тоже стучаться не стал. Сперва мне показалось, что портновский манекен сдвинулся с места — ухитрился каким-то образом согнуться в поясе и сесть к Оуэну на кровать. Потом я сообразил, что это миссис Мини сидит на кровати. Она пристально глядела на двойника моей мамы и не пошевельнулась даже тогда, когда я вошел в комнату.
— Я шапку забыл, — повторил я. Не знаю, услышала она меня или нет.
Я надел шапку и уже выходил из комнаты, стараясь прикрыть за собой дверь как можно тише, и тут вдруг она произнесла:
— Мне очень жаль твою бедную матушку.
То был первый раз, когда она заговорила со мной. Я снова заглянул в комнату. Миссис Мини не пошевельнулась; она все так же сидела, слегка склонив голову, и смотрела на манекен, словно ждала от него каких-то указаний.
Ровно в полдень мы с Оуэном проходили под железнодорожным мостом, что в нескольких сотнях метров от гранитного карьера Мини, — в этом месте начинается подъем на Мейден-Хилл-роуд. Спустя много лет Баззи Тэрстон, успешно избежавший призыва, найдет у одной из опор этого моста свою смерть. Но тогда, под Рождество пятьдесят третьего, мы впервые в жизни оказались под мостом как раз в ту минуту, когда по нему мчался «Летучий янки» — экспресс, покрывающий расстояние между Бостоном и Портлендом всего за два часа. Каждый день ровно в полдень он с грохотом и гудками проносился через Грейвсенд, и хотя мы с Оуэном не раз наблюдали, как он на полной скорости выныривает из-под крыши городского вокзала, и не раз клали на рельсы монетки, чтобы посмотреть, как «Летучий янки» расплющит их, но ни разу в жизни еще не случалось нам оказаться под железнодорожным мостом так, чтобы поезд пролетел прямо над нами.
Я все еще размышлял о смиренной позе миссис Мини перед маминым манекеном, когда все конструкции моста вдруг мелко задребезжали. В промежутки между шпалами и опорами на нас посыпался крупный песок; задрожали даже бетонные опоры, и мы, задрав головы и заслонив глаза руками от струящегося на нас песка, смотрели, как над нами проносится гигантское черное днище поезда, а в просветах между вагонами мелькает свинцовое зимнее небо.
— ЭТО «ЛЕТУЧИЙ ЯНКИ», — ухитрился проорать сквозь грохот Оуэн. Все поезда вызывали в нем особое чувство: он ведь ни разу еще не ездил на поезде. Но, видимо, «Летучий янки» с его дикой скоростью и нежеланием останавливаться в Грейвсенде представлялся Оуэну высшим воплощением путешествия. Ему, тогда еще нигде не бывавшему, путешествия рисовались в явно романтическом свете.
— Надо же, какое совпадение! — удивился я, когда «Летучий янки» наконец унесся прочь. Я имел в виду, что нам здорово повезло — оказаться под железнодорожным мостом точно в полдень, но Оуэн ответил усмешкой, так раздражавшей меня своей смесью легкой жалости и легкого презрения. Ну да, теперь-то я, конечно, знаю, что в совпадения он не верил. Оуэн Мини считал, что слово «совпадение» — это не что иное, как глупое и поверхностное прибежище для глупых и поверхностных людей, не способных признать, что события их жизни подчинены некоему колоссальному, внушающему ужас и трепет замыслу — гораздо более могущественному и неотвратимому, чем какой-то там «Летучий янки».
Горничную, что ухаживала за моей бабушкой — она заменила Лидию, после того как той ампутировали ногу, — звали Этель. Ей часто приходилось выслушивать замечания, которые бабушка с Лидией исподволь делали насчет ее расторопности. Я говорю «исподволь» только потому, что бабушка с Лидией высказывали свои замечания, не обращаясь к Этель напрямую, — однако в ее присутствии бабушка, например, говорила:
— Помнишь, Лидия, как ты, бывало, приносила банки с джемами и вареньями, что стоят на полках в потайном подвале, — они там так пылятся! — а потом выстраивала их на кухне в том порядке, в каком консервировала?
— Да, помню, — отвечала Лидия.
— Я могла осмотреть их одну за другой и сказать: «Так, вот эти банки нужно выбросить, — кажется, здесь это никто не ест, и они стоят уже два года». Помнишь? — спрашивала бабушка.
— Да. Однажды мы так выбросили всю айву, — отвечала Лидия.
— Так приятно было всегда знать, что у нас хранится в подвальчике, — замечала бабушка.
— А я всегда говорю: нельзя становиться рабом вещей, — изрекала Лидия.
Естественно, на следующее утро бедная Этель — получив подробные, хотя и косвенные распоряжения — вытаскивала на свет божий все джемы и варенья, отирала их от пыли и выставляла для осмотра.
Этель была невысокая, плотно сбитая женщина с неиссякающим запасом грубоватой силы. Правда, последняя часто сводилась на нет из-за недостатка сообразительности и страшной неуверенности. Когда она делала что-нибудь в доме, например убирала, то широко и энергично размахивала крепкими узловатыми руками, однако решительные движения рук сопровождались или даже опережались страшно неловкими, неуклюжими шагами коротких ног с толстыми лодыжками и широкими ступнями. Она вечно спотыкалась и задевала за все углы. Оуэн говорил, что Этель слишком медленно соображает, чтобы ее можно было как следует напугать, а потому мы редко докучали ей, даже когда имели возможность — например, в том же потайном подвале. Так что и в этом отношении Этель уступала Лидии — пока у той не отняли ногу, пугать ее было сущее удовольствие.
Горничная, нанятая для ухода за Лидией, была, как говорят у нас в Грейвсенде, «совсем из другой команды». Ее звали Джермейн; Этель с Лидией постоянно третировали ее, а бабушка старалась не замечать. От этих высокомерных женщин бедняжку Джермейн отличал существенный недостаток: она была молодая и почти хорошенькая — эдакая робкая «мышка». Ей была присуща неуклюжесть, свойственная людям, старающимся скрыть свою застенчивость. Джермейн против своей воли притягивала к себе внимание, словно возникающее вокруг нее электрическое поле нервозности заряжало все окружающее пространство.
Открытые окна вдруг ни с того ни с сего с шумом захлопывались, а двери сами открывались, когда Джермейн только пыталась проскользнуть мимо них. Дорогие вазы начинали покачиваться при ее приближении; а стоило ей выставить руку, чтобы придержать их, они тут же разбивались вдребезги. В инвалидной коляске Лидии обязательно что-нибудь заедало, стоило Джермейн протянуть к рычагам свои дрожащие руки. Лампочка в холодильнике перегорала точно в ту секунду, как Джермейн открывала дверцу. А когда свет в гараже оставался включенным всю ночь, на следующее утро в ходе бабушкиного дознания выяснялось, что последней спать ложилась опять-таки Джермейн.
— Кто последний ложится спать, тот везде выключает свет, — по обыкновению монотонно наставляла ее Лидия.
— Когда Джермейн ложилась, я не просто была в постели, а уже спала, — объявляла Этель. — Я точно знаю, что уже спала, потому что она разбудила меня.
— Простите, — шепотом отвечала Джермейн.
Бабушка вздыхала и качала головой так, будто несколько комнат в этом огромном доме за ночь спалил пожар и теперь уже все равно ничего не спасешь, так что и говорить не о чем.
Но я-то знаю, почему бабушка старалась не замечать Джермейн. Как-то раз, движимая соображениями присущей янки бережливости, она подарила Джермейн всю одежду, что осталась от мамы. Джермейн эти вещи оказались немного велики, хотя таких красивых платьев, юбок и кофточек у нее в жизни не было, — и она с радостью и некоторым почтением стала носить их, не понимая, что бабушке неприятно видеть ее в этом мучительно знакомом облачении. Делая этот подарок, бабушка, верно, и сама не подозревала, как расстроится, увидев на Джермейн мамины вещи. Но гордость не позволяла ей признать свою ошибку, и теперь бабушке ничего не оставалось, кроме как отводить глаза. А что одежда на Джермейн болтается — так девушка сама виновата.
— Тебе нужно побольше есть, Джермейн, — говорила бабушка, не глядя на нее и совершенно не обращая внимания, что и сколько ест Джермейн; она заметила только, что мамина одежда висит на Джермейн как на вешалке. Но съедай она хоть в десять раз больше, все равно ее грудь никогда не сравнилась бы с маминой.
— Джон? — шептала Джермейн, входя в потайной подвал. Единственной лампочки в самом низу винтовой лестницы явно не хватало, чтобы как следует освещать спуск. — Оуэн? — осторожно спрашивала она. — Вы здесь? Не пугайте меня, пожалуйста.
И мы с Оуэном ждали, пока она не повернет за угол, в проход между длинными пыльными полками на уровне плеч, — там по потолку, затянутому паутиной, зигзагами разбегались тени от банок с джемами и вареньями; а над ними кривились и пучились, словно гигантские натёки лавы, еще более причудливые тени от банок побольше, где хранились закуски из помидоров со сладким перцем и сливовый джем.
— «НЕ БОЙТЕСЬ…» — тут-то и раздавался в темноте шепот Оуэна. Как-то раз — это случилось в те самые рождественские каникулы — Джермейн испугалась так, что расплакалась и убежала. — ПРОСТИ, ПОЖАЛУЙСТА! — крикнул ей вслед Оуэн. — ЭТО ВЕДЬ Я!
Вот уж кого Джермейн особенно боялась, так это Оуэна. Эта девушка верила в сверхъестественное, в то, что она всегда называла «знамениями», — к примеру, когда один из наших уличных котов замучил и съел малиновку, то это довольно рядовое происшествие было расценено ею как «верное знамение»: тому, кто видел эту сцену своими глазами, скоро, по ее мнению, предстояло подвергнуться еще большему насилию. Оуэн сам по себе казался бедняжке Джермейн «знамением»; его маленький рост внушал ей мысль, что Оуэн вполне способен внедряться в тело и душу другого человека и потом заставлять его поступать противно собственной природе.
Как-то раз за обедом зашел разговор об оуэновом голосе, и тут мне открылась точка зрения Джермейн на это его и вправду не совсем обычное свойство. Бабушка тогда спросила, пытался ли Оуэн или его родители хотя бы навести справки, нельзя ли что-нибудь «сделать» с его голосом, — «Я имею в виду, медицинскими средствами», — добавила бабушка; Лидия в ответ так усердно закивала, что я удивился, как ее шпильки не попадали в тарелку.
Я знал, что мама как-то сказала Оуэну, мол, ее старый знакомый, учитель пения, наверное, мог бы дать ему кое-какие полезные советы — а может, даже предложить вокальные упражнения, чтобы Оуэн научился говорить более ну, привычно, что ли. При одном упоминании об учителе пения бабушка с Лидией обменялись своими обычными многозначительными взглядами. Я пояснил им, что мама даже выписала на листок бумаги адрес и номер телефона этой таинственной личности и отдала его Оуэну. Звонить Оуэн, я уверен, никуда не стал.
— А почему? — недоуменно спросила бабушка. «В самом деле, почему?» — казалось, сейчас спросит Лидия, беспрестанно кивавшая головой. Ее кивание служило самым наглядным проявлением того, как она в своем старении опережает бабушку, — во всяком случае, именно бабушка как-то обратила на это мое внимание, когда мы были одни. Она с чрезвычайным, если не сказать болезненным интересом наблюдала, как стареет Лидия, — ее поведение служило бабушке барометром, предсказывающим, чего ей ожидать от себя самой в ближайшем будущем.
Этель убирала со стола, по обыкновению причудливо сочетая напористость с неповоротливостью. Она набирала слишком много тарелок в один прием, но при этом так долго возилась у стола, что можно было не сомневаться: часть из них она поставит обратно. Сейчас мне кажется, что она таким образом просто собиралась с мыслями, стараясь понять, куда ей нести тарелки. Джермейн тоже убирала — так во время пикника какой-нибудь ослабевший воробушек подлетает к вашей тарелке, чтобы стащить крошку хлеба. Джермейн уносила с собой слишком мало посуды — одну ложку, например, причем почти всегда не ту, — или салатную вилку, прежде чем вы успеете положить себе салат. Но если вмешательство Джермейн в ваш обед, казалось бы, проходило почти незаметно и нечувствительно, на самом деле именно оно было чревато последствиями. Когда на вас надвигалась Этель, вы опасались, что вам на колени обрушится стопка тарелок, — но этого не случилось ни разу. Когда же приближалась Джермейн, приходилось быть начеку чтобы с вашей тарелки не схватили чего-нибудь пока еще нужного или не опрокинули стакан с водой при неожиданном молниеносном нападении — и такое случалось довольно часто.
И в этот тревожный момент, когда убирали со стола и мы сидели как на иголках, я и объявил бабушке с Лидией, почему Оуэн Мини не стал обращаться за советом к маминому учителю пения.
— Оуэн не считает, что это правильно — пытаться исправить голос, — сказал я.
Этель, покачиваясь под тяжестью двух сервировочных блюд, салатницы и всех наших обеденных тарелок вместе с приборами, заковыляла прочь, стараясь держать равновесие. Бабушка же, словно уловив вибрацию, исходящую от Джермейн, крепче сжала в одной руке стакан с водой, а в другой — бокал с вином.
— Но почему, почему, скажи на милость, он так не считает?! — спросила она, а Джермейн тем временем, непонятно зачем, убрала со стола перцемолку, оставив на месте солонку.
— Он считает, что у него такой голос неспроста, что это — предназначение, — сказал я.
— Что за предназначение? — вопросила бабушка.
Этель направилась к кухонной двери, но потом остановилась и, поправляя огромную стопку тарелок, словно бы задумалась, не отнести ли их в гостиную. Джермейн переместилась за спину Лидии, отчего та сразу же напряглась.
— Оуэн считает, что такой голос у него от Бога, — тихо сказал я; Джермейн тем временем потянулась за чистой десертной ложкой Лидии и уронила перцемолку в ее стакан с водой.
— Силы небесные! — воскликнула Лидия. Это была коронная бабушкина фраза, и, услыхав ее от Лидии, бабушка посмотрела на нее так, будто подобное мелкое воровство ее любимых выражений в очередной раз подтверждает, что Лидия опережает ее в старении.
Тут, ко всеобщему изумлению, заговорила Джермейн:
— А мне кажется, этот голос у него от самого Дьявола.
— Чепуха! — отрезала бабушка. — От Бога, от Дьявола — чепуха, да и только. От гранита у него такой голос, вот от чего! Он надышался этой гадостью, когда был грудным ребенком! Оттого и голос у него теперь такой чудной, и оттого он не растет совсем.
Лидия, снова кивнув головой, не дала Джермейн вытащить перцемолку из своего стакана и, от греха подальше, сделала это сама. Этель, с грохотом налетев на кухонную дверь, широко распахнула ее, и Джермейн упорхнула из столовой — с совершенно пустыми руками.
Бабушка глубоко вздохнула, и тут же в ответ на бабушкин вздох Лидия кивнула — правда, не так явно.
— От Бога, — с презрением повторила бабушка. Помолчав немного, она спросила: — Адрес и телефон этого учителя пения… ммм… Ведь твой маленький друг, наверное, не собирался хранить этот листок — ну, в смысле, если он с самого начала знал, что не будет звонить?
После этого тонкого вопроса бабушка с Лидией снова обменялись своими обычными взглядами; но я-то отнесся к вопросу со всей осторожностью — мне сразу стало очевидно, сколько в нем скрыто потайных смыслов. Я знал, что бабушке этот адрес и телефон неизвестен — так вот, значит, до чего ей хочется его узнать! Я был уверен, что Оуэн никогда в жизни не выбросил бы этот листок. Пусть он и не собирался им воспользоваться — это не имело совершенно никакого значения. Оуэн вообще редко выбрасывал что бы то ни было; а уж то, что ему дала моя мама, он не то что не выбросит, а будет хранить как святыню.
Я многим обязан бабушке — благодаря ей я, среди прочего, научился распознавать такие вот тонкие вопросы.
— А зачем бы Оуэн стал хранить его? — с самым невинным видом спросил я.
Бабушка снова вздохнула, а Лидия снова кивнула.
— В самом деле, зачем? — уныло повторила Лидия.
Теперь настала бабушкина очередь кивать. Они обе стареют и слабеют, мимоходом заметил я про себя, но меня сейчас больше занимала мысль, почему я решил умолчать, что Оуэн, скорее всего, сохранил адрес и номер телефона этого учителя пения. Зачем мне это нужно, я не знал — по крайней мере, тогда. Зато теперь я точно знаю: Оуэн Мини тут же заявил бы, что это НЕ ПРОСТО СОВПАДЕНИЕ.
А что бы он сказал насчет нашего открытия — оказывается, не одни мы нашли в каникулы применение пустым комнатам Уотерхаус-Холла? Посчитал бы он НЕ ПРОСТО СОВПАДЕНИЕМ то, что в один из дней, когда мы, по своему обыкновению обследуя комнату на втором этаже, услышали, как в замке поворачивается другой универсальный ключ? Я едва успел заскочить в шкаф, с ужасом подумав, что произойдет, если пустые металлические плечики все еще будут звякать друг об друга, когда в комнату войдет этот новый незваный гость. Оуэн тем временем юркнул под кровать и лежал там теперь на спине со скрещенными на груди руками, как солдат в наспех сооруженной могиле. Сперва мы подумали, что нас застукал Дэн, — но ведь Дэн должен был репетировать со своим любительским театром, если только он с отчаяния не уволил половину актеров и не отменил постановку. Кроме него это мог быть только мистер Бринкер-Смит, учитель биологии — но ведь он живет на первом этаже, а мы с Оуэном вели себя так тихо, что с первого этажа нас никак нельзя было услышать.
— Тихий час! — услышали мы голос мистера Бринкер-Смита; в ответ хихикнула его жена.
Нам с Оуэном тут же стало совершенно ясно, что Джинджер Бринкер-Смит привела своего мужа в эту пустую комнату вовсе не затем, чтобы покормить его грудью: двойняшек-то они с собой не взяли — у них был свой «тихий час». Я по сей день не перестаю поражаться той удивительной находчивости, замечательно изощренному вкусу к мелким шалостям, которым Бринкер-Смитов наделила природа, — а как еще могли они получать одно из главных удовольствий супружеской жизни, не тревожа своих капризных двойняшек? Тогда мы с Оуэном, естественно, решили, что Бринкер-Смиты страдают опасной сексуальной одержимостью. Использовать общежитские кровати таким неприличным образом, да еще, как мы потом узнали, делать это по очереди во всех комнатах Уотерхаус-Холла, — м-да, думали мы, нормальные взрослые люди, у которых есть собственные дети, так себя не ведут. День за днем, «тихий час» за «тихим часом», кровать за кроватью — Бринкер-Смиты методично продвигались с первого этажа на четвертый. А поскольку мы с Оуэном шли в противоположном направлении, то, пожалуй, вправду неизбежно — тут Оуэн прав, это НЕ ПРОСТО СОВПАДЕНИЕ — мы должны были пересечься с ними в одной из комнат на втором этаже.
Через закрытую дверь шкафа я, разумеется, ничего не видел, но зато много чего слышал. (Маму с Дэном, должен заметить, я не слышал ни разу в жизни.) Оуэну Мини, как обычно, привелось воспринимать эту страстную сцену ближе и явственнее, чем мне: бринкер-смитовская одежда упала по обе стороны от Оуэна, а легендарный бюстгальтер для кормления приземлился вообще в дюйме от лица Оуэна. Он мне потом сказал, что еле успел повернуть голову набок, чтобы спастись от просевшей кроватной сетки, которая почти сразу же неистово закачалась и успела-таки задеть Оуэна по носу. Но, даже отвернув в сторону лицо, он не мог чувствовать себя в полной безопасности: сетка временами прогибалась до того сильно, что несколько раз царапнула его по щеке.
— ХУЖЕ ВСЕГО ЭТОТ ГРОХОТ, — чуть не плача жаловался он мне после того, как Бринкер-Смиты наконец вернулись к своим двойняшкам. — КАЖЕТСЯ, БУДТО ЛЕЖИШЬ НА РЕЛЬСАХ ПОД «ЛЕТУЧИМ ЯНКИ»!
То, что Бринкер-Смиты нашли Уотерхаус-Холлу гораздо более творческое и оригинальное применение, чем мы с Оуэном, самым решительным образом повлияло на остаток наших рождественских каникул. Обалдевший и слегка потрепанный, Оуэн предложил вернуться к привычным и не таким рискованным исследованиям дома 80 на Центральной.
— Твердеет! Твердеет! — стонала Джинджер Бринкер-Смит.
— Влажнеет! Влажнеет! — вторил ей мистер Бринкер-Смит. И — звяк! звяк! звяк! звяк! — Оуэну по голове.
— «ТВЕРДЕЕТ», «ВЛАЖНЕЕТ» — ЧТО ЗА ИДИОТИЗМ! — ворчал потом Оуэн. — СЕКС СВОДИТ ЛЮДЕЙ С УМА
Я подумал о Хестер и согласился.
Итак, после первого столь близкого знакомства с актом любви мы с Оуэном оказались в доме 80 на Центральной улице — просто слонялись там без дела — в тот день, когда наш почтальон, мистер Моррисон, объявил, что слагает с себя роль Духа Будущих Святок
— Почему вы говорите это мне? — удивилась бабушка. — Я же не режиссер.
— Дэн не на моем участке, — мрачно заметил почтальон.
— Я не передаю сообщений подобного рода — даже Дэну, — втолковывала бабушка мистеру Моррисону. — Вам лучше прийти на следующую репетицию и самому все сказать Дэну.
Бабушка держала приоткрытой наружную застекленную дверь, и морозным декабрьским воздухом, должно быть, здорово тянуло ей по ногам; у нас-то с Оуэном, во всяком случае, сразу застучали зубы, и мы отступили подальше в прихожую, за бабушкину спину, — а ведь на нас были штаны из шерстяной фланели. Мы чувствовали, как холод исходит и от самого мистера Моррисона, сжимавшего рукой в варежке небольшую стопку бабушкиной почты. Казалось, он не отдаст ее, пока бабушка не согласится передать его слова Дэну.
— А я не собираюсь больше ходить на ихние репетиции, — сказал мистер Моррисон, пошаркивая сапогами и поддергивая свою тяжелую кожаную сумку.
— Если бы вы захотели уволиться с почты, вы стали бы просить кого-то, чтобы он передал это вашему начальнику? — спросила его бабушка.
Мистер Моррисон призадумался; его длинное лицо местами посинело, а местами покраснело от холода.
— Это не такая роль, как я сперва подумал, — сказал он бабушке.
— Скажите Дэну сами, — ответила бабушка. — Я-то в этом не разбираюсь.
— Я РАЗБИРАЮСЬ, — сказал Оуэн Мини. Бабушка с сомнением поглядела на него и, прежде чем пустить на свое место у открытой двери, высунулась наружу и выхватила свою почту из неуверенных рук мистера Моррисона.
— Ты-то что в этом понимаешь? — спросил почтальон у Оуэна.
— ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ РОЛЬ, — сказал Оуэн. — ВЫ — ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРИЗРАКОВ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ СКРУДЖУ. ВЫ ПРИЗРАК БУДУЩЕГО — САМЫЙ СТРАШНЫЙ ПРИЗРАК ИЗ ВСЕХ!
— Но он ничего не говорит! — скривился мистер Моррисон. — Это же роль без слов, или как там у них это зовется!
— ХОРОШЕМУ АКТЕРУ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО РАЗГОВАРИВАТЬ, — заметил Оуэн.
— Я должен надевать этот большой черный балахон с капюшонам! — не унимался мистер Моррисон. — Никто не видит мое лицо.
— Все-таки есть на свете хоть какая-то справедливость, — шепнула бабушка мне на ухо.
— ХОРОШЕМУ АКТЕРУ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОКАЗЫВАТЬ ЛИЦО, — сказал Оуэн.
— Но должен же актер хотя бы чего-то делать! — выкрикнул почтальон.
— ВЫ ПОКАЗЫВАЕТЕ СКРУДЖУ, ЧТО ЕГО ЖДЕТ, ЕСЛИ ОН НЕ ПОВЕРИТ В РОЖДЕСТВО! — Тут уже и Оуэн перешел на крик — ВЫ ПОКАЗЫВАЕТЕ ЧЕЛОВЕКУ ЕГО СОБСТВЕННУЮ МОГИЛУ! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СТРАШНЕЕ?
— Но я ведь только показываю, и все, — продолжал ныть мистер Моррисон. — Никто бы нипочем не догадался, на что я показываю, если бы старый Скрудж не разговаривал сам с собой всю дорогу: «Если есть в этом городе хоть одна душа, которую эта смерть не оставит равнодушной, покажи мне ее, Дух, молю тебя!» Вот какие разговоры старый Скрудж ведет сам с собой! — распалялся все больше мистер Моррисон. — «Покажи мне другие, более добрые чувства, Дух, которые пробудила в людях смерть», и все такое прочее, — горько заметил почтальон. — А я только знай показывай! Мне ничего нельзя сказать, а все, что от меня видно, — это один палец! — вскрикнул мистер Моррисон, после чего снял варежку и ткнул своим длинным тощим пальцем в сторону Оуэна Мини. Тот отшатнулся от костлявой почтальонской руки.
— ЭТО БОЛЬШАЯ РОЛЬ ДЛЯ БОЛЬШОГО АКТЕРА, — упрямо утверждал он. — ВЫ ДОЛЖНЫ ОДНИМ СВОИМ ВИДОМ ВЫЗЫВАТЬ УЖАС! НИЧТО ТАК НЕ ПУГАЕТ ЧЕЛОВЕКА, КАК БУДУЩЕЕ!
В прихожей, за спиной Оуэна, уже собралась небольшая встревоженная толпа: Лидия в своем инвалидном кресле, Этель, натиравшая до блеска старый подсвечник, Джермейн, уверенная, что Оуэн с самим дьяволом на короткой ноге, — все сгрудились за спиной бабушки, которая уже достаточно пожила на свете, чтобы принять мысль Оуэна близко к сердцу. Она-то знала — ничто так не пугает человека, как будущее, — страшнее может быть только тот, кто знает это будущее.
Тут Оуэн так внезапно вскинул вверх руки, что женщины испугались и отпрянули назад.
— ВЫ ЗНАЕТЕ ВСЕ, ЧТО ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ! — закричал он на разобиженного почтальона. — ДА ЕСЛИ ВЫ ХОТЬ НА МИНУТУ КАК СЛЕДУЕТ ПРЕДСТАВИТЕ СЕБЕ, ЧТО ЗНАЕТЕ БУДУЩЕЕ — ВСЕ ДО КОНЦА, ПОНИМАЕТЕ? — ТО СМОЖЕТЕ НАПУТАТЬ ВСЕХ ТАК, ЧТО ОНИ ОБОСРУТСЯ СО СТРАХУ!
Мистер Моррисон слегка призадумался; у него во взгляде вроде бы даже промелькнул проблеск понимания, как если бы ему вдруг открылись — хотя всего лишь на мгновение — ужасающие возможности, которые таит в себе эта роль. В следующий миг глаза его заволокло паром от дыхания.
— Передайте Дэну, что я не буду играть, и все, — сказал почтальон, после чего развернулся и ушел — «без всякой театральности», как сказала потом моя бабушка. В ту минуту она, кажется, была чуть ли не очарована Оуэном Мини, хотя вообще-то не любила грубых выражений.
— Отойди-ка от двери, Оуэн, — сказала она. — Ты уделил этому болвану гораздо больше внимания, чем он заслуживает. Не хватало еще, чтобы ты простудился и умер.
— Я ПОШЕЛ ЗВОНИТЬ ДЭНУ, ПРЯМО СЕЙЧАС, — деловито заявил Оуэн, после чего направился к телефону и набрал номер. Никто из нас не ушел из прихожей, хотя, думаю, мы тогда еще не отдавали себе отчета, что уже стали зрителями Оуэна.
— АЛЛО, ДЭН? — проговорил он в трубку. — ДЭН? ЭТО ОУЭН! (Как будто его можно было с кем-нибудь спутать!) ДЭН, У МЕНЯ СРОЧНОЕ ДЕЛО! ОТ ТЕБЯ УШЕЛ ДУХ БУДУЩИХ СВЯТОК ДА, ВЕРНО, Я ИМЕЮ В ВИДУ ЭТОГО ТРУСЛИВОГО ПОЧТАРЯ, МОРРИСОНА!
— Трусливого почтаря! — восхищенно повторила бабушка.
— ДА-ДА, Я ЗНАЮ, ЧТО НЕВЕЛИКА ПОТЕРЯ, — сказал Оуэн Дэну. — НО ТЫ ЖЕ НЕ ХОЧЕШЬ ЗАСТРЯТЬ С ПЬЕСОЙ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО У ТЕБЯ ПРОПАЛ ПРИЗРАК БУДУЩЕГО?
Вот тут-то я и увидел, как оно наступает, это Будущее, — или, по крайней мере, заглянул в него одним глазком. Оуэну не удалось уговорить мистера Моррисона остаться в роли Призрака Будущего, но он убедил себя, что это важная роль — и гораздо более интересная, чем роль Малютки Тима, бесцветного паиньки. Более того, Призрак Будущего, как выяснилось, по ходу действия ничего не говорит, стало быть, Оуэну не нужно будет стесняться своего голоса — и Младенец Христос, и Дух Будущих Святок в этом смысле оказались для него сущей находкой.
— НО ТЫ НЕ ПЕРЕЖИВАЙ, ДЭН, — продолжал Оуэн. — Я ЗНАЮ КОЕ-КОГО, КТО ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ЭТОЙ РОЛИ — НУ, ЕСЛИ НЕ ИДЕАЛЬНО, ТО, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ПО-ИНОМУ.
При этих словах — ПО-ИНОМУ — бабушка вздрогнула. Впервые в жизни в ее взгляде на Оуэна промелькнуло что-то отдаленно напоминающее уважение.
Ну вот, подумал я; вот опять маленький Сын Божий берет все в свои руки. Я посмотрел на Джермейн — она закусила нижнюю губу; я знал, о чем она сейчас думает. Лидия покачивалась в своей коляске; этот телефонный разговор, казалось, погрузил ее в оцепенение, даром что она, как и все мы, слышала только половину реплик Этель держала подсвечник наперевес, словно дубинку.
— А РОЛЬ ТРЕБУЕТ ДОСТОВЕРНОСТИ, — сообщил Оуэн Дэну. — ВСЕ ДОЛЖНЫ ПОЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО ПРИЗРАК И ВПРАВДУ ЗНАЕТ БУДУЩЕЕ. КАК НИ СТРАННО, НО ДРУГАЯ РОЛЬ, КОТОРУЮ Я ИГРАЮ В ЭТО РОЖДЕСТВО… ДА-ДА, Я ИМЕЮ В ВИДУ ЭТОТ ДУРАЦКИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УТРЕННИК — ТАК ВОТ, КАК НИ СТРАННО, НО ОНА ПОДГОТОВИЛА МЕНЯ К РОЛИ ДУХА. Я ХОЧУ СКАЗАТЬ, ОБЕ ЭТИ РОЛИ ТРЕБУЮТ УМЕНИЯ УПРАВЛЯТЬ СОБЫТИЯМИ БЕЗ СЛОВ… НУ ДА, КОНЕЧНО, Я ИМЕЮ В ВИДУ СЕБЯ! — Тут наступила одна из редких пауз, когда Оуэн слушал, что говорит ему Дэн. — А КТО СКАЗАЛ, ЧТО ДУХ БУДУЩИХ СВЯТОК ДОЛЖЕН БЫТЬ БОЛЬШИМ? — возмущенно воскликнул Оуэн. — НУ ЕСТЕСТВЕННО, Я ПОМНЮ, КАКОГО РОСТА МИСТЕР ФИШ! ДЭН, ТЕБЕ НЕ ХВАТАЕТ ВООБРАЖЕНИЯ. — Снова наступила короткая пауза, после чего Оуэн сказал: — ЕСТЬ ПРОСТОЙ СПОСОБ ПРОВЕРИТЬ. ДАЙ МНЕ ПОПРОБОВАТЬ СЫГРАТЬ НА РЕПЕТИЦИИ. ЕСЛИ ВСЕ ЗАСМЕЮТСЯ — Я СДАЮСЬ. ЕСЛИ ВСЕ ИСПУГАЮТСЯ — Я ПОЛУЧАЮ РОЛЬ… ДА, ЕСТЕСТВЕННО, И МИСТЕР ФИШ ТОЖЕ. ЗАСМЕЕТСЯ — Я УХОЖУ, ИСПУГАЕТСЯ — Я ИГРАЮ.
Я мог не ждать, чем закончится подобная проба. Достаточно было посмотреть на встревоженное лицо бабушки и на позы окруживших ее женщин: застывший взгляд Лидии, побелевшие костяшки пальцев Этель, сжимавших подсвечник, дрожащая губа Джермейн — все это красноречивее любых слов говорило о том, какой ужас на них навел Оуэн Мини. Может, кто-то и мог сомневаться до ближайшей репетиции, но я и так прекрасно знал, какое впечатление Оуэн может произвести, особенно если дело касается будущего.
В тот же вечер за ужином Дэн рассказывал о победе, одержанной Оуэном: вся труппа стояла, не в силах шелохнуться, и не могла понять, что это за карлик в черном балахоне с капюшоном. И дело не в том, что они не слышали его голос или не могли разглядеть лицо; даже мистер Фиш не знал, кто скрывается в облике этого жуткого привидения.
Точно по Диккенсу: «О Смерть, Смерть, холодная, жестокая, неумолимая Смерть! Воздвигни здесь свой престол и окружи его всеми ужасами, коими ты повелеваешь, ибо здесь твои владения!»
Оуэн каким-то образом ухитрялся бесшумно, словно скользя, красться по сцене, и мистер Фиш несколько раз вздрагивал, успев потерять его из виду. Когда Оуэн показывал на что-то пальцем, это происходило внезапно для всех — его крошечная белая рука резко, с судорожной дрожью выныривала из складок развевающегося черного балахона. Он то медленно и плавно скользил, как фигурист по льду, то молниеносно переносился с места на место с беззвучным и отталкивающим проворством нетопыря.
Остановившись у могилы Скруджа, мистер Фиш сказал:
— «Прежде чем я ступлю последний шаг к этой могильной плите, на которую ты указуешь, ответь мне на один вопрос, Дух. Предстали ли мне тени того, что будет, или тени того, что может быть?»
Похоже, никогда прежде этот вопрос не привлекал такого внимания всей труппы; даже мистер Фиш, казалось, готов был полжизни отдать, чтобы получить ответ. Однако миниатюрный Дух Будущих Святок оставался неумолим; холодная бесстрастность, с какой крошечное привидение отнеслось к мольбе Скруджа, заставила поежиться даже Дэна Нидэма.
Именно тут мистер Фиш приблизился к надгробию настолько близко, что прочитал на ней свое имя.
— Эбинизер Скрудж… Так это был я?! — возопил мистер Фиш, падая на колени и цепляясь за подол призрака. И вот с этой-то точки — его голова только слегка возвышалась над головой Оуэна Мини — он впервые как следует увидел отвернувшееся от него лицо под капюшоном. Мистер Фиш не засмеялся; он закричал.
По сценарию он должен был заговорить: «Нет, нет, Дух! О нет! Дух, выслушай меня! Я уже не тот человек, каким был…» — и так далее. Но мистер Фиш смог только вскрикнуть. Он так резко отдернул руки от черного одеяния Оуэна, что с головы призрака свалился капюшон, открыв его лицо остальным актерам, — и кое-кто тоже не удержался от крика; ни один и не подумал засмеяться.
— Как вспомню об этом, так сразу волосы дыбом! — признался нам Дэн за ужином.
— Ничего удивительного, — заметила бабушка.
После ужина к нам зашел несколько подавленный мистер Фиш.
— Ну вот, теперь у нас есть по крайней мере один хороший призрак, — сказал мистер Фиш. — Это здорово облегчает мне работу, — рассуждал он. — Мальчуган очень впечатляет, очень. Было бы интересно посмотреть, как его воспримут зрители.
— Мы это уже сегодня видели, — напомнил ему Дэн.
— Ну да, конечно, — поспешно согласился мистер Фиш. Казалось, он чем-то встревожен.
— Мне кто-то говорил, что дочка мистера Эрли описалась, — поделился с нами Дэн.
— Ничего удивительного, — отозвалась бабушка.
Джермейн, которая уже чуть ли не полчаса уносила из столовой одну-единственную чайную ложку, казалось, тоже вот-вот описается.
— Может быть, вам бы стоило попридержать его слегка, а? — предложил Дэну мистер Фиш.
— Попридержать? — не понял Дэн.
— Ну, как-нибудь подсказать, чтобы он не так сильно старался… делать то, что он делает, — пояснил мистер Фиш.
— Я не совсем уверен, что понимаю, что именно он делает, — сказал Дэн.
— Вот и я тоже, — пожал плечами мистер Фиш. — Просто все это как-то так… тревожно.
— Наверное, те, кто сидит немножко подальше — в зрительном зале, я имею в виду, — наверное, они не будут так сильно… расстраиваться, — предположил Дэн.
— Вы так считаете? — спросил мистер Фиш.
— По правде сказать, нет, — признался Дэн.
— А что, если бы мы показали его лицо — в самом начале? — предложил мистер Фиш.
— Если вы не стащите с него капюшон, мы вовсе не станем показывать его лица, — заметил ему Дэн. — Я думаю, так будет лучше.
— Да, гораздо лучше, — согласился мистер Фиш.
Мистер Мини высадил Оуэна у дома 80 на Центральной и отпустил его ночевать к нам. Мистер Мини знал, что бабушка терпеть не может, когда его грузовик грохочет по нашей подъездной аллее, и потому мы даже не слышали, как он подъехал, — Оуэн вылез из кабины еще на улице.
Это здорово смахивало на волшебство — так точно все совпало по времени. Мистер Фиш уже пожелал нам спокойной ночи и открыл дверь, чтобы уйти, а Оуэн тем временем тянулся рукой к дверному звонку. Бабушка в эту самую секунду включила лампочку на крыльце, и Оуэн сощурился от яркого света; его маленькое лицо с острыми чертами в упор уставилось на мистера Фиша из-под охотничьей кепки в красно-черную клетку — он сейчас чем-то смахивал на опоссума, выхваченного из темноты лучом карманного фонарика. На его щеке, пострадавшей от бринкер-смитовской прыгучей кровати, красовался желтоватый, с отливом в тусклое серебро синяк, напоминающий трупное пятно. Мистер Фиш тут же отскочил назад, в прихожую.
— Легок на помине, — улыбнулся Дэн.
Оуэн улыбнулся в ответ и обвел всех нас радостным взглядом.
— ДУМАЮ, ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ — Я ПОЛУЧИЛ РОЛЬ! — объявил он мне и бабушке.
— Ничего удивительного, Оуэн, — ответила бабушка. — Заходи.
Она придержала для Оуэна дверь, а потом даже удостоила его изящным реверансом — несколько дурашливым, но благодаря природной царственности Харриет Уилрайт любой ее неподобающий жест неизменно выглядел уместным и полным особого смысла: в данном случае — шаловливости и сарказма.
От Оуэна Мини не укрылась ирония в бабушкином голосе; и все же он расплылся в улыбке и ответил на ее реверанс исполненным достоинства поклоном, слегка приподняв свою охотничью кепку в красно-черную клетку. Оуэн знал, что для него настала минута торжества. Знала это и моя бабушка. Да-да, даже Харриет Уилрайт, со всем ее «мэйфлауэровским» пренебрежением ко всем Мини на свете, — даже моя бабушка знала: в этой Гранитной Мыши есть что-то такое, что невидимо простому глазу.
Мистер Фиш — возможно, чтобы успокоиться — стал мурлыкать мелодию всем известного рождественского гимна. Слова его знал даже Дэн Нидэм. Оуэн отряхнул с сапог снег — Младенец Христос вошел в наш дом, — а Дэн то ли напевал, то ли просто бормотал себе под нос припев, который мы все так хорошо знали: «Вести ангельской внемли: Царь родился всей земли!»
5. Призрак Будущего
Вот так Оуэн Мини перекроил Рождество на свой лад. Не дождавшись давно желанной поездки в Сойер, он отхватил себе обе центральные, хотя и «без речей», роли в обеих театральных постановках, шедших в Грейвсенде в те рождественские каникулы. Сыграв Младенца Христа и Духа Будущих Святок, Оуэн утвердился во всеобщем сознании пророком — полный дурных предчувствий, он словно что-то знал о нашем будущем. Однажды он якобы заглянул в будущее моей мамы; он даже стал орудием, осуществившим это мамино будущее. Мне было любопытно: что, он знает о будущем Дэна или моей бабушки? И о будущем Хестер, и о моем будущем, и о своем, наконец?
Бог откроет мне, кто мой отец, заверил меня Оуэн Мини. Но пока что Бог хранил полное молчание.
Зато уж кто не молчал, так это Оуэн. Он уговорил нас с Дэном отдать ему манекен; он поставил этого маминого двойника, при одном взгляде на которого разрывалось сердце, у своей кровати — охранять его сон, чтобы быть его ангелом. Оуэн нашел нужные слова, чтобы его перестали подвешивать и уложили в ясли; он сделал меня Иосифом, выбрал мне Марию, превратил «голубей» в «волов»… Поменяв все, что можно, в рождественском сценарии, он на этом не успокоился и принялся за новое толкование Диккенса — ведь даже Дэну пришлось признать, что Оуэн что-то изменил в «Рождественской песни». Безмолвный Дух Будущих Святок в предпоследней сцене начисто задвинул Скруджа на второй план.
Даже «Грейвсендский вестник» отказался признать Скруджа главным героем пьесы. То, что ведущую роль исполнял мистер Фиш, кажется, совершенно ускользнуло от обозревателя нашей местной газеты, который написал следующее: «Классическая рождественская сказка, великолепие которой слегка потускнело — по крайней мере, в глазах вашего обозревателя — от ежегодного повторения, в этом году засверкала новыми красками». И далее: «Банальный сюжетный ход с привидениями оживляется блестящей игрой маленького Оуэна Мини — ростом не больше Малютки Тима, он тем не менее буквально доминирует на сцене; на фоне крошечного Мини остальные актеры кажутся ничтожными карликами. Режиссеру Дэну Нидэму стоило бы подумать о том, чтобы в следующем году предложить своей миниатюрной звезде роль самого Скруджа».
Там не было ни слова о Скрудже образца нынешнего года, и мистера Фиша здорово обидело такое пренебрежение. Оуэн же просто вскипал от любой критики.
— ПОЧЕМУ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО НАЗЫВАТЬ МЕНЯ «МАЛЕНЬКИМ», «КРОШЕЧНЫМ», «МИНИАТЮРНЫМ»? — вне себя от ярости кричал он. — ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ПОДОШЛИ С ТАКИМИ ЖЕ МЕРКАМИ К ДРУГИМ АКТЕРАМ?
— Ты забыл еще «ростом не больше Малютки Тима», — сказал я.
— ЗНАЮ, ЗНАЮ, — не унимался он. — ПОЧЕМУ БЫ НЕ СКАЗАТЬ: «БЫВШИЙ СОБАЧИЙ ХОЗЯИН ФИШ ПРЕВОСХОДНО ВОПЛОТИЛ ОБРАЗ СКРУДЖА»? ПОЧЕМУ НЕ НАПИСАТЬ: «ЗЛОБНАЯ МЕГЕРА ХОДДЛ ИЗ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ ОЧАРОВАТЕЛЬНО ИСПОЛНИЛА РОЛЬ МАМЫ МАЛЮТКИ ТИМА»?
— Тебя ведь назвали звездой, — напомнил я ему.— Написали про твою «блестящую игру» и что ты «доминируешь на сцене».
— МЕНЯ НАЗВАЛИ «МАЛЕНЬКИМ»! МЕНЯ ОБОЗВАЛИ «КРОШЕЧНЫМ»! «МИНИАТЮРНЫМ»! - кричал он.
— Хорошо еще, что это роль «без речей», — заметил я.
— ОЧЕНЬ СМЕШНО, — огрызнулся Оуэн.
Дэна отзывы местных газет на его постановку не волновали. Его куда больше беспокоило, как бы сам Чарлз Диккенс отнесся к роли Оуэна Мини. Дэн был уверен, что неодобрительно.
— Что-то тут не так, — говорил он. — Маленькие дети пускаются в рев — их приходится выводить из зала раньше, чем наступает счастливый конец. Нам приходится предупреждать у входа родителей с маленькими детьми. Это уже получается не совсем для семейного просмотра, как было задумано. Дети уходят из театра перепуганные, будто посмотрели «Дракулу»!
Вскоре, однако, Дэн не без облегчения заметил, что Оуэн вот-вот разболеется. Он вообще легко простужался, а сейчас, репетируя днем рождественский утренник, а по вечерам играя Духа Будущих Святок, все время переутомлялся. Иногда Оуэн так уставал, что засыпал днем в бабушкином доме. Как-то он отрубился прямо на коврике под большим диваном в нашей «каморке», а в другой раз — на куче диванных подушек, с которой он стрелял из игрушечной пушки по моим оловянным солдатикам. Я вышел на кухню принести нам какого-нибудь печенья, а когда вернулся в «каморку», Оуэн уже спал как убитый. «Он становится похож на Лидию», — заметила бабушка. И правда, Лидия днем тоже постоянно клевала носом; она могла отключиться в своей каталке в любую минуту, где бы ее ни оставила Джермейн, — иногда даже задвинутая лицом в угол. Для бабушки это было еще одним признаком того, что Лидия стареет быстрее нее.
Заметив у Оуэна первые признаки простуды — он начал часто чихать и кашлять, и у него потекло из носа, — Дэн Нидэм решил, что постановка «Рождественской песни» от этого только выиграет. Нет, Дэн вовсе не хотел, чтобы Оуэн всерьез разболелся. Достаточно покашливания, чихания, или даже сморкания: услышав из-под темного капюшона такие сугубо человеческие звуки, зрители непременно расслабятся. А если Оуэн пару раз чихнет или хлюпнет носом, может, это даже вызовет смешок-другой, — Дэн уверял, что вовсе не обидится, если в зале кто-то хихикнет.
— Зато может обидеться Оуэн, — возразил я. — Ему, по-моему, не понравится, если в зале засмеются, пусть даже совсем чуть-чуть.
— Да я и не собираюсь сделать Духа Будущих Святок комическим персонажем, — втолковывал мне Дэн. — Я просто хотел придать ему что-то человеческое.
Тут, по мнению Дэна, и заключалась главная беда: под одеждой Духа не угадывался человек. Ростом с маленького ребенка, это существо двигалось по-взрослому; а его власть над сценическим пространством казалась и вовсе сверхъестественной.
— Ты только представь себе, — сказал Дэн. — Призрак, который чихает, кашляет и сморкается, — согласись, это уже не так страшно?
Но как быть с чихающим, кашляющим и сморкающимся Младенцем Христом? — думал я. Если Виггины так настаивали, чтобы маленький Иисус не плакал, что они скажут о простуженном Сыне Божьем?
В то Рождество болели все. Не успел Дэн отойти от бронхита, как у него начался конъюнктивит. Лидия кашляла с такой силой, что ее инвалидная коляска иногда сама собой откатывалась назад. Когда закхекал и захлюпал носом мистер Эрли, игравший Призрака Марли, Дэн пошутил, что если каждый из призраков чем-то заболеет, то это придаст всей пьесе невиданную гармонию. Мистер Фиш, у которого было больше всех слов, берегся как мог, так что Скрудж иногда отшатывался от Призрака Марли даже сильнее, чем того требовал сценарий.
Бабушка вздыхала, что не может выйти на улицу, и жаловалась на гололед. Простуда ее не пугала, а вот упасть на льду бабушка страшно боялась. «В моем возрасте, — объясняла мне она, — достаточно раз упасть, чтобы сломать бедро, — а потом будешь долго и медленно умирать от воспаления легких». Лидия кашляла и кивала, кивала и кашляла, как заведенная, но ни она, ни бабушка не пожелали поделиться со мной своей стариковской мудростью и объяснить, с какой стати перелом бедра должен привести к воспалению легких, не говоря уже о «долгой и медленной» смерти.
— Но ты ведь должна посмотреть на Оуэна в «Рождественской песни»! — настаивал я.
— Я и так достаточно часто его вижу, — ответила бабушка.
— Мистер Фиш тоже хорошо играет, — продолжал я ее уговаривать.
— А я и мистера Фиша тоже часто вижу, — заметила бабушка.
Восторженная статья в «Грейвсендском вестнике», приведшая Оуэна Мини в такую ярость, кажется, надолго погрузила мистера Фиша в молчаливо-подавленное состояние. Заходя к нам после ужина, он часто и протяжно вздыхал и ничего не говорил. Что же касается нашего мрачного почтальона, мистера Моррисона,то невозможно описать, какие страдания ему приносила молва об успехе Оуэна. Он сгибался под тяжестью своей кожаной сумки так, будто нес на плечах бремя гораздо более тяжкое, чем обычный для Рождества дополнительный груз открыток. И то сказать, каково было мистеру Моррисону разносить весь тираж «Грейвсендского вестника», где его бывшую роль называют «не просто ключевой, но ведущей», а Оуэна Мини осыпают такими похвалами, о которых сам Моррисон и мечтать не мог?






