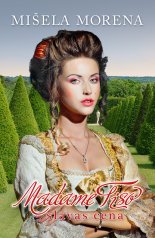Завтрак у Sotheby’s. Мир искусства от А до Я Хук Филип
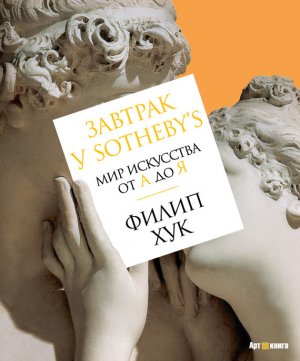
Railways
Железные дороги
Полагаю, виды железных дорог хорошо продаются. Зрители любят поезда. В их глазах запечатленный на полотне поезд – свидетельство технического прогресса, уже ушедшего в прошлое, но по-прежнему восхитительного. Железнодорожные и трамвайные рельсы в городской черте – символ разумного, бесперебойно функционирующего урбанистического устройства жизни; в сельской местности они сделались частью пейзажа и словно прочерчивают в ландшафте с геометрической точностью упоительно правильные линии. На поезде или на трамвае вы совершенно точно доберетесь куда угодно, ведь они ходят по расписанию, а в качестве метафоры будущего успокаивают и вселяют уверенность. Однако не всегда было так. Изобретение поезда чрезвычайно расстроило Делакруа, который в 1856 году писал:
«Скоро мы и шагу не сможем ступить, не наткнувшись на это бесовское изобретение, паровоз. Поля и горы распашут, чтобы проложить рельсы: мы будем летать туда-сюда, как птицы по воздуху, едва успев на лету кивнуть друг другу. Мы уже не будем путешествовать ради того, чтобы увидеть прекрасные новые страны и местности, но лишь для того, чтобы достичь одного пункта назначения и тотчас отправиться в другой. Люди начнут ездить с парижской фондовой биржи на петербургскую, ибо предпринимательство заявит свои права на всякого, едва только урожай перестанут собирать вручную, а земля – нуждаться в тщательном, любовном уходе и присмотре. Жажда обогащения, в конечном счете не приносящая блаженства, скоро превратит всех нас в биржевых маклеров».
Железнодорожная революция середины XIX века имела исключительное значение. Время путешествия из одного географического пункта в другой небывалым образом сократилось, а вместе с ним сжался и уменьшился мир. Облик пейзажей меняли железнодорожные пути, туннели и мосты, по которым неумолимо распространялись рельсы, опутывая всю страну. Однако эти невероятные технические новшества неизбежно оказывали на людей психологическое давление, которого они не знали прежде. Делакруа высказывает озабоченность, разделявшуюся большинством его современников. Опасения по поводу того, что самая скорость нового средства передвижения будет иметь серьезные последствия для окружающей среды, общества и экономики, оказались весьма и весьма проницательными. Нельзя вернуться в век невинности, когда люди лишь пахали и сеяли: будущее, в котором можно будет бездумно, с легкостью разъезжать по свету, представлялось Делакруа раем биржевых маклеров. Однако он не мог вообразить (да это было и в принципе невозможно) затронувшее самые разные сферы воздействие железных дорог на искусство.
Одним из первых и наиболее значимых художественных откликов на появление нового средства передвижения стала картина Тёрнера «Дождь, пар и скорость – Большая Западная железная дорога», выставленная в Королевской академии в 1844 году. Описывать ее всего лишь как изображение поезда, переезжающего через мост Мейденхед-бридж под проливным дождем, означает не воздать должное гению художника, ведь Тёрнеру удалось чудесно воплотить на холсте силу пара – стихию, торжествующую над расстоянием и ненастьем. Импрессионистам, которые видели в поездах сюжет, вполне соответствующий их стремлению писать современную жизнь, ни разу не случилось добиться столь совершенной гармонии воздуха, неба и движения. Фоном для знаменитых картин Моне на этот сюжет служит вокзал Сен-Лазар, в депо которого поезда по большей части стоят, а значит, живописец может сосредоточиться на близких к абстрактным эффектах клубящегося на картине пара. Писсарро и Ван Гог пишут пейзажи с поездами, петляющими по холмам и долинам, однако паровозы для них – скорее неотъемлемая принадлежность современной жизни, нежели ее двигатель.
Драма на вокзале: печальная гувернантка отправляется к первому месту службы (Фрэнк Холл. Огромный, огромный мир. Холст, масло. 1873)
Впрочем, железные дороги и поезда в XIX веке добились признания, сделавшись декорациями жанровых и сюжетно-тематических картин. Джулиан Тройхерц различает два типа железнодорожных сюжетов: первый разворачивается на платформе, второй – в купе поезда. Платформа становится местом прощаний: отсюда эмигранты отправляются в Ливерпуль, чтобы уже из Ливерпуля отплыть в Америку, здесь убитые горем гувернантки в слезах обнимают своих разорившихся близких, отсюда родители, держащиеся холодно и чопорно, впервые посылают своих маленьких сыновей в закрытые частные школы. Классическим образцом подобной картины может служить «Вокзал» Уильяма Пауэлла Фрита (1862): на платформе вокзала Паддингтон, за считаные минуты до отправления поезда, разыгрываются всевозможные драмы. Вот иностранец торгуется с жадным кебменом, вот невеста нашептывает на ушко провожающим ее подружкам последние секреты, вот детективы арестовывают преступника, пытавшегося сесть в поезд, вот проливаются слезы, вот отъезжающих заключают в объятия друзья и близкие. Здесь представлены все человеческие типы. Неудивительно, что «Вокзал» стал одной из наиболее популярных и коммерчески успешных викторианских картин: в оригинале, на выставках в Лондоне и во время выставочного турне по Англии ее видели бесчисленные зрители, а затем многие и многие купили ее гравированные репродукции.
С другой стороны, купе поезда являло закрытое, личное пространство, где могли проявляться более интимные человеческие чувства. Купе превращается в инструмент исследования классовых различий: это нужно понимать буквально, так как визуальные драмы, разыгрывавшиеся в первом классе, существенно отличались от тех, что сотрясали третий. В первом классе молодые люди и барышни флиртуют, воспользовавшись тем, что строгие дуэньи и наперсницы заснули в мягких креслах с изысканной обивкой, закутавшись в пышные шубы и роскошные дорожные пледы. В третьем классе оснований для веселья было куда меньше; разлука и страдания в среде низших классов здесь часто изображались на фоне голых деревянных скамей и открытых окон, в которые врывался ветер с дождем.
Соблазнительные красавицы и подвижной состав (Поль Дельво. Синий поезд. Дерево, масло. 1946)
Железнодорожный бум XIX века имел социальные последствия, повлиявшие на искусство и художников косвенно, не напрямую. Гигантские состояния, внезапно нажитые на строительстве железных дорог, впервые позволили разбогатевшим промышленникам и их семьям тратить деньги на предметы искусства. Соответственно, художники все чаще стали писать, угождая буржуазному, сугубо коммерческому вкусу. Американские железнодорожные магнаты откликались на живопись импрессионистов. Нувориши любили новое французское искусство. Например, семья Мэри Кассатт сделала состояние на строительстве железных дорог, а она убеждала близких покупать картины ее коллег – парижских импрессионистов. Полагаю, что железные дороги оказали воздействие на пейзажную живопись еще и потому, что открыли городским художникам сельскую местность; до пригородов можно было быстро добраться из Лондона или Парижа и к ночи приехать домой. Отныне они могли отправиться в Аржантейль или другие живописные местечки на Сене утром и вернуться в город вечером. В Англии художники по той же причине стали все чаще выставлять в Королевской академии пейзажи графства Суррей: до него можно было быстро доехать из Лондона с обратным билетом на тот же день. Может быть, пейзажисты стали писать быстрее, боясь опоздать на поезд, и тем самым невольно способствовали распространению живописной техники импрессионизма?
Положительное эстетическое воздействие самих железных дорог на ландшафт отмечалось почти сразу после их появления, например в 1859 году французским критиком Шанфлери:
«Облокотившись на перила моста, я с удовольствием созерцаю великолепные стальные рельсы, без паровозов просто завораживающие взор. Покатые песчаные откосы, сбегающие к колее меж зеленых полей, голубое небо, железнодорожные переезды, плавные изгибы путей, – разве все это не картины, только и ждущие пейзажиста новой школы? Промышленность в союзе с природой таит в себе некую поэзию, главное – увидеть ее и ощутить вдохновение».
В начале ХХ века образ поезда в творчестве художников, особенно авангардистов, насыщается множеством сложных смыслов. Для живописцев он превращается в эмблему машинной эпохи и символ современности. Мотив поезда, включенный в картину классического модернизма, положительно сказывается на перспективе ее продажи. Динамичность поездов и развиваемая ими скорость особенно восхищали итальянских футуристов. Маринетти, на которого всегда можно рассчитывать, если ищешь хорошую цитату, призывал художников воспеть «вокзалы, жадно пожирающие змеев… Широкогрудые локомотивы, храпящие на рельсах, словно гигантские стальные кони…».
Измученному сознанию модерниста в начале ХХ века неотвратимость железнодорожного пути, которая меня успокаивает, стала казаться чем-то пугающе сродни предопределению. Сев в поезд, пассажир не в силах прервать свое путешествие по заранее намеченному маршруту в заранее намеченный пункт назначения, и это обстоятельство стало вселять в художников не уверенность, а страх. Тревожное чувство отныне вызывали и вокзалы, неизбежно ассоциирующиеся с расставанием. Одна из величайших метафизических картин Де Кирико, написанная в 1914 году, носит название «Вокзал Монпарнас (Меланхолия отправления)». Де Кирико представляет некое промежуточное звено между футуристами и сюрреалистами, в творчестве которых тоже постоянно появляется «железнодорожная» тема. Иногда к этому мотиву прибегает Магритт, но главную роль он играет в работах Дельво, увлеченного поездами до безумия и собиравшего железнодорожные сувениры. Дельво был до безумия увлечен не только поездами, и потому с подвижным составом на его картинах удивительным образом соседствуют соблазнительные обнаженные модели.
Не будь на его картинах поездов, Дельво продавался бы хуже. Не стану останавливаться на этом подробно, но «железнодорожная» живопись пользуется спросом. Возможно, большинство из нас в душе готовы самозабвенно, по-детски, бесконечно разглядывать поезда.
Rain
Дождь
Погода на картине весьма и весьма влияет на перспективы ее продажи. Голубое безоблачное небо, как нетрудно догадаться, будет пользоваться бльшим спросом, нежели дождь или ураган [см. выше раздел «Импрессионизм»]. Наводнения удручают. Впрочем, не стоит полагать, будто ненастье всегда плохо продается: неизменно найдут покупателя и снег кисти Моне или Сислея, и голландские пейзажи XVII века с замерзшими озерами и катающимися на коньках, то есть все, что можно воспроизвести в качестве репродукции на рождественской открытке. Романтики принципиально восхищались неистовством и мраком бури, ливня или урагана, наводящим на мысли о конце света, и изображали их как волнующее проявление могущественных стихий. На мольберте Тёрнера или Каспара Давида Фридриха дождь и в самом деле обретает коммерческую привлекательность.
Конец XIX века отмечен периодом, когда живописцы неутомимо, очарованно пишут и пишут дождь. Появилась мода на пейзажи, в которых либо только что прошел, либо идет, либо собирается дождь, причем сильный. Проселочные дороги развезло, пасмурное небо хмурится, ветер тщится вырвать у персонажей зонтики; потоки дождя обрушиваются на набережную корнуолльского Пензанса, небеса потемнели в Бретани, жены голландских рыбаков, стоя на дюнах, с тревогой вглядываются в набухшие водой тучи и беспокойное море, ожидая возвращения мужей. От побережья Балтийского моря до болот Дахау немецкие пейзажисты таились по домам, пока прогноз погоды не предвещал дождь. И только тогда они решались выйти на улицу с мольбертами и зонтиками, дабы запечатлеть модный природный «эффект».
«Вы никогда не напишете ничего стящего, пока не простудитесь на пленэре», – заявлял Норман Гарстин в девяностые годы XIX века. Гарстин был представителем ньюлинской школы – объединения художников-реалистов, творивших на побережье Корнуолла. А что же более достоверно передает природу, чем дождь? Реалисты не уставали изображать ее малопривлекательные стороны, чтобы легитимизировать свой способ видения и одновременно противопоставить его склонности академических живописцев приукрашивать, подгонять под классические образцы и всячески облагораживать изображаемый мир. Ньюлинская школа имела отчетливые черты натуралистического, так сказать рутинно-бытового пейзажа. А работая на пленэре, даже под дождем, даже в ненастье, живописец бросал вызов природе и проявлял мужество и стойкость. «Просвещенные проникаются эстетическим чувством, – писал Оскар Уайльд в 1891 году, – непросвещенным кажется, что они простудились»[39].
Невзирая на героические усилия этих пейзажистов XIX века – можно именовать их плювиалистами[40], – дождь по-прежнему остается своего рода коммерческим риском. Однако здесь наличествуют смягчающие обсоятельства. Одно из них – возмещающие психологический ущерб зонтики. Художники давно осознали декоративный потенциал зонтика от солнца, теперь они стали оживлять зонтиками и пейзажи, на которых идет дождь. Дождливые виды парижских улиц Кайботта, на которых бльшую часть композиции занимают зонтики, с одной стороны, можно интерпретировать как иллюстрацию отчуждения, одиночества, испытываемого жителем крупного города, и ощущения потерянности, неизбежно возникающего у бредущего под дождем прохожего, а с другой стороны, как повод ввести в композицию геометрические мотивы, восхитительные в своей декоративности. Подобному искушению иногда уступал и Ренуар. В целом зонтики положительно влияют на динамику продаж.
Дождь имеет и другую положительную сторону, особенно в глазах тех современных коллекционеров, которые предпочитают природу в ее уютном варианте. Разве не удовольствие – созерцать дождь и метель из окна, сидя дома, в тепле, под защитой прочных стен? Даже популярный викторианский художник Бенджамин Уильямс Лидер, пейзажист старой школы, полагавший, что достовернее всего природу изображают слащавые, сентиментальные виды, не простудился, работая над знаменитой картиной «Февраль-водолей». Затопленную сельскую дорогу и унылые мокрые деревья он писал не на пленэре, спасаясь от дождя, а в мастерской, пользуясь имеющимися зарисовками. Мой коллега Иэн Кеннеди охарактеризовал эту картину как «типичный образец посредственного академического романтизма»:
«Жалкая, убогая, насквозь промокшая деревня. Рядом совсем развезло от дождя дорогу. Так и хочется приглядеться повнимательнее к этой грязи, вдруг заметишь увязший в ней крестьянский башмак. „Февралем-водолеем“ можно наслаждаться в уюте теплого жилища; оказаться в изображенной местности вряд ли кому-нибудь захочется. Глядеть на него – словно стоять у окна и смотреть на низвергающиеся с неба потоки дождевой воды».
Опасения, вызываемые дождливыми пейзажами у коллекционеров, отражает апокрифическая история о том, как Георг VI посетил выставку Джона Пайпера. Среди прочего был показан ряд тонких и проникновенных видов Англии, в том числе изображавших хмурые небеса и ливни. Тщась сказать что-нибудь умное по поводу увиденного, король грустно заметил: «По-моему, вам очень не повезло с погодой, мистер Пайпер».
Sport
Спорт
Где-то глубоко-глубоко в душе британца по-прежнему таится убеждение, что лишь искусство, изображающее спорт, достойно уважения. Картины, бесстрастно и основательно запечатлевшие сцены национальных развлечений: спортивной охоты на зверя и дичь, ужения рыбы, скачек, – покупать безопаснее, чем те, что вторгаются в рискованную область человеческих эмоций и страстей. Уж лучше потратить деньги на портрет вашего любимого гунтера, нежели на портрет жены или любовницы. В результате сложилась определенная иерархия популярности изображаемых лошадей, существующая и до сих пор: наибольшим спросом пользуются скаковые лошади, за ними следуют гунтеры и замыкают список ломовые и тягловые крестьянские лошади. Важна и масть: серые кони чаще всего не столь любимы, как рыжие и гнедые. Особенно популярны арабские жеребцы, не в последнюю очередь потому, что находят покупателей на богатом ближневосточном рынке.
Абсолютно точное, сухое воспроизведение спортивного состязания (Альберт Шевалье Тейлер. Кент против Ланкашира, Кентерберийская крикетная неделя. Холст, масло. 1906)
Подобной непреходящей любовью пользуются и картины, которые тщательно, с вниманием к мельчайшим деталям, достойным зоолога или орнитолога, изображают оленей, вепрей, лис, куропаток, фазанов, бекасов, рябчиков, уток, шотландских тетеревов, вальдшнепов. Такая живопись представляет собою старинный вариант трофея, вроде охотничьего кубка: на полотне запечатлена убитая вами дичь. Можно ли было считать почти абстрактную скульптуру Бранкузи «Птица в пространстве» произведением искусства? Этот вопрос обсуждался в ходе знаменитого судебного разбирательства 1928 года [см. главу V «Налогообложение»]. Судья-американец пребывал в растерянности. «Если бы вы увидели такое существо в лесу, то явно не стали бы в него стрелять», – предположил он, словно этот вердикт разрешал все сомнения.
К концу XIX века художникам стали заказывать все более разнообразные спортивные сцены. Игроки в крикет сделались элементом английского пейзажа еще в XVIII веке. Другим спортивным сюжетом, пользовавшимся неизменным спросом, были боксерские поединки: профессиональный бокс пользовался огромной популярностью, ставки на боксерских боях были сопоставимы со ставками на скачках, а сами профессиональные боксеры с их гармоничным, атлетическим сложением часто позировали ведущим художникам начала XIX века. «Теннисные» сюжеты вошли в арсенал жанровой живописи, запечатлевшей быт высших и средних классов. Викторианские жанровые сцены представляют собой бесчисленные теннисные сеты на приходских лужайках. Однако первое, весьма и весьма драматическое столкновение тенниса и искусства произошло значительно раньше: многие художники играли в теннис, чая отдохновения от творческих трудов, но печально знаменитым среди них был Караваджо, отличавшийся вспыльчивостью и буйным нравом. В 1606 году в Риме он повздорил со своим противником по корту и ударил его кинжалом, вследствие чего ему пришлось бежать в Неаполь, а это, в свою очередь, оказало продолжительное воздействие на историю искусства.
Во второй половине XIX века, по мере того как росла популярность гольфа, художники стали изображать эту игру все чаще. Однако картин на этот сюжет в целом сохранилось не так много. Современных арт-дилеров это очень удручает, поскольку популярность гольфа в состоятельных кругах высока и в желающих приобрести подобные работы нет недостатка. Известны случаи, когда беспринципные антиквары несколькими мазками превращали вязанку хвороста на спине у крестьянина в клюшки для гольфа, а его самого – в одного из первых кадди.
Модернизм «спортивный» (Уильям Робертс. Боксеры. Карандаш, перо, чернила. 1914)
Футбольные и регбийные сцены живописцы XIX века трактовали сухо, точно и туповато. Однако постепенно область «спортивного» искусства стал осваивать модернизм. Иногда этот сюжет привлекал футуристов с их интересом к изменчивости и динамизму современного общества. Например, Боччони в 1913 году написал любопытного «Футболиста» (ныне находящегося в музее МоМА в Нью-Йорке). Рисунки и картины Джорджа Беллоу, изображающие боксерские поединки, – в числе наиболее ярких спортивных образов ХХ столетия. Все эти произведения искусства очень и очень дороги. Однако, учитывая роль спорта в современной жизни, он вдохновил на создание крайне небольшого числа великих картин и скульптур. Существует множество полотен и графических работ, важных как память о том или ином спортивном соревновании, но лишь малую толику из них можно отнести к эстетически значимым произведениям искусства. «Спортивная» живопись и скульптура – одна из тех категорий, в которых несостоявшиеся шедевры перечислить проще, чем наличествующие: «Игроки в крикет» Уиндема Льюиса, «Вратарь» Генри Мура, «Человек, забивший гол» Джакометти.
Still Life
Натюрморт
Цена традиционного натюрморта зависит от того, какие цветы, плоды, предметы он изображает. Цветы всегда приветствуются, фрукты чаще всего ценятся выше, чем овощи, а битая дичь почти всегда вызывает возражения, особенно если на ней заметны капли крови. Работая в отделе старых мастеров аукционного дома «Кристи», я однажды оптимистично внес в каталог натюрморт, запечатлевший убранство кладовой, под названием «Овощи на полке со спящим кроликом», но никого не обманул: кролик был совершенно очевидно мертв, а картина ушла по стартовой цене. Так называемые натюрморты поджанра ванитас, предназначенные напоминать созерцателю о том, что и он смертен, лучше не принимать к торгам, если череп размещен на переднем плане и слишком уж явно бросается в глаза.
Красноречивый облик бамаков Ван Гога (Винсент Ван Гог. Пара башмаков. Холст, масло. 1886–1887)
Знаменитые голландские натюрморты XVII–XVIII веков пользуются на рынке неизменной популярностью, одновременно сводя с ума несчастных авторов каталогов, гадающих, как правильно идентифицировать изображенные цветы. Если вы верно определили один, то можете выкрутиться, написав: «Розы и другие цветы в вазе»; это частая уловка. Модернизм изменил приоритеты. Подсолнухи стали хорошо продаваться, с тех пор как ими серьезно занялся Ван Гог. Отныне они, включаемые в любой цветочный натюрморт, придают ему оттенок модернистской серьезности, а заодно и вселяют оптимизм, свойственный самому цветку. Даже репейник можно наделить привлекательностью, весьма уместно он выглядит в руках персонажа, одержимого экзистенциальным страхом (я имею в виду Эгона Шиле).
Другие популярные детали натюрморта – музыкальные инструменты и книги. Я особенно люблю те тонкие и проникновенные портреты, на которых нет изображенного, а его место занимает натюрморт, составленный из любимых предметов, может быть со скрипкой или томиком Китса. Даже башмаки «отсутствующего на полотне», например, если их с пронзительной остротой написал, предположим, Ван Гог, могут восприниматься как автопортрет. Человек – это не только его лицо.
Surrealism
Сюрреализм
Сюрреализм – это мистицизм для материалистов. Он весьма и весьма моден и никогда не утрачивал популярности, он привлекателен в глазах тех, кто ценит психоделический бэкграунд его безумных сновидений и на первый взгляд дерзкую, но, в сущности, безобидную анархию, создаваемую характерным для него отрицанием логики. Тем самым на элементарном уровне сюрреалистская живопись сводится к незамысловатому образу курительной трубки Магритта с надписью: «Ceci n’est pas une pipe»[41]. Или к другой картине этого цикла, изображению все той же трубки с надписью: «Ceci continue de ne pas tre une pipe»[42]. Идеальным воплощением сюрреалистского парадокса стало бы полотно Магритта с начертанными на нем словами: «Ceci n’est pas un oeuvre authentique de Magritte»[43] – и с удостоверением подлинности, выведенным рукою мастера на обороте. Однако, насколько мне известно, он до этого не додумался.
ХХ век можно считать веком сновидений: его начало было ознаменовано исследованиями подсознательного, предпринятыми Фрейдом, а шестидесятые – семидесятые годы отмечены вдохновленными ЛСД фантазиями хиппи. Сюрреалисты представляют собою некое промежуточное звено между психиатрами и хиппи, поскольку рассматривали сновидения как иную реальность, ничуть не менее живую, осязаемую и яркую, чем привычная. «Я верю, что эти два на первый взгляд противоположных состояния, сон и реальность, когда-нибудь сольются воедино, образовав некую абсолютную реальность, надреальность, сюрреальность», – писал Андре Бретон в «Манифесте сюрреализма». Этот рецепт не перестает пользоваться популярностью (и вызывать рост цен на картины) в XXI веке, когда перешло пятидесятилетний рубеж и достигло максимального благосостояния поколение, ностальгически вспоминающее хипповскую юность.
Рене Магритт. Это по-прежнему не трубка. Перо, чернила. 1952
Если искать корни сюрреализма и пытаться проследить зарождение сюрреалистского духа, стоит упомянуть о его любопытном образце – «Песнях Мальдорора» Изидора Дюкасса, опубликованных под псевдонимом «граф Лотреамон» в 1869 году. В них красота маленького мальчика уподобляется «случайной встрече на анатомическом столе зонтика и швейной машинки». Перед лицом технического прогресса второй половины XIX века художественное творчество ощущало необходимость ниспровергнуть аппарат науки, чтобы утвердить принципиальную непредсказуемость и априорную свободу человеческого духа. Бросая вызов разуму и логике, протосюрреализм Дюкасса обретает сходство с миром абсурдных фантазий Кэрролла и лимериками Эдварда Лира в жанре нонсенса. Оказывается, сюрреализм мы видели и до его фактического появления на сцене. Омар, танцующий кадриль в «Алисе в Стране чудес» Кэрролла, – дедушка омара, который превращается у Дали в телефонную трубку. Коллекционеры сюрреалистского искусства собирают картины, все еще движимые верой в то, что свободная игра воображения способна разрушить незыблемые основы технологии.
Если говорить о рыночной стоимости картин сюрреалистов, можно выделить своего рода «первый эшелон», включающий Магритта, Дали, возможно, Макса Эрнста и еще двух великих художников, которые пережили периоды увлечения сюрреализмом: Пикассо и Миро. Чуть дешевле продаются работы Ива Танги, Дельво, Мана Рэя, Виктора Браунера, а в женской секции – полотна Леоноры Каррингтон и Доротеи Тэннинг. Существует золотой век сюрреализма, он приходится на тридцатые годы. Картины этого периода обычно удается продать дороже всего. Краткий словарь сюрреалистских сюжетов, которые пользуются особой коммерческой популярностью, разумеется, не обойдется без трубок и омаров, а также шляп-котелков, мягких, тающих часов, яблок в масках, ночных сцен под ярким солнцем, роз и гребней, увеличивающихся до невероятных размеров и заполняющих собой целые комнаты.
Аукционные дома особенно чутко реагируют на коммерческую привлекательность и брендовый статус современных художественных течений. Соответственно сюрреалистские картины сегодня продаются на специально устраиваемых торгах и образуют отдельную категорию, популярную у интересующейся подобным искусством клиентуры. Если бы аукционные дома не пошли на такую меру, выросли бы, скажем, цены на Магритта до столь головокружительных высот? Мы становимся свидетелями того, как «Кристи» и «Сотби» откликаются на вкус публики, или же того, как они формируют его своей коммерческой политикой? Сотрудники аукционных домов в интервью СМИ утверждают, что, конечно, реагируют на предпочтения ценителей, но втайне мечтают на них влиять. Истина окажется где-то посередине. Аукционные дома стремятся обнаружить крохотный язычок пламени, который затем раздуют, превратив в бушующий огненный столп. Раздувать пламя «Кристи» и «Сотби» умеют, однако создать огонь из ничего им не под силу. Пламя уже должно разгораться в коллективном сознании ценителей, арт-дилеров, кураторов музеев, художественных критиков, не говоря уже о карикатуристах, специалистах по маркетингу и сотрудниках рекламных агентств. А именно это произошло с сюрреализмом.
War (1914–1918)
Война (1914–1918)
Сегодня художники, лично побывавшие на войне, пользуются на рынке бльшим спросом, нежели профессиональные баталисты. Различия между ними отчетливо проявились начиная с Первой мировой войны. До этого профессиональные баталисты, всячески подчеркивая театральность и даже живописность сражений, изображали их как зрелища чуть ли не праздничные, словно бы говоря: ужасные и неприглядные стороны боев выпадают лишь на долю героического солдата, а значит, штатские вполне могут наслаждаться видом сражения с безопасного расстояния. На XIX столетие пришелся расцвет национализма, колониальной экспансии и пропаганды войны, с легкостью переносимый профессиональными баталистами на холст и вызывавший всплеск патриотизма у тех, кто и не думал покидать уютное кресло у камина ради участия в далеких кровопролитных кампаниях. На картинах профессиональных викторианских живописцев война предстает неким подобием стремительных скачек с препятствиями, в которых одни героически одерживают победу, а другие с достоинством проигрывают.
Этому буйству фантазии, ярких цветов и преувеличенных жестов пришел конец в 1914 году, когда викторианская батальная живопись уступила место новому типу картин на военные сюжеты: отныне зрелищность и красочность сменились униформой цвета хаки и грязью траншей. Появился и новый тип художника, непосредственно побывавшего на передовой. Призыв в армию распространялся на все слои населения, и потому зачастую живописцы служили рядовыми, а затем претворяли свой мучительный военный опыт в артины, производящие сильное и тяжелое впечатление.
По всей вероятности, наиболее живой отклик великолепие и красота войны в машинный век вызвали в душе итальянских футуристов, и изначально художники этого направления выступили в поддержку вооруженного конфликта. Маринетти заявил: «Мы стремимся воспеть войну и ее единственно очистительное пламя, милитаризм, патриотизм, разрушительные действия освободителей, прекрасные идеи, за которые не жаль умереть, и презрение к женщинам». (Зачем сюда затесалась мизогиния, не очень понятно.) Однако по мере того, как война затягивалась, их энтузиазм угасал. Единственным футуристом, погибшим во время боевых действий, оказался Боччони, да и смерть ему выпала не вполне футуристическая: он умер от ран, после того как его сбросила лошадь, испугавшаяся автомобиля. Наиболее любопытные модернистские картины той эпохи вызывают в сознании бесконечные, монотонные тяготы окопной войны, предстающей в облике угрюмых и неумолимых механизмов. На картине Фернана Леже «Игроки в карты» солдаты неотличимы от военного снаряжения, а их развлечения столь же бездушны и механистичны, сколь и они сами. Кристофер Невинсон строит композицию своей картины «La Mitrailleuse»[44] вокруг небывалых по силе воздействия, схематичных образов людей, напоминающих орудия убийства в их руках.
Кристофер Невинсон. Пулемет (La Mitrailleuse). Перо, чернила. 1916
Первая мировая война создала произведения, ценящиеся выше, чем искусство, порожденное иными войнами. Однако, с другой стороны, ее разрушительная мощь оказала пагубное воздействие на карьеры значительного числа талантливых живописцев: после войны они словно исчерпали себя. Из поколения художников, прославившихся в исключительно богатые талантами и яркие годы, которые непосредственно предшествовали Первой мировой, почти никто после 1918го не создал произведений, сопоставимых с довоенными. Возможно, единственным исключением будут Пикассо и Матисс. Современный рынок задним числом выносит жестокий приговор: если бы большинство этих художников погибли во время войны, они оставили на песках творческой вечности более глубокий след, нежели сумели запечатлеть, выжив. Если уж говорить совсем безжалостно, художников стоило чаще отправлять на передовую, в буквальном смысле, в авангард. У наших противников-немцев на поле брани погибли два великих экспрессиониста: Август Маке и Франц Марк. Печально, конечно, но с точки зрения обеспечения сбыта их немногих работ нельзя было придумать ничего удачнее. В целом чем раньше художник умрет, тем лучше.
Привожу список художников, переживших Первую мировую войну, но впоследствии утративших талант. Перед именем каждого я проставил дату создания его произведения, которое в наши дни было продано на аукционе за самую высокую цену. Эти рекорды ни разу не были побиты ни одной их послевоенной картиной, хотя многие из упомянутых художников прожили после Первой мировой войны пятьдесят и более лет.
1908 Джакомо Балла (ум. 1958)
1905 Морис Вламинк (ум. 1958)
1913 Хуан Грис (ум. 1927)
1905 Андре Дерен (ум. 1954)
1910–1911 Кес ван Донген (ум. 1968)
1918 Джорджо де Кирико (ум. 1978)
1913–1914 Эрнст Людвиг Кирхнер (ум. 1938)
1912 Фернан Леже (ум. 1955)
1910 Макс Пехштейн (ум. 1955)
1915 Джино Северини (ум. 1966)
1910 Эрих Хеккель (ум. 1970)
1913 Карл Шмидт-Ротлуф (ум. 1976)
1910 Алексей Явленский (ум. 1941)
Authenticity •Подлинность
Colour •Цвет
Emotional Impact •Эмоциональное воздействие
Fakes •Подделки
Finish •Завершенность
Framing •Рама
Genius •Гениальность
Nature (Truth to) •Природа (подражание жизни)
Off-Days •Плохие дни хороших художников
Restoration •Реставрация
Size •Размер
III. Притягательность картины
Authenticity
Подлинность
Как установить, что картину, которую вы видите перед собой, написал такой-то и такой-то художник? Подпись – немалое подспорье: если картина подписана и вы можете расшифровать имя, следующий шаг – убедиться, что стиль полотна соответствует ожиданиям, а уровень достаточно высок, чтобы подтвердить вашу догадку. Если это известный художник и существует каталог-резоне всех его произведений (не допускающий разночтений, официально опубликованный, полный), то стоит проверить, включена ли туда интересующая вас картина. (Столь же разумно посмотреть, не значится ли она в фондах какого-нибудь крупного музея: если да, вашу картину похитили или подделали.)
Всегда имеет смысл поглядеть, что на обороте. Некоторые эксперты столь одержимы этой магической практикой, что сначала переворачивают картину, а уж потом начинают рассматривать изображение, а иногда и вовсе кажется, что о втором этапе профессиональной деятельности они забыли. Разумеется, на обороте картины можно найти весьма важную информацию: старые этикетки выставок или арт-дилеров, номера аукционных лотов – и проверить по специальной литературе и архивам. На обороте вы можете даже обнаружить надпись или название картины, оставленное самим художником. Однако не слишком увлекайтесь, не повторяйте моих ошибок: я однажды назвал картину «Right of Passage»[45], неверно истолковав памятку прежнего владельца, где ее повесить.
А что же делать, если, опираясь на исследовательскую литературу и архивные данные, атрибутировать картину не удается? Как определить, что перед вами: хорошая имитация или нелучшее произведение гения? [См. ниже раздел «Плохие дни хороших художников».] Если художник, которому приписывается картина, достаточно известен, можно проконсультироваться с признанным экспертом по его творчеству, зачастую из академической среды. Существуют и экспертные комиссии, которые регулярно собираются для обсуждения вновь найденных работ того или иного художника, притязающих на звание подлинных. Лучшим итогом их деятельности будет положительный вердикт вкупе с сертификатом подлинности и письмом о намерениях, согласно которому исследуемая картина будет включена в ближайшее дополнение к систематическому каталогу художника. (Письм о намерениях вполне достаточно. Издатели, и без того потерпевшие убытки, опубликовав дорогой каталог-резоне, поскупятся выпускать тома-приложения, а дополнение к каталогу очень редко появляется в книжных магазинах.)
Бывает, что есть два признанных специалиста по творчеству художника, причем враждебно настроенные друг к другу. Тогда придется консультироваться у обоих. Если они не сойдутся во мнении, все, что остается аукционному дому, – это выставить картину на торги, напечатав в каталоге обе точки зрения. В таком случае вердикт будет зависеть от стилистического уровня самой работы, а решение с видом знатоков примут ценители и коллекционеры.
Худший итог – отрицательный вердикт, данный экспертом или экспертной комиссией. Если речь о наглой, беспардонной подделке – что ж, она этого заслужила, да свершится правосудие. Однако если отрицательный вердикт вынесен по поводу работы высокого качества и, возможно, подлинной, ее стоимость катастрофически снижается, иногда от нескольких миллионов до нескольких сот. Все, что вам остается, – ждать десять-двадцать лет в надежде, что новое поколение ученых-искусствоведов оценит картину по достоинству. А пока повесьте ее на стену и наслаждайтесь. В конце концов, оттого, что ее потрепали искусствоведы, она ничуть не изменилась.
Идеальным воплощением эстетического пуризма можно считать коллекцию, составленную из неатрибутированных работ высокого уровня. «Смотрите, – провозглашают благородные владельцы подобных собраний, – моя коллекция – полня противоположность тем, что покупают ради подписей. Я ценю картину только потому, что она прекрасна, а она остается прекрасной вне зависимости от того, кто ее написал. Личность автора абсолютно второстепенна». Очень часто такую позицию занимают небогатые профессиональные антиквары и искусствоведы, собирающие потенциально любопытные картины (обыкновенно этот потенциал так и не реализуется). Истина в том, что анонимные произведения искусства дешевле, ведь они лишены важнейшей ауры творческой личности. Установите, кто их создал, и их популярность значительно возрастет. Осознание того, что Рембрандт действительно прикасался к холсту, который вы сейчас держите в руках, – ни с чем не сравнимое ощущение.
Colour
Цвет
Яркие цвета хорошо продаются. Арт-дилер, усвоивший эту простую истину, едва ли когда-нибудь разорится. Цвет – то, что непосредственно и властно взывает к взору; это наиболее чувственный элемент искусства. Коллекционеры новых рынков, впервые открывающие для себя современное западное искусство, особенно живо реагируют на насыщенные тона. Поэтому они обыкновенно сначала влюбляются в импрессионистов, совершивших революцию прежде всего в сфере колористики, то есть в правилах использования дополнительных цветов. У каждого из основных цветов – красного, желтого и синего – оказался дополнительный, получающийся при смешении двух остальных. Таким образом, красный объект отбрасывает тень с зеленым оттенком, желтый – фиолетовую, а синий – оранжевую. В результате создается живопись необычайно ярких, насыщенных оттенков. Однако у новых китайцев и новых русских еще большей популярностью пользуются модернисты начала XX века; они известны совсем уж радикальным новаторством в области колористики и накладывали на холст краску большими, яркими плоскостями, словно на детском рисунке. Поэтому в XXI веке дороже всего стали продаваться картины парижских фовистов и немецких экспрессионистов. Жемчужины новых коллекций – Дерен, Вламинк и Матисс, Явленский, Франц Марк и Кандинский. И все это благодаря цвету.
Самые важные цвета модернистского искусства – красный и синий. Для разновидности абстракционизма, всячески подчеркивающей упрощенную геометрическую форму, значимость цвета возрастает. Композиции Мондриана – это, в сущности, решетки, образованные черными линиями на белом фоне. Индивидуальность придает им распределение и цвет прямоугольников внутри геометрической схемы. В идеальном случае в пределах решетки попадаются один-два красных фрагмента, парочка желтых, несколько синих. Можно обойтись без желтого и даже без синего. Однако картина Мондриана без красных прямоугольников едва ли с легкостью станет хитом продаж. Миро или Шагалу, чтобы хорошо продаваться, требуется преобладание синего. «Синий, – говорил Миро, – это цвет моих сновидений». А тем временем от Лос-Анджелеса до Москвы, от Сеула до Стокгольма разносится крик: «Хочу синего Шагала!» Пикассо лучше всего продается самый красочный, то есть тридцатых годов. Опять-таки трудно вообразить хит продаж, Пикассо этого периода, который не был бы решен преимущественно в красных и синих тонах, с добавлением желтого и зеленого.
На самом деле власть красного над человеческим зрением необычайно могущественна. Достаточно притронуться красным к правильно выбранному месту на холсте, и этот мазок придаст всей композиции дополнительное очарование и притягательность. Помню, как в 2009 году я стоял перед великолепным пейзажем Гварди, запечатлевшим Большой канал в Венеции: «Сотби» как раз выставил его на торги. Чуть слева от центра на картине виднелось крошечное красное пятнышко, на первый взгляд почти затерявшееся на фоне зданий, воды и гондол, написанных преимущественно зелеными, синими и желтыми тонами. Однако если вы пробовали смотреть на картину, закрыв рукой это крошечное красное пятнышко, она, как ни странно, утрачивала значительную долю своего обаяния. Пейзаж был продан за двадцать миллионов фунтов. Сколько же в этой сумме приходится на один-единственный мазок?
Как правило, британские художники – не лучшие колористы. Даже когда они не боятся ярких, насыщенных тонов (таковы были прерафаэлиты), они все равно производят странное и неловкое впечатление. На это, попав в Англию, часто обращали внимание озадаченные французы, например Ипполит Тэн. «Несомненно, состояние сетчатки у британцев вызывает опасения», – объявил он в 1862 году. Он не мог постичь именно отсутствия у них вкуса. Он сетовал на английские моды, сравнивая англичанку с «ареной турнира, на которой в жестокой схватке сшиблись цвета враждующих партий».
Британская палитра страдает от прирожденной склонности к темным и мутным тонам, от пристрастия к бурым, земляным цветам. Возможно, на британскую цветовую гамму влияет погода или смущение при виде чувственных ярких красок, однако это особенно заметно, если сравнить общее впечатление от выставки британских картин XX века и куда более живых континентальных работ этого же периода. «Хроматическая температура» в Британии ниже. Для того чтобы излечить палитру от «бурой, земляной болезни», шотландским колористам Джону Дункану Фергюссону, Сэмюэлу Джону Пеплоу и Фрэнсису Кэддлу пришлось сначала поучиться в Париже. Исцеление отразилось и на стоимости их картин, необычайно возросшей за последние двадцать лет.
Иногда покупатель в буквальном смысле слова приобретает картину ради цвета. Помню некоего финансиста, который присмотрел себе яркий интерьер Матисса и решил приехать на торги. Он прилетел в Лондон на собственном самолете, чтобы лично оформить покупку. Выяснилось, что Матисс понадобился ему ради особого оттенка синего. В этот синий влюбилась его жена и хотела непременно видеть на стене комнаты, дизайном которой как раз занималась. Он купил картину и, торжествуя, привез ее домой. Спустя год она снова была упомянута в списке торгов на аукционе в Нью-Йорке. «Она нам больше не нужна, – пояснил он. – Мы нашли подходящий цвет для комнаты».
Emotional Impact
Эмоциональное воздействие
Судить о качестве картины можно среди прочего и по тому, способна ли она вызывать эмоции у зрителя. Однако чувства должны быть неподдельными. В мае 1887 года Камиль Писсарро привел дочь на выставку Жана Франсуа Милле. Залы были переполнены, писал Писсарро, и он столкнулся со знакомым, Гиацинтом Позье. Возможно, людей по имени Гиацинт следует остерегаться. В любом случае, отмечал Писсарро, «Позье вместо приветствия воскликнул, что только что пережил величайшее потрясение, он едва ли не рыдал, мы уж было решили, что умер кто-то из его близких. – Ничего подобного, такую бурю чувств вызвала у него картина Милле „Ангел Господень“. Это морализаторское полотно, одно из самых слабых в творчестве Милле, за которое ныне предлагают больше пятисот тысяч франков, производило глубочайшее впечатление на столпившихся перед ним вульгарных мещан. Они чуть друг друга не передавили!»
Весьма душещипательная картина (Артур Хьюз. Скорбное возвращение. Холст, масло. 1862)
Писсарро обрисовал здесь две проблемы: первая – привлекательность знакомого образа для необразованного, не привыкшего задумываться массового зрителя, а вторая – непосредственность эмоционального отклика. Неужели за картину предлагали крупные суммы потому, что публика, глядя на нее, столь расчувствовалась? Или эмоции порождались в том числе ее стоимостью?
Если выстроить иерархию искусств в зависимости от их способности доводить публику до слез, живопись окажется где-то внизу. Пожалуй, более всего трогает музыка; нередко слушатели на концертах незаметно смахивают слезу. Подобное воздействие оказывает и литература: иногда читатель бывает настолько увлечен драматическими событиями, описанными в романе или пьесе, что готов заплакать, сострадая героям. Однако, увидев в художественной галерее посетителя со слезами на глазах, вы скорее решите, как Писсарро, что тот недавно получил известие о смерти кого-то из близких, и едва ли предположите, что эти слезы вызваны созерцанием картины.
Впрочем, и это не исключено. «Поскольку главное назначение поэзии и живописи – взывать к чувствам, – писал в XVIII веке аббат Дюбо, – стихи и картины бывают хороши только в том случае, если способны растрогать и увлечь нас. Произведение, сумевшее сильно растрогать нас, вероятно, великолепно с любой точки зрения». Его поддерживал Дидро: «Волнуй меня, изумляй, терзай, заставь меня содрогаться, рыдать, трепетать, негодовать, а потом уже радуй мой глаз, если только сумеешь»[46]. Стендаль был известен чрезмерной восприимчивостью. Сам себя он сравнивал со скрипичной декой, улавливающей и откликающейся на эмоциональные вибрации произведения искусства, которое он созерцал. Вот как он описывает один день во Флоренции:
«Я… любовался Сивиллами Вольтеррано, испытывая, быть может, самое сильное наслаждение, какое когда-либо получал от живописи (…) Поглощенный созерцанием возвышенной красоты, я лицезрел ее вблизи, я, можно сказать, осязал ее. Я достиг той степени душевного напряжения, когда вызываемые искусством небесные ощущения сливаются со страстным чувством. Выйдя из церкви Святого Креста, я испытывал сердцебиение, то, что в Берлине называют нервным приступом: жизненные силы во мне иссякли, я еле двигался, боясь упасть»[47].
Теперь подобное состояние обозначают медицинским термином «синдром Стендаля». Он характеризует крайне эмоциональную реакцию на восприятие произведения искусства. Высоко ценится искренность и непосредственность отклика на увиденное.
Ротко сказал в 1956 году:
«Единственное, к чему я стремлюсь, – это выразить художественными средствами самые простые человеческие чувства: безысходность, восторг, обреченность и т. д., – и тот факт, что многие перед моими картинами не выдерживают эмоционального напряжения, начинают рыдать, доказывает, что я действительно могу передать самые простые человеческие чувства. Плачущие перед моими картинами испытывают то же религиозное просветление, что пережил я, создавая свои полотна».
Люди, созерцающие холсты Ротко, по-видимому, часто ощущают желание расплакаться. Они являют абсолютную противоположность тем, кто внезапно начинает аплодировать в аукционном зале, когда Ротко удается продать за семьдесят восемь миллионов долларов. Но точно ли они – антиподы? Может быть, сознание того, что ваши эмоции столь высоко ценятся, льстит.
Однако часто вещи предстают не тем, что они есть на самом деле. Однажды в петербургском Эрмитаже я заметил красавицу, которая неотрывно смотрела на Рембрандта. Созерцание полностью ее поглотило, и я был растроган тем, что она, судя по всему, столь глубоко взволнована. Мне показалось, что на глазах у нее выступили слезы, хотя она и попыталась незаметно смахнуть их быстрым движением руки. Я подошел ближе. И тут меня осенило: картина была за стеклом и красавица, глядясь в нее как в зеркало, подкрашивала глаза.
Признаюсь, я редко плакал перед картиной, а может быть, и не плакал вовсе. С другой стороны, я англичанин и получил традиционное для своей страны воспитание. Живопись, которая производит на меня сильное впечатление, чем-то сродни литературе и взывает к моим чувствам, как роман. Каждый раз, приходя в оксфордский музей Ашмола, я на всякий случай достаю из кармана платок. В коллекции Ашмола есть картина прерафаэлита Артура Хьюза «Скорбное возвращение». На ней изображен мальчик-юнга, распростертый в слезах на поросшей густой травой могиле матери. Она умерла, пока он ходил в свое первое плавание. Рядом с ним преклонила колени его старшая сестра, она в трауре. Фоном служит идиллическое английское кладбище, блики солнца играют на стене старинной церкви на заднем плане. Не хочу обсуждать ее подробно, это слишком меня расстраивает. Однако запечатленное в профиль лицо мальчика, прижавшегося лбом к сцепленным рукам, и трогательную деталь – влажные от слез спутанные волосы на щеке – созерцать невыразимо грустно.
Fakes
Подделки
Подделки производят желанное впечатление, когда существует публика, жаждущая воспринимать их как подлинники, и убедительная причина, в силу которой жертва мошенничества настаивает на их оригинальности. В XVIII веке писатель и историк Античности Иоганн Винкельман, никогда не бывавший в Греции, но лелеявший ее древний образ, вдохновляемый пригожими мальчиками, купил прелестный рисунок, который изображал Ганимеда. Винкельман полагал, что приобретает подлинное произведение греческого искусства. Когда его современник, немецкий художник Рафаэль Менгс, признался, что это он шутки ради нарисовал мифического красавца, Винкельман не поверил. Вероятно, так же Геринг реагировал на известие о том, что его Вермеер написан современным голландским мошенником Ван Меегереном (а именно так все и оказалось).
Характерная особенность подделок заключается в том, что они могут обмануть эпоху, когда были созданы, однако, в отличие от подлинников, устаревают и разоблачают себя. Если сегодня посмотреть на картины Ван Меегерена, трудно понять, как он сумел своими имитациями обмануть признанных экспертов тридцатых годов. Наше представление о прошлом меняется. Голландская живопись XVII века в начале XX столетия казалась совсем не такой, как в начале XXI.
Мошенничество может проявляться в разной степени: пейзаж начала XIX века, приписываемый Констеблу, но в действительности созданный не столь крупным неизвестным художником, – это не подделка, а всего-навсего неправильно атрибутированная картина. То же полотно с подписью Констебла – опять-таки не стопроцентная подделка. Это просто не пейзаж Констебла и займет свое законное место в истории живописи, как только с его поверхности будет удалена подпись. С другой стороны, современный пейзаж в стиле Констебла, который подсушили в печи, чтобы состарить, вызвать на красочном слое кракелюр, характерный для картины XIX века, а потом выдать за подлинного Констебла, – наглая подделка, предмет мошенничества. Здесь может помочь научный анализ. Например, однажды мнимый Ван Гог был разоблачен в результате исследования пигментов: оно показало, что картина написана белилами, которые стали производиться только спустя тридцать лет после смерти художника.
Издавна известное приспособление для искусственного состаривания «картин знаменитых художников» («Арт джорнал», 1852)
Важнейшее значение имеют подписи. Тот, кто пытается выдать картину за подлинник некоего художника, совершит уголовное преступление, мошенничество, и будет преследоваться по закону, лишь сделав последний шаг, а именно сознательно сфальсифицировав подпись. Но будьте осторожны: маленькая буковка «n» или сочетание буковок «d’ap» перед подписью, которые злополучный эксперт может принять за уродливый пучок травы, – уловка мошенника, позволяющая ускользнуть от наказания; «n» (от немецкого «nach»), «d’ap» (от французского «d’aprs») означает «подражание», то есть признание того, что картины – всего-навсего копии написанных известными, более талантливыми мастерами.
Любая картина, честно приобретенная, но, как оказалось, безосновательно приписываемая тому или иному художнику, – разочарование для владельца. Если картина на протяжении многих поколений принадлежала одной семье, разочарование может принять трагические масштабы. Однажды симпатичная пожилая дама принесла для оценки на «Кристи» своего Рембрандта. Она призналась мне, что у нее просто сердце разрывается – так не хочется его продавать, она-де знает от своего отца, что картина очень и очень ценная, но ничего не поделаешь, иначе в старости ей придется голодать. Я с трудом заставил себя честно сказать ей, что это копия XIX века, а значит, стоит меньше ста фунтов.
Легче всего подделать современное искусство. Во-первых, оно не требует столь кропотливого состаривания, а во-вторых, кардинальное различие современного и старинного искусства весьма на руку мошеннику. В основе старинной живописи, как правило, точное и убедительное воспроизведение действительности, а о ее уровне можно вполне здраво судить по изяществу и тонкости, с которыми достигается эта цель. К современному искусству, которое не стремится к детальному воспроизведнию реальности, этот критерий неприменим. Здесь проще ориентироваться на категорию стиля. Анализируя стиль, легче установить авторство современной картины, однако, поскольку критерий верного воспроизведения видимого мира утрачен, труднее решить, достаточно ли высок ее уровень, чтобы приписать ее тому или иному художнику. В этом отношении современное искусство – любимый период фальсификаторов. Стиль легко подделать. Впрочем, их прыть умеряет существование обширных и подробных архивов, детально документирующих творчество по крайней мере крупных художников. Каталоги-резоне – списки всех произведений автора, составленные экспертами, – значительно более исчерпывающи и надежны, поскольку первые арт-дилеры, торговавшие работами крупных современных художников, вели документацию добросовестнее, чем это было принято в прежние эпохи. Поэтому проще всего ответить на вопрос, не подделка ли это, заглянув в каталог-резоне. Если картины там нет, не доверяйте ей.
В этом смысле большую проблему представляет творчество Модильяни. Оно не столь надежно документировано по нескольким причинам: он был весьма капризным художником, агент его тоже отличался чудачествами, а итальянцам свойствен неисправимый романтизм, создающий им репутацию фальсификаторов. За последние пятьдесят лет опубликовано несколько каталогов-резоне, охватывающих все произведения Модильяни, но лишь одному из них, составленному Энрико Черони, стоит доверять. Однако имя Черони тоже не абсолютная гарантия. Его вдова, вероятно в надежде на дополнительный источник дохода, принялась выдавать оптимистические сертификаты подлинности, подписывая их именем покойного супруга.
Полностью нельзя полагаться даже на архивы. Наиболее ловкие из современных фальсификаторов нашли способ внедрять подделки и туда. Существует следующий прием: выбрать некую картину, засвидетельствованную в архивах, но утраченную, а затем создать подделку, отвечающую ее описаниям, вкупе с подложными этикетками, удостоверяющими ее участие в выставках, на которых когда-то был показан оригинал. Вселяет опасения афера, предпринятая несколько лет тому назад одним беспринципным дилером с Дальнего Востока. На первом этапе за несколько сот тысяч долларов он покупал подлинное произведение современного искусства, обычно на аукционе, так чтобы эта новость, включая упоминание о цене, попала на специальные интернет-сайты. Затем он создавал подделку, точную копию картины, и продавал ее частному клиенту, выдавая за подлинник, который, как было засвидетельствовано, в том числе в Интернете, он купил на аукционе. Спустя некоторое время он выставлял на аукцион оригинал, зарабатывая и на нем. В итоге в мире параллельно существовали две версии одной и той же картины. Однако беззаконного двойника зачастую разоблачали лишь несколько лет спустя, а аферист к тому времени успевал обналичить оба чека.
Арт-дилеры, аукционные дома и музеи неусыпно бдят, опасаясь подделок. Разработан механизм возмещения ущерба, вступающий в силу в тех редких случаях, когда действительно совершена ошибка. Однако подделки по-прежнему остаются кошмаром художественных экспертов. Однажды меня ввели в заблуждение несколько акварелей, привезенных на шоу «Антиквариат: репортаж с места событий». Это были плохо выполненные пейзажи, как будто в голландском стиле.
– Слушайте, ну и когда они были написаны? – радостно осведомился владелец.
– В начале двадцатого века, – предположил я.
– А вот и нет! – торжествующе воскликнул тот. – Я их сам на прошлой неделе намалевал. Вот смотрите, – продолжал он, вытаскивая еще одну из пластикового пакета, – эту даже подписал: «Герц Ван Ренталь»[48].
На покойного Кеннета Кларка никогда не обрушивались подобные испытания.
Finish
Завершенность
Представление живописцев XIX века о «завершенности» картины кардинально отличалось от воззрений на этот предмет художников-модернистов. Делакруа с сожалением отмечал, что приходится жертвовать спонтанностью и непосредственностью картины ради той степени завершенности, которой требуют современные зрители. Он пишет в апреле 1853 года: «Вечно волей-неволей портишь картину, чтобы завершить. Последние штрихи, устанавливающие гармонию между отдельными частями, лишают картину живости и оригинальности. Перед публикой она должна предстать, избавленная от всех небрежно выполненных, но своеобычных подробностей, которые доставляли живописцу такую радость».
Завершена или нет? (Поль Сезанн. Цветы в красной вазе. Холст, масло, карандаш. 1880–1881)
В XX веке художников более не связывает необходимость придавать картине завершенный облик, как того требовали неумолимые традиции. В апреле 1944 года Кит Воган записывает в дневнике беседу с Грэмом Сазерлендом. Они обсуждали весьма любопытный вопрос: когда картина достигает некой стадии, после которой утрачивает целостность или по крайней мере превращается во что-то абсолютно иное? Покупатель вернул Сазерленду картину с просьбой сделать что-нибудь с маленьким фрагментом холста в правом нижнем углу, который чем-то его не удовлетворял. Сазерленд согласился, поскольку сам осознавал, что именно здесь не добился желаемого совершенства.
Далее Воган и Сазерленд задумались, а нет ли во всех великих картинах такого крошечного фрагмента – если угодно, неудачного, – незаконченного, незавершенного и несовершенного, но, в сущности, придающего всей картине убедительность и прелесть. Если попытаться его исправить, картина что-то навеки утратит. Возникает впечатление, словно картина тщится достичь некоего таинственного полного равновесия, но может лишь приблизиться к нему и никогда – его удержать, а если бы ей это удалось, она бы рассыпалась, распалась на составляющие, не вынеся напряжения. Сазерленд и Воган решили проверить чувствительность зрителей к этой особенности, спросив, какая из двух картин производит на них большее впечатление: «Моление о чаше» Беллини или «Моление о чаше» Мантеньи. «Очевидно, что Мантенья совершеннее», – пишет Воган.
«Соединение элементов композиции в пространственное целое у него безупречно; переход от тела к руке, от руки к кисти, от кисти к пальцам абсолютно плавный и виртуозный. У Беллини совсем иначе. Чувствуется, что сведение всех компонентов воедино стоило ему невероятных усилий. Так и ощущается страх мастера: вдруг целое не сложится из фрагментов и картина не удастся. Это напряжение пронизывает всю картину, на нем держатся все ее пространственные связи. Беллини более велик. Мантенья более совершенен».
Фрэнк Ауэрбах объясняет, в какой момент картина представляется ему завершенной, значительно проще: «Когда образы, создаваемые линиями, начинают удивлять своей гармонией и живостью, а мертвое пространство на холсте исчезает, полагаю, картина закончена». А в марте 2004 года Люсьен Фрейд обсуждал тот же вопрос с Мартином Гейфордом, портрет которого писал. «Завершенность картины, разумеется, самая важная штука, – сказал Фрейд и далее пояснил свою мысль, загадочно, но вместе с тем убедительно: – Я осознаю, что работа закончена, когда ощущаю, что пишу уже не свою картину». Ротко прибегает к иной аналогии. Ему требовалось много часов, чтобы добиться верных пропорций и нужного колорита, говорил он. Картина завершена, только «когда все детали плотно смыкаются». «Наверное, в душе я водопроводчик», – заключает он.
Хотя современная публика уже не настаивает на стандартах завершенности, которые бытовали в эпоху Делакруа, отнесение картины к категории «незаконченных» вызывает тревогу на рынке. Почему же художник ее не завершил? Он бросил работу, потому что уровень его не удовлетворял? Вызвало недоумение название выставки, проводившейся в 2000 году в Вене и Цюрихе: «Завершена или нет?» Она посвящалась творчеству Сезанна, а одной из целей устроителей было решить, к какой категории причислить ту или иную работу. Организаторов чрезвычайно озадачило явное нежелание частных коллекционеров одолжить свои полотна, хотя выставка представляла научный и художественный интерес. Кому же захочется, чтобы его картину заклеймили как «незавершенную»? С коммерческой точки зрения это было бы катастрофой.
Framing
Рама
Рама, в которую помещена картина, оказывает огромное воздействие на наше восприятие и на цену, за которую ее можно продать. Неверно подобранная рама способна извратить наше впечатление от полотна, более подходящая – значительно улучшить. Выбор рамы зависит от стоимости картины: если вы покупаете Каналетто за десять миллионов долларов, почему бы не потратить еще семьдесят пять тысяч на изящную раму XVIII века, в которой он засияет в полном блеске. Она даже может превратить его в Каналетто за все двенадцать миллионов. Однако если вы потратите те же семьдесят пять тысяч на раму для пейзажа XVIII века, за который заплатили двадцать пять тысяч, она, конечно, улучшит вид, но не поднимет сколько-нибудь существенно его цену, а значит, не оправдает затрат. И напротив, на обычных торгах, где предлагаются картины старых мастеров, клиенты иногда платят неожиданно крупные суммы за самые заурядные копии известных работ или ученическую живопись. Причина в том, что мы, авторы каталогов, учитывали только уровень полотен и справедливо видели в них копии, но не заметили, что они помещены в аутентичные роскошные резные рамы, в которые некогда были вставлены оригиналы. Наблюдательные клиенты быстро смекнули, что стоимость подобных рам в несколько раз превосходит стоимость картин.
Дега сам выбирал рамы для картин
Обыкновенно картины старых мастеров помещают в рамы, соблюдая строжайшие правила: их выбирают в соответствии со стилем, эпохой и местом создания картины. И разумеется, впечатление от картины в оригинальной раме (то есть вставленной в раму самим живописцем или по крайней мере при его жизни) увеличивает стоимость. Эти же предписания распространяются на современное искусство: например, высоко ценятся простые темные деревянные рамы картин немецких экспрессионистов, если они созданы одновременно с полотнами. Однако с воцарением модернизма жестких критериев стиля уже не придерживаются столь строго. Сегодня можно увидеть Пикассо или Миро в черной с золотом итальянской раме XVII века. На современный вкус они смотрятся недурно. Все началось с моды, главным образом американской, на картины импрессионистов во французских рамах XVIII века. Однажды я вынул чудесную пастель Дега, изображавшую балерину, из ее аутентичной белой рамы, сделанной самим художником, и для аукциона поместил ее во французскую позолоченную раму XVIII века, чтобы не отпугнуть американских ценителей живописи конца XX. Пастель была продана за рекордную цену, однако особой гордости я не ощутил. По крайней мере, мы предложили покупателю вновь вставить ее в оригинальную раму.
Genius
Гениальность
Иногда вы созерцаете картину, и вас поражает ее блистательное, непревзойденное великолепие. Вы тотчас чувствуете его. Но как определить, из чего именно оно складывается? Легче описать его воздействие, нежели охарактеризовать его составляющие. Жан Кокто отмечает, какое впечатление произвели на него великие картины Веласкеса и Гойи в Прадо:
«Меня ошеломила простота гения. Веласкес и Гойя, кажется, писали очень быстро, накладывая несказанно удачные мазки. Сколько бы мы ни подходили близко к полотну, сколько бы ни вглядывались, сколько бы ни анализировали – все равно непостижимо, как они сумели это создать. А какая смелость! Болеро „Махи“: кисть Гойи бросала на холст желтую краску густым слоем, и меж ее выпуклыми поверхностями сохранились полосы другого цвета. А кружево на воротнике инфанта у Веласкеса: как будто краска стекала у него из тюбика, причудливо ложась слой за слоем, словно капли меда с ложки».
Адриан Стоукс так описывал работу Сарджента:
«Рука его двигалась проворно, словно по клавишам пианино. Впрочем, поражала не столько быстрота, сколько воистину чудесная точность каждого штриха… Все детально запечатлевалось или едва очерчивалось, принимая единственно верный облик. На одни фрагменты картины краска накладывалась густым слоем, другие прописывались, обретая прозрачность и гладкость, всякий мазок был неповторим и быстро и безошибочно воплощал на холсте замысел, родившийся в сознании автора. Это было, если угодно, некое подобие стенографии, но стенографии магической».
Иногда полагают, будто гениальность таится в умении сделать первое удачное прикосновение кистью к холсту, а затем писать «алла прима», ничего более не изменяя. «Posez, laissez»[49], – говорил ученикам барон Гро, намекая на существование некоего божественного вдохновения, направляющего руку живописца: художник словно на мгновение утрачивает волю и отдается во власть демонов, а рука его превращается в орудие некой внешней могущественной силы, с которой нельзя играть и которую нельзя умилостивить. Байрон сравнивал свое творческое «я» с тигром: «Упустив жертву при первом броске, я с рычанием удаляюсь в логово в джунглях и более не повторяю попытки. Я ничего не правлю, я не могу и не хочу менять». С другой стороны, гениальность иногда связывают с усилием и усердием, способностью снова и снова возвращаться к работе, переосмысляя ее, переписывая и бесконечно доводя до совершенства. Это не романтическая, едва ли не ремесленническая версия обсуждаемого феномена, но и ей найдется место в анатомии гения [см. ниже раздел «Природа (подражание жизни)»].
Ошеломляющая простота – первое удачное прикосновение кистью к холсту – магическая стенография – усилия и усердие – или воля судьбы? Однако вы тотчас узнаете гения, как, впрочем, узнает и рынок.
Nature (truth to)
Природа (подражание жизни)
На протяжении всей истории искусства живописцев завораживал иллюзорный идеал абсолютной верности природе. Для прерафаэлитов он превратился в мантру. В 1856 году Джордж Элиот писала о Рёскине: «Бесценная в своей правильности теория, коей он учит нас, – реализм, предполагающий, что истину и красоту обретают смиренным и точным воспроизведением природы, конкретной, осязаемой реальности, а не предпочтением смутных образов, рожденных воображением в тумане неопределенных чувств». Прерафаэлиты терзали себя, пытаясь точно, в мельчайших деталях, передать каждый лист.
Гиперреализм как следствие подобной творческой позиции снова и снова заявляет о себе и всегда будет иметь приверженцев. Публика охотно платит за усердие и с готовностью покупает картины, на создание которых потрачено немало сил и времени, о мастерстве исполнения которых можно судить по тому, насколько тщательно и даже педантично они воспроизводят образы объективной действительности. Однако не знающий меры гиперреализм может переродиться в бездумное копирование подробностей. Филипп Эрнст, отец Макса Эрнста, живший на рубеже XIX–XX веков во Франкфурте, был увлеченным художником-дилетантом. Однажды он написал вид собственного сада, ради создания лучшей композиции опустив одно дерево. Однако он был столь привержен теории «верности природе», что, завершив пейзаж, стал испытывать мучительные угрызения совести и срубил дерево.
Свойственная прерафаэлитам бескомпромиссная верность природе – готовность выписывать каждый листик (Джон Уильям Инчболд. Середина весны. Холст, масло. Ок. 1855)
Подобный германский «творческий буквализм» напоминает случай, который любил приводить Бернини. Один испанский аристократ, отправившись в Неаполь, упал с мула и скатился по отвесному склону холма на дно глубокого ущелья, однако чудесным образом совершенно не пострадал. Дабы увековечить это чудо, он заказал вотивную картину, поведав о своем необычайном спасении художнику Филиппо Анджели, который и написал полотно в меру своих способностей, изобразив и падение, и место, где оно произошло. Бернини продолжает:
«Испанцу картина пришлась весьма по вкусу, однако он стал сетовать, что несчастье изображено не на том склоне горы. Живописец указал, что в таком случае оно будет скрыто от взоров, однако заказчик его повторял снова и снова, будто сие есть извращение невымышленного происшествия, и настаивал на том, что оный случай надобно запечатлеть на другом склоне горы. Посему наконец Филиппо, не в силах переубедить глупца, обещал все изменить и стер фигуру заказчика, а потом принес картину обратно, объявив, что поместил ее на противоположном склоне. Испанец провозгласил, что вполне доволен, и заплатил ему немалую сумму».
Импрессионисты научили нас, что достичь верности природе можно и иным способом, а именно воспринимая мир как чисто зрительный феномен. Впрочем, британцы, в силу своего характера, и далее предпочитали более сухую и «буквалистскую», тяготеющую к объективности манеру. Это точно подметил Генри Джеймс:
«Когда английские реалисты, как нынче модно выражаться, „сделали свой выбор в пользу“ неприкрашенной истины и суровых фактов, то непреодолимое стремление к праведности заставило их искупать измену более древним и не столь высоконравственным правилам и условностям искусными, терпеливыми, виртуозными манипуляциями, в первую очередь трудолюбием. Однако импрессионисты, на мой взгляд более последовательные, отвергли всякую добродетель в искусстве и заявили, что грубая тема требует небрежного исполнения. Они послали детали ко всем чертям и сосредоточились на общем впечатлении… Коротко говоря, англичане оказались педантами, а французы – циниками…»
Джеймс был прав: одна из причин, по которой импрессионизм не сразу прижился в Англии, – это его кажущаяся небрежность. Вот еще, платить крупные суммы за картинку, которую художник сотворил, особо себя не утруждая!
Off-days
Плохие дни хороших художников
Хорошие художники иногда пишут плохие картины. Полагаю, у всякого живописца выдаются утра, когда он просыпается, встает к мольберту, а работа не клеится. Может быть, у него похмелье, может быть, его беспокоит задолженность по арендной плате или предстоящий приезд тещи. Однако в итоге получается что-то скверное. В большинстве случаев рисунок отправляется в корзину для бумаг, а с картины счищается краска, чтобы использовать холст повторно. Но не всегда: бывает, что неудачная работа попадает в руки арт-дилеру, он продает ее (дешевле, чем обычно, однако художник забирает свои деньги и забывает), и вот уже полотно невысокого уровня приходит в мир, где служит неопровержимым доказательством того, на какой бред способен живописец, когда он не в лучшей форме.
Некоторые художники относятся к себе исключительно строго. «Контроль качества» они превращают в неуклонное следование добродетели. В частности, во имя пущего совершенства Моне в 1909 году отказался посылать на нью-йоркскую выставку очередную партию кувшинок. Подумав, он решил не выпускать их из мастерской как недостаточно удавшиеся. Его агент Дюран-Рюэль, хитрый и расчетливый коммерсант, извлек из первоначального разочарования (выставку-то пришлось отменить!) выгоду, прокомментировав отказ как свидетельство бескомпромиссного стремления мастера к совершенству. Покупая Моне, напомнил он клиентам, вы покупаете достойного Моне, ибо не вполне удавшиеся картины гений обрекает на прозябание в стенах мастерской.
С подобными доводами можно до известной степени согласиться, но лишь при жизни автора. Они не учитывают, что случится после смерти художника. Если он не уничтожил все картины, которые не выпускал за порог мастерской, то там накопилось немало всякого вздора. А есть и наследники, жаждущие заработать на том, что им досталось. Поэтому существует признанная практика: на основе подписи покойного художника изготавливают штамп и ставят его на все неподписанные картины, оставшиеся после смерти живописца в мастерской, завершенные и незаконченные. Соответственно у неподписанных картин, покинувших после смерти автора мастерскую с его штампом, статус вовсе не однозначный. Разумеется, бывали случаи, когда художники при жизни отказывались продавать картины, которые были им особенно дороги или за которые они по личным причинам запрашивали слишком высокую цену. Арт-дилеры и аукционисты с готовностью объявляют, что именно так обстоит дело с «проштампованными», но неподписанными произведениями, которые им довелось продавать. Однако не все «проштампованные» картины можно отнести к этой категории. Некоторые откровенно плохи.
Кроме того, существуют и художники необычайно плодовитые, с легкостью залучавшие к себе вдохновение и неизменно, непоколебимо верившие в собственный миф: они писали слишком много. Таков, например, был поздний Пикассо. Трудно найти человека, который восхищался бы так, как я, несомненными шедеврами, созданными Пикассо после восьмидесяти: их мощь, их изобретательность, их чувственная притягательность неоспоримы. Однако в старости он сотворил/нагородил и немало вздора. Беда в том, что ни он сам, ни его наследники не уничтожили всякий бред. Этот вздор оказался слишком ценным.
Неудачные дни реже случались у старых мастеров, ведь они не стремились завершить работу к вечеру и у них оставалось достаточно времени, чтобы менять, переписывать, совершенствовать. Характерная особенность современной картины в том, что ее приходится писать значительно быстрее, иногда за день, чтобы не упустить непосредственного вдохновения. Подобная точка зрения унаследована от романтизма: «Posez, laissez», – говорил ученикам барон Гро. Первый мазок на холсте – единственно верный, единственно истинный и неподдельный. Исправлять его – значит утратить частицу собственного «я». Так что, если первое прикосновение к холсту неудачно, вам остается лишь писать, преисполнившись надежды, возможно тщетной.
Restoration
Реставрация
Картины далеко не всегда то, чем кажутся. Под внешне безупречной поверхностью порой таятся скрытые дефекты, а предав их огласке, можно катастрофически понизить цену картины. Если на ней обнаружатся отреставрированные прорывы или ретушь, выполненная реставратором, то картина будет стоить значительно меньше, чем то же полотно в первозданном состоянии, «dans son jus», как говорят французы.
«Картины как женщины, – утверждает мой друг Джаспер, арт-дилер. – Когда они стареют, без реставрации им не обойтись». Иногда он делится со мной мечтами: вот бы открыть универсальный магазин для миллиардеров. В одном отделе продаются личные самолеты, в другом – роскошные яхты, конечно, разместится там и прекрасная художественная галерея, а еще – особая клиника, где будут реставрировать картины и делать пластические операции их владельцам.
Делакруа бы с ним не согласился. Он писал в 1854 году:
«Многие воображают, будто оказывают картине невесть какую услугу, отдав ее реставрировать. По-видимому, они думают, что картины – ни дать ни взять дома: нанял мастеров, исправил повреждения и изъяны, побелил и покрасил, и дом как новенький, под стать многим вещам, которые разрушает время, но которые мы ухитряемся сохранить для себя, то и дело поправляя и подновляя. Женщинам, умело пользующимся белилами, румянами и сурьмой, иногда удается скрыть морщины и казаться моложе. Не то картины. Каждая так называемая реставрация наносит ей ущерб куда больший, чем разрушительное воздействие времени, ибо в конечном счете перед зрителем предстает не отреставрированная картина, а совершенно новая, изготовленная жалким мазилой, выдающим себя за автора: сам же автор погребен под слоем ретуши».
Существуют различные виды реставрации: реставрация ради устранения дефектов, например прорыва холста или отслоения красочного слоя от грунта, или реставрация, представляющая собою чистку, удаление потемневшего лака и (или) слоя накопившейся сажи, въевшегося табачного дыма с целью вернуть картине исходные тона. Первый вид, разумеется, предполагает куда более радикальные меры, хотя и второй таит в себе опасность. Реставрация поврежденного холста обыкновенно не обходится без дублирования живописи (то есть подклейки под старый холст нового для его укрепления). Дублирование производится горячим утюгом при помощи нагретого воска или клея. Для этой операции требуется невероятная осторожность и все искусство реставратора, иначе красочному слою картины можно нанести непоправимый ущерб, например сгладить импасто и лишить картину эффекта рельефной фактуры, создаваемой наложением краски разной толщины. В ХХ веке у американских реставраторов бытовала мода дублировать все холсты, вне зависимости от состояния, возможно, для того, чтобы обеспечить им бльшую сохранность в будущем. Теперь, в XXI, когда технологии достигли совершенства, арт-дилеры и аукционисты тратят немало времени и денег на то, чтобы удалить дополнительные холсты из-под неповрежденных и тем самым вернуть им первозданный облик, так сказать предпринимая героические усилия по восстановлению девственности. Возможно, и эту услугу стоит включить в число предлагаемых Джаспером.
Если картина сильно пострадала, перед реставратором встает дилемма: переписывать или не переписывать. Сторонник чистоты и строгости (а таких очень немного) просто укрепит красочный слой и восстановит холст, но не станет накладывать новые пигменты. Прагматик перепишет столько, сколько сочтет нужным, дабы придать полотну первозданный облик. Не так давно в британском суде разбирали дело о картине Шиле, пострадавшей во время пожара и сильно переписанной ретивым реставратором. Судье предстояло вынести вердикт: правомерно ли видеть в картине произведение Шиле, если значительная ее часть написана не его кистью? Он прибегнул к статистическому обоснованию: если более пятидесяти процентов красочного слоя – дело рук реставратора, значит Шиле уже не может считаться автором картины.
Чистка тоже таит в себе опасности. Традиционно картину, написанную маслом, принято было покрывать лаком, и этот последний слой на красочной поверхности обеспечивал и блеск, и защиту. День покрытия картин лаком непосредственно перед выставкой[50] был важным ритуалом в Королевской академии. Однако со временем лак темнеет и искажает оригинальный колорит, иногда придавая ему чарующие оттенки. Цвета, обнаружившиеся в результате удаления старого лака или грязи, могут шокировать современную публику. К тому же требуется большое мастерство, чтобы правильно произвести чистку картины. Художники прошлого последовательно наносили на холст тонкие красочные слои. Неопытный реставратор может удалить не только лак, но и верхний красочный слой, положенный живописцем. Если на удаленном по ошибке слое была и подпись художника, а такое всегда возможно, реставратору повезло еще меньше. Известны случаи, когда незадачливый реставратор в спешке восстанавливал подписи, утраченные в процессе суматошной деятельности в реставрационной мастерской. Однако не будем подолгу останавливаться на таких трагических моментах.
Существует еще и ультрафиолетовая лампа, которой в художественном мире пользуются очень широко. Направив это приспособление на поверхность картины, можно высветить участки красочного слоя, наложенные позже основных. Однако современная наука разработала новые сорта лака, весьма пригодившиеся беспринципным реставраторам. Например, есть маскировочный лак, не пропускающий ультрафиолетовые лучи: он создает впечатление первозданной, девственной красочной поверхности. Жаль бедного эксперта, который, вооружившись ультрафиолетовой лампой, исследует то, что видит (или не видит).
Size
Размер
Соблазняться размером или благоговеть перед ним – проявление весьма дурного вкуса, однако, признаюсь, я люблю большие картины. Люблю, когда они занимают почти всю стену. В целом рынок со мной согласен. Скажем, объективности ради, если мы продаем две картины одного автора примерно одинакового эстетического уровня (ну, вдруг такое бывает), то картина большего размера будет продана дороже. Поздний Пикассо, например «Кавалер» размером 150 100 см, будет стоить значительно дороже, чем «Кавалер» размером 60 50 см. Пейзаж Моне размером 70 90 см будет продан за более высокую цену, нежели пейзаж размером 54 65 см. Руководствуясь этим простым критерием, первые дилеры, продававшие импрессионистов, относили их к разным ценовым категориям. За картину побольше клиенты скорее готовы были заплатить высокую цену. Маленькие холсты оптически увеличивают, помещая в крупные, тяжелые рамы, но обмануть удается не всех.
Однако есть граница, за которой картина становится слишком громоздкой и потому коммерчески непривлекательной. Если картина застревает в широкой входной двери, едва ли найдется много желающих ее купить. Сколько бы вы ни восхваляли «монументальность» полотна, если его нельзя вообразить на стене современной гостиной, продать ее удастся только с большой скидкой.
Высочайшее качество при небольшом размере (Ян ван Кессель. Натюрморт. Дерево, масло. 22 17 см. 1669)
Антиподы громоздких гигантов – картины, написанные по принципу «лучше меньше, да лучше». В тех случаях, когда их, будь то портрет кисти Дюрера, натюрморт Яна ван Кесселя, картина Кранаха или сюрреалистический портрет, написанный Дали, отличает высочайшее, утонченное мастерство, – самая их миниатюрность становится достоинством. Тогда по отношению к ним уместна терминология ювелирного искусства: «маленькая драгоценность», «настоящая жемчужина» [см. главу V «Словарь терминов»].
Degenerate Art •Вырожденческое искусство
Missing Pictures •Пропавшие картины
Restitution •Реституция
Theft •Кражи
IV. Провенанс
Degenerate art
Вырожденческое искусство
Нацистский режим прекрасно умел эксплуатировать предрассудки. Объявив, что бльшая часть современных картин и скульптур, экспонирующихся в немецких музеях, есть образцы вырожденческого искусства, он тотчас получил поддержку народа, ибо сыграл на естественном недоверии широких масс ко всему, что предстает новым или шокирующим. «Неужели кто-то воспринимает эти картины серьезно? – вопрошала нацистская пресса в рецензиях на выставку экспрессиониста Оскара Шлеммера, которая проходила в Штутгарте в марте 1933 года. – Неужели у кого-то они вызывают уважение? Неужели кто-то станет настаивать, что это – произведения искусства? Они же не закончены, с какой стороны ни взгляни! Уж лучше бросить их в мусорную кучу, пусть там спокойно гниют…»
Постепенно власти прививали массам мнение, что подобному искусству, признаку вырождения, не место в немецких общедоступных музеях. Слово «вырождение» впервые употребил в одноименном труде («Entartung») 1892 года писатель Макс Нордау, как ни странно еврей по происхождению: он объявил, что все современное искусство страдает патологической неврастенией. Кроме того, нацистам очень пригодилась книга Пауля Шульце-Наумбурга «Искусство и раса» (1928), в которой фотографии тяжелобольных и уродов, заимствованные из медицинских учебников, перемежаются репродукциями современных картин и скульптур. Вырожденческое искусство изгонялось из музеев вместе с популяризировавшими его музейными кураторами. Закрывали антикварные магазины, которые специализировались на его продаже. Выставку Франца Марка запретили на том основании, что она-де ставит под угрозу общественный порядок и безопасность: ни дать ни взять предшественники современного комитета по охране труда, опутавшего своими щупальцами учреждения культуры. Нацистские власти дошли до того, что пытались запретить «художникам-вырожденцам» заниматься живописью. Им даже не разрешалось покупать краски, кисти и холсты. К ним наведывались агенты гестапо, чтобы застать врасплох и выяснить, что же они делают у себя в четырех стенах. Некоторые, например Макс Эрнст, бежали из страны. Другие, подобно Кирхнеру, покончили с собой. Художественных критиков заставили подчиниться господствующей идеологии. В ноябре 1936 года Геббельс объявил любую художественную критику вне закона. «Отныне художественную критику должен сменить репортаж об искусстве, – провозгласил он. – В дальнейшем лиш тем, кто станет выполнять эту обязанность с чистым сердцем и с истинно национал-социалистическими убеждениями, будет дозволено печатать репортажи об искусстве».
Разумеется, это не первый пример вмешательства властей в дела искусства с целью диктовать, что приемлемо, а что нет. В годы Французской революции такую политику проводили республиканцы, тщившиеся избавиться от религиозного искусства. Художникам запрещалось писать картины на подобные сюжеты, а любое произведение, заподозренное в разжигании религиозного фанатизма, подлежало изгнанию в запасники.
В 1937 году картина продана кёльнским музеем Вальрафа-Рихарца «с целью покупки более важных экспонатов» (Эрнст Людвиг Кирхнер. Площадь Альбертсплац в Дрездене. Холст, масло. 1911)
А какое искусство любили нацисты? Нордическое, уверяли они, прославляющее здоровое, исконное ощущение принадлежности к германской нации. Определение «нордическое искусство» оказалось довольно растяжимым и таинственным образом включало не только немецкие соборы, Дюрера, Альтдорфера, Гольбейна и «уютных» романтиков XIX века вроде Карла Шпицвега, но и лучшие образцы классического искусства, даже греческую скульптуру и некоторые шедевры итальянского Ренессанса. В области современного искусства приемлемой считалась глянцевая безупречность, годная для украшения конфетной коробки. От искусства требовалась абсолютная завершенность: все, что могло показаться хоть сколько-то незаконченным, вызывало отвращение. В этом вкус Гитлера совпадал с пристрастиями кайзера. В 1937 году в Мюнхене был открыт новый музей нацистского искусства. На стенах его сентиментальные изображения чистеньких крестьянских семей соседствовали с картинами, запечатлевшими рослых обнаженных ариек (идеал немецкой женщины), а между ними затесались героические сцены, в том числе портреты фюрера в сияющих рыцарских доспехах.
Одновременно с выставкой нацистской живописи в Мюнхене проводилась другая, под названием «Вырожденческое искусство», призванная продемонстрировать ничтожество и смехотворность «дегенератов». Были показаны произведения ста тринадцати художников, однако они составляли лишь малую часть из тех шестнадцати тысяч, которые нацистские конфискационные комиссии в конечном счете изъяли из немецких общедоступных музеев. Картины «вырожденцев» были повешены так, чтобы предстать зрителю в как можно более невыигрышном свете, часто без рам. Авторы выставочного каталога обращали внимание на варварскую грубость Кирхнера, пропаганду марксизма, присущую Отто Диксу и Георгу Гроссу, расовую нечистоту экспрессионистской скульптуры, «бесконечное потакание еврейским затеям» и «абсолютное безумие» кубизма и конструктивизма.
Иногда конфискационным комиссиям приходилось принимать щекотливые решения. Можно ли признать импрессионизм вырожденческим искусством? До лаковой картинки на конфетной коробке он явно недотягивал, что уже заключало в себе некоторый риск, однако из фондов музеев изъяли всего несколько импрессионистских полотен. Трудности возникли и с Ловисом Коринтом. Его раннее творчество, воплощавшее здоровый германский дух, было приемлемо, а вот позднее сочтено декадентским. В конце концов нацистские эксперты решились на компромисс, вспомнив, что в 1911 году художник перенес инсульт, который можно было рассматривать как поворотный пункт в его карьере. Объясняя физическим недугом моральную деградацию, эксперты пришли к выводу, что картины Коринта, написанные до 1911 года, соответствуют духовным запросам нации, а созданные после надлежит заклеймить как вырожденческие.
А что же делать со множеством декадентских произведений, которые власти собрали в ходе конфискаций? Нацисты не были лишены прагматизма и потому осознавали финансовую ценность некоторых работ на международном рынке. В итоге они без лишнего шума устроили несколько частных торгов, а затем, в июне 1939 года, крупный публичный аукцион в галерее Фишера в Люцерне: на нем были проданы сто двадцать шесть произведений искусства. Участие в этом аукционе поставило многих коллекционеров перед дилеммой: они знали, что их деньги пополнят казну режима, основанного на попрании нравственности и репрессиях, однако в противном случае картины, в том числе шедевры Пикассо, Матисса, Ван Гога, Гогена, Модильяни и всех известных экспрессионистов, могут погибнуть. И разумеется, некоторым из участников аукциона фантастически повезло. Картина Пикассо «Акробат и маленький арлекин», изъятая из фондов Вуппертальского музея, была куплена на торгах в Люцерне за сумму, равную нескольким сотням долларов. В 1988 году она была продана на «Кристи» за тридцать восемь миллионов долларов.
Впрочем, и после частных, и после публичных торгов количество конфискованных вырожденческих картин, оставшихся на складе в Берлине, где они хранились, уменьшилось ненамного. 20 марта 1939 года тысяча четыре картины и скульптуры, а также три тысячи восемьсот двадцать пять рисунков были сожжены в соседнем дворе, принадлежавшем Главному управлению пожарной охраны Берлина, а его сотрудникам тем самым предоставлена ценная возможность подняться по учебной тревоге.
Если сегодня становится известно, что та или иная картина была объявлена нацистами вырожденческой, то по непостижимой иронии судьбы ее ценность увеличивается. А если удается доказать, что какие-то произведения искусства были изгнаны в тридцатые годы из государственных музеев Германии, их стоимость тем более возрастет, и не только в силу сомнительного аргумента, что все третировавшееся и уничтожавшееся столь злобным и безнравственным режимом, как нацистский, должно быть прекрасно и удивительно. Скорее, дело в том, что изначально эти картины считались выдающимися и потому были приобретены крупными музеями, а провенанс, предполагающий пребывание в фондах подобного музея, – большая редкость и соблазн для рынка.
Missing pictures