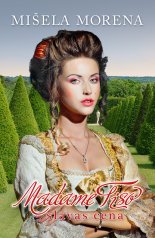Завтрак у Sotheby’s. Мир искусства от А до Я Хук Филип
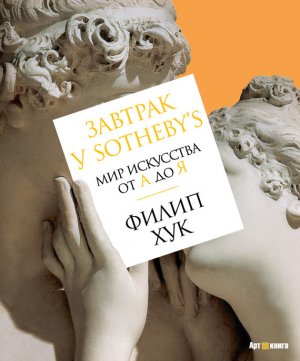
Пропавшие картины
Какая радость – найти пропавшую картину. Однажды, в 1980 году, я обнаружил считавшееся утраченным полотно, подумать только, в запасниках Национальной галереи Осло. Меня пригласили взглянуть на что-то другое, но в дальнем темном углу мне почудилась обнаженная в полный рост, несомненно кисти какого-то викторианского художника.
– Что это? – спросил я.
– Картина, мы ее тут храним со Второй мировой войны. Хозяин пока не объявился.
Картина была подписана сэром Лоренсом Альма-Тадемой. Выяснилось, что это любопытное полотно известного викторианца, всячески пытавшегося вдохнуть новую жизнь в Античность. Оно носит название «Скульптор и натурщица» (подобно многим живописцам прошлого, Альма-Тадема, на радость последующим поколениям искусствоведов, вел «Liber Veritatis»[51], где даже нумеровал все свои произведения). Расследование, которое я провел в Лондоне, показало, что в 1940 году картина принадлежала британскому послу в Норвегии. Ему пришлось оставить ее, когда он спасался от нацистов. Я без труда разыскал в Англии его сына, который с удивлением принял новонайденную картину. Иногда я спрашиваю себя, уж не рад ли втайне был посол «утратить» полотно в 1940 году. Оно громоздкое, а в то время стоило совсем немного. Совершенно точно, особых усилий, чтобы вернуть картину, после войны никто не предпринимал. Однако к 1980 году цена ее вновь повысилась, и потомки посла вскоре продали ее за сто двадцать одну тысячу фунтов.
Картины пропадают по разным причинам: одни похищают, другие погибают, третьи просто теряются, и о них забывают, четвертые исчезают в семейных коллекциях и наследуются из поколения в поколения людьми, и не подозревающими об их художественной ценности. Среди погибших картин высочайшего уровня можно назвать «Мученичество святого Петра» Тициана (уничтожена пожаром в 1867 году) и «Каменотесов» Курбе (испепеленных огненным шквалом во время бомбардировки Дрездена в феврале 1945 года). О том, что эти полотна, трагическая гибель которых полностью документирована, в принципе существовали, мы знаем по старинным копиям, гравюрам и фотографиям. Подобные свидетельства доказывают существование и других утраченных произведений искусства, судьба которых представляется неясной.
Где, например, портрет Мане кисти Моне, на котором Моне запечатлел своего собрата по цеху сидящим в его, Моне, саду в Аржантейле, возможно, в июле 1874 года, на переломном этапе развития импрессионизма? Портрет находился в собрании Мане до самой его смерти в 1883 году, после чего был унаследован вдовой, а она продала портрет известному немецкому импрессионисту Максу Либерману. Либерман умер в 1935 году, портрету удалось ускользнуть от нацистов и войти в нью-йоркскую коллекцию наследников Либермана, однако он был похищен оттуда до Второй мировой войны. С тех пор никто его не видел, и только старая фотография позволяет судить о том, как он выглядел.
Безмятежно почивала в запасниках Национальной галереи Осло (Лоренс Альма-Тадема. Модель скульптора. Холст, масло. 1877)
А куда исчезли портреты пяти безумцев, написанные Теодором Жерико в 1820 году? Цикл из десяти портретов был заказан живописцу его молодым другом, пионером психиатрии Этьеном Жорже, возможно, после того, как Жорже исцелил самого Жерико от приступа безумия [см. главу I «Жерико»]. Жорже умер от чахотки в 1828 году, вслед за чем пять портретов цикла были проданы его коллеге-медику, доктору Лашезу. Во второй половине XIX века они вновь появились на рынке, ныне находятся в крупнейших музеях мира и признаны шедеврами этого жанра. Остальные пять были проданы некоему доктору Марешалю и якобы украшали стены его дома в Бретани. Где же они сейчас?
В 1636 году Клод Лоррен написал вид средиземноморской гавани, дав ему название «Napoli»[52]. Пейзаж имел размеры 76 98 см. Он исчез. «Liber Veritatis» Лоррена – настоящая находка для детективов, разыскивающих пропавшие предметы искусства, поскольку в ней не только перечисляются все картины, которые он когда-либо написал, но и приводятся их графические копии. Таким образом, нам впервые стало известно о существовании этого утраченного вида гавани из «Liber Veritatis», ныне хранящейся в Британском музее. Мы также располагаем сведениями об истории полотна, написанного масляными красками и запечатленного на рисунке в импровизированном автокаталоге. Изначально оно принадлежало герцогу Ришелье, а впоследствии, около 1837 года, оказалось у известного шотландского коллекционера Арчибальда Макленнана. Макленнан завещал свое собрание музею Глазго[53]. Между 1870 и 1882 годом музей заключил странную сделку с Императорским музеем Токио, обменяв Лоррена и еще двадцать три картины на несколько предметов восточного искусства. Ясно лишь, что назад Лоррен не вернулся. Ныне Императорский музей сделался Национальным, но в его архивах нет никаких упоминаний о Клоде Лоррене. Может быть, его похитили в хаосе разрушительного токийского землетрясения 1924 года? Или его украл какой-нибудь американский солдат в 1945 году?
«Пробужденный» Рубенс (Питер Пауль Рубенс. Избиение младенцев. Дерево, масло. 1609–1611)
Возможно, более прозаическая судьба выпала на долю одного из вариантов «Прозерпины» Россетти, вполне в духе прерафаэлитов изображающего голову богини, моделью для которой послужила Джейн Моррис. В 1872 году художник отправил картину поездом с вокзала Паддингтон в глостерширский Лечлейд. Однако, когда в Лечлейде стали разгружать багажные вагоны, ее там не оказалось, и с тех пор никто ее не видел. Что, если вот уже полтора века она томится на складе железнодорожного бюро находок?
Есть и другая категория произведений искусства: они не то чтобы утрачены, но пребывают в безвестности, авторство их забыто, они безмятежно почивают. Отсюда сленговый термин «спящая картина», то есть та, что появляется на рынке смиренно и скромно, не снискав причитающихся ей почестей, не вызывая должных восторгов, атрибутированная какому-нибудь второстепенному художнику. Арт-дилеры и коллекционеры живут надеждой на подобные открытия, но они случаются редко. Князь Лихтенштейнский около 1700 года купил у ведущей антикварной фирмы Антверпена «Избиение младенцев» Рубенса, а в 1920 году его потомки продали картину. В XVIII веке ее статус понизился, поскольку авторство ошибочно приписали Яну ван ден Хуке, посредственному эпигону Рубенса. С тех пор она почивала. Только в 2002 году ее разбудили, отправив на торги аукциона «Сотби», где эксперты и узнали в ней работу Рубенса, созданную около 1610 года, вскоре после его возвращения из Италии, и «возвестившую, подобно трубному гласу, начало эпохи барокко во Фландрии». «Подобно трубному гласу», она «возвестила» также могущество и прозорливость современного рынка старых мастеров и была продана за сорок шесть миллионов фунтов.
Вновь открыть исчезнувшую картину всегда означает пережить некое подобие откровения, а самый этот факт неизменно восхищает рынок. «Открытие» предполагает свежесть чувств, возможность прикоснуться к чему-то, чего никто не видел в течение многих поколений. И напротив, картины, за короткий срок несколько раз выставлявшиеся на торги, словно запятнаны, вне зависимости от их объективной ценности. Они напоминают людей, которые неоднократно разводились, и не вызывают особого восторга оттого, что были столь доступны.
Restitution
Реституция
Произведения искусства захватывали в качестве военных трофеев еще в глубокой древности. С тех пор как стали создавать картины и статуи и видеть в них некую ценность, они возглавляют список желанного имущества, которое победители стремятся отнять у побежденных: добыча достается завоевателю. Множеством картин и скульптур завладел Наполеон. Опустошив Италию и Испанию, он привез в Париж немало великих произведений искусства. В Лувре, переименованном в его честь в Музей Наполеона, император разместил одну из самых удивительных художественных коллекций, которые когда-либо видел свет. После поражения Наполеона при Ватерлоо союзники инициировали процесс реституции. Похищенные предметы искусства возвращали на родину. Жерико и другие молодые французские художники не могли сдержать слез, глядя, как шедевры, с которыми они выросли, упаковывают в ящики и отправляют домой.
Разграбление коллекций во время Второй мировой войны заставило художественный мир столкнуться с прежде невиданными трудностями. Во-первых, поражали масштабы хищений, совершенных нацистами, – иногда из музеев, но чаще из личных собраний в оккупированных странах. Во-вторых, в течение целых пятидесяти лет из-за холодной войны жертвы не могли получить доступ к важнейшим архивам Восточной Европы. Да и на Западе хранилища информации, например Национальный архив в Вашингтоне, стали предоставлять конфиденциальные сведения о разграблении нацистами предметов искусства во время Второй мировой войны только в девяностые годы. В это же время правительства Германии, Австрии и Швейцарии приняли законы, которые облегчали претендентам на реституцию, в особенности лицам еврейского происхождения, процедуру возвращения имущества, похищенного во время войны.
Иными словами, последние конфликты в мире искусства были разрешены лишь спустя сорок – сорок пять лет после окончания войны. Запоздало устанавливались факты хищения ценных картин, проводились долгие расследования, принимались казуистические решения. Подобные судебные дела возбуждаются и в начале XXI века. Первые владельцы картин и скульптур давно умерли, зачастую погибли в концентрационных лагерях. Судьба евреев, среди которых был ряд известных коллекционеров, в оккупированной нацистами Европе складывалась одинаково: сначала их лишали прав, затем – собственности, а под конец и самой жизни. Возвращение предметов искусства их потомкам можно расценивать как беспомощный, но символический жест раскаяния.
Рисунок, возвращенный Национальной галереей Берлина родственнице владельца (Винсент Ван Гог. Оливы. Перо, чернила. 1888)
В 2002 году Национальная галерея Берлина вернула «Оливы» Ван Гога, некогда принадлежавшие Максу Зильбербергу, его престарелой невестке. Это был один из первых примеров тщательно раследованного иска и возмещения ущерба. Зильберберг, еврей по происхождению, крупный промышленник из Вроцлава, в 1935 году продал свою коллекцию на аукционе в Берлине, где Национальная галерея и приобрела рисунок Ван Гога. Спустя несколько лет Зильберберг погиб в концлагере. Только в конце девяностых, когда были открыты архивы, выяснилось, что в 1935 году он заключил сделку под давлением и потому она не может считаться законной. Было установлено, что единственная его выжившая наследница поселилась неподалеку от Лейстера: ей передали рисунок Ван Гога, от которого незамедлительно отказалась Национальная галерея Берлина.
Потомкам нескольких жертв – уроженцев Вены удалось добиться возвращения из австрийских музеев прославленных картин Климта и Шиле, а одна немецкая общедоступная галерея вернула наследникам великолепного Кирхнера. В целом можно только похвалить музеи за то, что они с готовностью расстаются со своими картинами, после того как тщательное расследование доказало их незаконное приобретение в годы нацистского режима. По наихудшему сценарию разыгрываются события, когда картина, находящаяся сегодня в частной коллекции и купленная честно, оказывается похищенной во время войны. Сын или внук первого владельца требует ее вернуть. Нынешний обладатель не хочет уступать картину, которая, возможно, стоит миллионы долларов, но, испытывая чувство неловкости, вынужден признать, что, пока над нею тяготеет законный иск о реституции, продать ее нельзя. Это психологически неразрешимая проблема, преступление с двумя жертвами. Чрезвычайно сложно уладить спор к взаимному удовлетворению, когда на одной чаше весов лежит весь ужас холокоста, а значит, глубокая моральная ответственность перед памятью погибших. Случается, что сторонам удается достичь соглашения, продать картину и разделить полученные деньги, но очень часто, даже выбрав такое решение, они чувствуют себя ущемленными. Простых выходов из подобных ситуаций не бывает.
Иногда реституция невозможна потому, что не осталось в живых потенциальных истцов. Во время холокоста были уничтожены целые семьи, не оставившие потомков. Едва ли не самое тягостное и скорбное впечатление на меня произвели несколько картин, которые мне довелось видеть в стенах живописного бывшего монастыря в пригороде Вены; туда меня пригласили в 1986 году. В монастыре располагалось хранилище предметов искусства, конфискованных нацистскими властями у австрийских коллекционеров еврейского происхождения и невостребованных. В конце концов эти картины были проданы на аукционе, а вырученные деньги правительство Австрии передало еврейским благотворительным организациям. Однако, когда я впервые увидел их, они, сложенные штабелями и на первый взгляд брошенные, показались мне сбившимися в стайку осиротевшими детьми: каждая из них могла поведать свою страшную историю. Я вытянул одну из стопки: подпись Рубенса на ней была непрофессионально удалена и частично закрашена акварелью. «Зачем?» – гадал я. Позднее я понял: испуганные владельцы, видимо, прибегли к этому последнему, отчаянному средству в надежде спасти самую дорогую свою картину от нацистской конфискации, но, увы, тщетно. Однако горькая ирония заключалась в том, что картина принадлежала не кисти Рубенса. Это была всего-навсего старинная копия.
Аукционным домам пришлось пойти на радикальные меры, чтобы выжить в новую эру притязаний на реституцию. Были организованы целые отделы, в задачи которых входило исключительно выяснение истории картин и скульптур, предъявляемых к торгам. Ни один предмет искусства из числа похищенных нацистами не может быть выставлен на аукционе до тех пор, пока не выяснено, кто его законный обладатель. Покупатели никогда не станут предлагать цену за картину, провенанс которой в 1932–1945 годах был хоть сколько-нибудь сомнителен. Особой осторожности требует анализ сделок, заключенных в годы войны в Париже, так как именно там продавалась значительная часть похищенных нацистами коллекций. Производя эффект разорвавшейся бомбы шестьдесят лет спустя, сегодня неожиданно всплывают случаи коллаборационизма в высших сферах парижского художественного мира, а их последствия могут оказаться самыми неприятными для почтенных и уважаемых фирм и аукционных домов, в годы нацизма не погнушавшихся торговлей краденым.
Однако экспроприацию предметов искусства в годы войны осуществляли не только нацисты. Некоторые крупные немецкие коллекции после войны оказались в Советском Союзе. Красная армия, вступившая в 1945 году на территорию Германии, получила приказ завладеть как можно большим числом ценных произведений искусства. Советские власти рассматривали подобную политику как получение репараций за опустошение и разгром, учиненный нацистами в России. Картины, привезенные из Германии, хранились в тайных запасниках Пушкинского музея в Москве и Государственного Эрмитажа в Ленинграде (ныне Санкт-Петербурге). Советское правительство в течение пятидесяти лет отрицало их существование. С падением коммунизма они были наконец явлены миру. Я оказался одним из первых западных искусствоведов, кому посчастливилось держать в руках великолепные картины импрессионистов, до тех пор таившиеся в недрах Эрмитажа. В особенности одну я не могу забыть. Это было полотно Дега, написанное маслом и изображавшее виконта Лепика с дочерьми, прогуливающегося по площади Согласия в Париже. Все монографии и справочники по творчеству Дега, опубликованные в 1945–1990 годах, с сожалением констатировали, что «картина погибла во время Второй мировой войны». И вот я держал ее в руках. Это было равносильно воскресению из мертвых.
Потомки обладателей этих немецких коллекций стали добиваться их возвращения. Однако частные иски немцев не находили сочувствия, в отличие от исков евреев – жертв нацизма, да и российское правительство заняло непримиримую позицию. Эти предметы искусства отныне принадлежат государству, и реституция любых из них стала бы недопустимым символическим жестом и подвергла бы сомнению законность обладания картинами. Впрочем, верно и то, что, если вы не победитель, ваши шансы вернуть похищенное весьма и весьма невысоки.
Кроме моральных соображений, реституция затрагивает коммерческие интересы самых разных лиц и организаций. Картины стоимостью в целое состояние передаются потомкам жертв, до сего момента нищим, и те тотчас вновь выставляют их на аукцион. Многие адвокаты обогатились, расследуя и предъявляя от имени пострадавшего иски о реституции и получая вознаграждение только в случае благоприятного исхода дела. Существуют и «серые зоны», когда провенанс картины между 1932 и 1945 годом обнаруживает лакуны, а недобросовестные агенты стараются ими воспользоваться, уверяя, что картину хотят вернуть себе потомки жертв нацизма. Очень часто нынешние владельцы соглашаются удовлетворить подобные требования не потому, что признают их справедливость, а лишь потому, что не могут доказать обратное, ведь даже тень сомнения относительно провенанса картины не позволяет ее продать. Молчание мнимых истцов покупают, посулив им или их агентам небольшой процент прибыли.
Обсуждая финансовые сделки, даже когда их цель – попытаться восстановить справедливость и загладить причиненные страдания, никогда нельзя забывать о таком побудительном мотиве, как жадность. Утешает, что в целом реституция предметов искусства принесла больше блага, нежели зла. А произведения, возвращенные в ходе реституции, хорошо продаются по многим причинам: поскольку они только появились на рынке, имеют музейный провенанс или просто потому, что вызывают у покупателя всплеск симпатии к изначальному владельцу, у которого были отобраны.
А теперь перейдем к мраморам Элгина.
Theft
Кражи
Можно утверждать, что наиболее удачливым похитителем картин в современной истории был Винченцо Перуджа. Именно он украл «Мону Лизу». В ночь с 20 на 21 августа 1911 года он ухитрился спрятаться в одном из чуланов Лувра. Похититель был плотником, прежде служил в Лувре и потому здание знал как свои пять пальцев. На следующее утро он потихоньку выбрался из чулана (дело было в понедельник, музейный выходной), снял картину со стены, спрятал под широким халатом – униформой рабочего-оформителя, и был таков. Спустя два года его арестовали во Флоренции, когда он пытался продать «Мону Лизу» известному антиквару. На суде он защищался, пустив в ход патриотические мотивы: почему это «Джоконда», национальное сокровище Италии, должна находиться во французском музее? Он-де всего-навсего попытался вернуть ее на родину. Отчасти ему удалось переубедить суд: ему дали год тюрьмы, а после апелляции скостили срок до семи месяцев.
«Мона Лиза» на месте, незадолго до похищения (Луи Беру. «Мона Лиза» в Лувре. Холст, масло. 1911)
На первый взгляд кража произведений искусства – странное явление. Картины уникальны. Предположим, знаменитую картину похитили, но кто же ее купит? А как потом обналичить неправедный доход, особенно теперь, когда все аукционные дома и всех арт-дилеров, работающих на законной основе, немедленно предупредят о краже через легкодоступные базы данных, например «Реестр утраченных произведений искусства»? Однако воровство не прекращается, иногда даже из крупных музеев и картинных галерей. Сравнимо с кражей «Моны Лизы» недавнее похищение «Крика». Неужели воры, решающиеся на подобные преступления, настолько глупы и не представляют себе их последствия: крадут предметы, которые затем не могут продать?
А впрочем, подождите-ка минутку. Есть объяснение: а что, если они крадут по заказу? Должны же существовать несметно богатые, абсолютно беспринципные любители искусства, которые жаждут владеть великими картинами. Поэтому они нанимают гангстеров, посылают их в музеи, те под покровом ночи снимают со стен бесценные полотна, и все, конец. Никто больше не увидит похищенного Рембрандта, Вермеера или Ватто. Они попадают в лапы сгорающего от нетерпения босса преступного мира, истинное имя которого неизвестно общественности: он обожает искусство и будет наслаждаться похищенными картинами в уединении доступной ему одному галереи, на личном острове где-нибудь в Карибском море.
Вот только ничего подобного не бывает. Нет никаких доказательств, что существуют такие «ценители искусств». Но если бы они и вправду водились на свете, то могли бы считаться настоящими эстетами, поскольку приобретают лишенные всякой финансовой стоимости произведения, которые никогда более не удастся продать на законных основаниях. Эти боссы преступного мира – абсолютно вымышленные фигуры.
Очень редко, однако, появляются загадочные эксцентрики, которые похищают картины для себя, не руководствуясь никаким иным мотивом, кроме желания их иметь. В 2003 году был арестован французский официант Стефан Брейтвизер. Выяснилось, что за семь лет он успел ограбить более ста музеев в семи странах. Он выбирал миниатюры, которые прятал под пальто, и небольшие музеи, которые не могли позволить себе дорогостоящую систему охраны. Он действовал просто. Пока его подруга следила, не идет ли кто, или кокетничала с охранником, отвлекая его внимание, он доставал нож и вырезал картину из рамы, а потом уносил ее. Самым ценным полотном, которое ему удалось похитить, был «Портрет Сибиллы Клевской» кисти Лукаса Кранаха.
Свое собрание он хранил в квартире матери. Когда его арестовали, она решила уничтожить улики. Сто рисунков она выбросила в местный канал, а шестьдесят картин, написанных маслом, включая Кранаха, разрубила на куски и выкинула в мусоропровод. Возможно, это был самый ценный пакет с мусором в истории, превосходящий даже арт-мусор, случайно выброшенный в галерее Тейт [см. главу II «Пошлость»].
Другой интересный случай – портрет Жака де Гейна, написанный Рембрандтом. Эту миниатюру на дереве размером 29 24 см четырежды похищали из Картинной галереи Далиджа, где она хранится, и четырежды возвращали. Чем уж она так привлекает воров – великая тайна. Не исключено, что ее похищение входит в учебный курс британских ВДВ.
Так почему же все-таки крадут произведения искусства? В конечном счете ради получения выкупа. Самые ценные картины, рисунки и скульптуры застрахованы. Если их похитят, страховой компании будет предъявлен иск на их полную стоимость. Если картина оценена в десять миллионов долларов, страховой компании будет не до шуток. Если она предложит вознаграждение, скажем в один миллион долларов, за «информацию о местонахождении пропавшей картины», то это весьма и весьма неглупо. Официально нельзя вести прямые переговоры с похитителями; однако если, заплатив один миллион, страховщики смогут избавить себя от необходимости выплачивать девять и обеспечат возвращение картины законному владельцу, что ж, тем лучше. Иногда эта финальная фаза переговоров откладывается на годы, а это означает, что страховой компании пришлось-таки выплатить полную стоимость похищенной картины владельцу. Поэтому, когда страховщики платят миллион долларов за информацию о ее местонахождении и завладевают ею, они становятся ее законными обладателями. Страховая компания может продать картину и получить прибыль в размере двадцати миллионов, ведь рыночная стоимость картины за это время возрастает. То-то обрадуются брокеры.
Есть основания полагать, что за ценные предметы искусства не сразу требуют выкуп, поскольку используют их как некую разновидность незаконной валюты. Наркобароны и торговцы оружием иногда предлагают их в уплату. Они исчезают в мрачном аду, где переходят из одних грязных рук в другие, пока наконец не появляются снова на свет божий и не выкупаются за деньги страховщиков. Тяжкое испытание для великого произведения искусства.
Однажды представители полиции Девона обратились ко мне с весьма странной просьбой. Не могу ли я оценить полотно сэра Джошуа Рейнольдса, которое они только что конфисковали у взятого с поличным местного взломщика? Это оказалась всего лишь копия, выполненная эпигоном Рейнольдса и стоившая меньше тысячи фунтов. Полицейские пали духом:
– Значит, восьмидесяти пяти тысяч она не стоит?
– Боюсь, что нет.
– Вы уверены?
– Абсолютно.
Осужденный за кражу картины стоимостью восемьдесят пять тысяч фунтов, преступник мог подвергнуться куда более суровому наказанию и получить куда больший срок, чем за кражу недорогой копии.
Antiques Roadshow •«Антиквариат: реалити-шоу»
Buying Art •Приобретение предметов искусства
Cataloguing Pictures •Каталогизация
Christie’s and Sotheby’s •«Кристи» и «Сотби»
Collectors •Коллекционеры
Dealers •Арт-дилеры
Emerging Markets •Новые рынки
Exhibitions •Выставки
Experts •Эксперты
Fairs •Ярмарки
Football •Футбол
Glossary •Словарь терминов
Heritage •Культурное наследие
Investment •Инвестиции
Luck •Случайность
Money •Деньги
Museums •Музеи
Nature (Imitating Art) •Природа (подражание искусству)
Status Symbols (Art as) •Символ статуса (Искусство как)
Taxation •Налогообложение
V. Погода на рынке
Antiques roadshow
«Антиквариат: реалити-шоу»
Наиболее популярная передача об искусстве, когда-либо выходившая на телеэкраны, – это «Антиквариат: реалити-шоу». Впервые она была показана в 1978 году и с тех пор каждый год возвращается в сетку вещания Би-би-си, а серии ее становятся все длиннее и длиннее. В основе ее следующая формула: команда искусствоведов без предупреждения обрушивается на какой-нибудь городок и принимается оценивать сокровища местных жителей. Этот рецепт привел в восторг телевидение и вызвал волну подражний во многих странах мира. Он объединяет в себе все: предметы искусства, личные истории участников, неожиданные открытия и волнующий привкус денег. Владелец стирает пыль со старинной гравюры, много лет томившейся на чердаке, приносит ее на передачу, и она оказывается ранним офортом Пикассо стоимостью сто тысяч фунтов. Миллионы телезрителей волнуются вместе с обладателем картины или рисунка, вместе с ним предвкушая выигрыш. К тому же для большинства британцев эта передача – единственный источник знаний об искусстве и художественном мире.
Я немного знаком с обстоятельствами ее создания, потому что входил в число первых экспертов, приглашенных в ней участвовать. Я был неопытным юнцом, двадцати семи лет, извлеченным из сумрачного подвала аукциона «Кристи», где каталогизировал старых мастеров, и ошеломленно щурился в свете телесофитов. Тем, что меня выбрали для выполнения столь славной миссии, я обязан стечению обстоятельств. В те дни «Кристи» по субботам направлял команды экспертов в провинциальные городки, о чем заранее объявлялось в прессе. Местным жителям предлагалось приносить свои картины и статуэтки для профессиональной оценки и продажи. Эти «выездные экспертные сессии» были далеко не бесполезны. Однако старшие эксперты отдела живописи «Кристи» по выходным всегда бывали заняты чем-то более приятным: охотились, ходили в оперу, гостили в герцогских замках, – поэтому обязанность отправляться куда-нибудь в Дарем или Бат частенько возлагалась на меня. Как-то раз субботнюю «выездную сессию» освещал местный телеканал, Би-би-си-Бристоль, а сюжет о ней показали в местных новостях. Он попался на глаза какому-то изобретательному продюсеру телеканала, и тот решил, что из формата «искусствоведы, колесящие по стране» может получиться недурная программа, и поручил помощникам пилотную серию. А где же найти экспертов? Поначалу Би-би-си решила себя не утруждать и выбрала ту же команду, что фигурировала в бристольском выпуске новостей.
Стоит мне только включить запись и увидеть себя, неоперившегося юнца, в одной из этих первых серий, как я начинаю испытывать мучительную неловкость. Пока не окажешься перед телекамерой, не можешь вообразить, как будешь выглядеть на экране. Я получался то нервным, то несколько заторможенным, то неуклюжим, то излишне надменным, а иногда и таким, и сяким, и этаким одновременно. Просматривая эти старые серии, я обнаружил, что говорю, как будто пережевывая кашу.
«Какая прелестная акварель!» – лицемерно произносил я нараспев, умильно глядя на злополучного владельца в кадре реалити-шоу и напоминая сам себе политика-консерватора пятидесятых, которому во время предвыборной кампании пришлось подержать на руках младенца избирателя-пролетария. Затем я вставлял избитую фразу, чтобы плавно перейти к оценке злосчастного предмета: «А вы никогда не задумывались, сколько это может стоить?» К сожалению, эта уловка далеко не всегда производила желаемый эффект, поскольку туповатый британец, которому, транслируя на всю страну, публично адресовали бестактный вопрос о деньгах, скорее бывал склонен смутиться, покраснеть, уставиться на собственные ботинки, а потом лживо промямлить: «Нет». К этому моменту мне в любом случае не оставалось ничего иного, как развеять все его сомнения и без обиняков объявить, что картина его – сущий трэш.
Беда в том, что подсознательно я ощущал себя Кеннетом Кларком. В отрочестве я зачарованно смотрел эпохальный телесериал «Цивилизация», в котором Кларк на протяжении двенадцати серий, настоящих шедевров теледокументалистики, разворачивал перед зрителем величественную панораму самых прекрасных творений человечества. Обладающий глубочайшими познаниями и аристократическими манерами, Кларк стал моей ролевой моделью. Все это было бы уместно, если бы обыватели, допустим Рочдейла, приносили мне для экспертной оценки выполненные маслом эскизы Тьеполо и рисунки Перино дель Ваги. Но мне из раза в раз несли олеографии Лендсира, щедро перемежавшиеся репродукциями «Мыльных пузырей» Милле, меж которыми нет-нет да и обнаруживалась литография Уильяма Рассела Флинта. Я несколько приуныл.
Автор в одном из эпизодов передачи пытается деликатно сообщить владелице картины дурные вести
В сущности, не мне одному никак не удавалось расшевелить британскую публику. Она доводила до изнеможения и продюсера. Обыватели ужасно боялись обнаружить хоть какие-то чувства и немели от страха при виде камеры. Втайне продюсер рассчитывал, что кто-нибудь из них потеряет сознание или громко вскрикнет, а у кого-нибудь, может быть, даже случится небольшой сердечный приступ, когда ему скажут, сколько на самом деле стоит его картина: это сказочно повысило бы рейтинг шоу. Помню один случай: мне довелось общаться с человеком, не скрывавшим своих чувств; любопытно, что он был не британцем, а американцем. Когда я сказал ему, что его акварель кисти Фудзиты стоит пятьдесят тысяч фунтов, он обернулся к маленькой пожилой даме в толпе зрителей и спросил: «Ну что, теперь выйдешь за меня?» Однако боюсь, что я производил впечатление ничуть не менее скучное, чем участники передачи. Я не умею вести себя естественно перед камерой: кого-то судьба наделила этим даром, а меня, увы, нет. Со стороны Би-би-си было весьма великодушно терпеть меня столь долго, в общей сложности двадцать пять лет.
Постепенно я стал наслаждаться атмосферой реалити-шоу: ну где еще, скажите на милость, торговля антиквариатом может встретиться с торговлей подержанными машинами, а утонченный арт-эксперт – как ни в чем не бывало разговориться с хозяином гаража, явно не брезгующим темными делишками? Как-то раз торговец запчастями из Олдема принес мне сомнительного Л. С. Лаури, которого принял у клиента в счет платы за ремонт машины. Пришлось сообщить, что «международный рынок не сочтет картину подлинной».
– Значит, это подделка?
Я нахмурился. Мне показалось, что употребления этого слова в телепрограммах без возрастных ограничений «шестнадцать плюс» следует избегать.
– Боюсь, ее не признают подлинной.
Он на мгновение погрустнел, но тут же заулыбался снова. Очевидно, отремонтированный бампер долго не продержится. Еще помню, как меня обрадовало знакомство с бывшим заключенным, который поведал мне о том, что непревзойденной популярностью среди всех телепередач в тюрьме «Вёрмвуд Скрабс», где он отбывал год за торговлю крадеными машинами, пользовался именно «Антиквариат: реалити-шоу».
Участие в реалити-шоу приносило некоторую известность, вас неизбежно начинали узнавать на улице, по крайней мере, иногда в барах окликали незнакомцы и спрашивали: «Простите, я нигде не мог вас видеть?» Нескольким экспертам это вскружило головы, и у них стали появляться привычки оперных примадонн – например, дарить шоколадные конфеты визажистке, чтобы она с особым тщанием наложила макияж. Один из моих коллег, когда таксист попросил его подписать счет, не удержался и подмахнул: «С наилучшими пожеланиями». Мы получали письма от поклонников передачи, втайне хранили их и подсчитывали, у кого больше. Как-то раз мне прислал письмо телезритель из Барнета. Он говорил, что записал мое выступление на прошлой неделе и просмотрел двенадцать раз. Скрупулезно проанализировав отснятый материал, он убедился в том, что, разглагольствуя о викторианской акварели, приписываемой Биркету Фостеру, я мастурбировал. С тех пор я зарекся держать руку в кармане во время съемок.
По мере того как программа обретала популярность, публика, обращавшаяся к экспертам, воспринимала собственные «сокровища» все с бльшим воодушевлением. Эксперты были вынуждены разработать и новые клише: теперь они преподносили участникам не столько приятные сюрпризы, сколько, по возможности деликатно, дурные вести. «Ценная ли она? Боюсь, что не очень, но все равно очень милая. Возьмите ее домой, смотрите на нее и радуйтесь». Однажды помощь пришла мне, откуда я и не ждал. В одном городке на передачу явилось столько желающих, зал, где проводилась экспертиза, был так переполнен, что за порядком пришлось следить местной полиции. Один офицер расположился у меня за спиной – я в это время давал экспертную оценку – и принялся бесстыдно подслушивать.Я пытался как-то донести до симпатичной дамы, владелицы посредственного пейзажа нориджской школы, что впечатляющая подпись на нем – поддельная. В это мгновение вмешался полицейский. «Зато я, мадам, – восторженно объявил он, – настоящий констебль»[54].
Buying Art
Приобретение предметов искусства
Когда вы решаете купить картину или скульптуру, ваши восторги, сомнения, страхи, надежды немного напоминают влюбленность. Сначала вы, может быть, увидели ее в репродукции, или на страницах выставочного каталога, или в Интернете. Вы долго смотрите на нее, не в силах оторваться, а потом мысленно возвращаетесь к ней снова и снова. Затем вы отправляетесь увидеть ее вживе. Осязаемая, во плоти, она оправдывает ожидания, которые вы связывали с ее фотографией (а иногда и обманывает их. Бывает, что она просто не выдерживает сравнения с образом, созданным вашей фантазией, и вам остается только удивляться собственной доверчивости). Но если она столь же прекрасна, сколь вы воображали, то наваждение овладевает вами всецело. Вы не в силах думать ни о чем ином. Если ее выставили на торги, то вы снова и снова открываете каталог, а может быть, приезжаете в аукционный дом или в галерею арт-дилера, не столько для того, чтобы убедиться в правильности своего выбора, сколько для того, чтобы еще раз насладиться ею. Вы словно влюбленный с миниатюрой предмета вашей страсти: то и дело вынимаете ее и любуетесь ею.
Если она принадлежит арт-дилеру, у вас есть возможность купить ее, пока о ней не узнали коллекционеры, и завладеть ею первым. Сделку можно начать немедленно. Если ее продают на аукционе, то вам предстоит мучительное ожидание, пока ее не выставят на торги. Если вы сами объявитесь в зале, то будете подозревать всех присутствующих в том, что они вознамерились увести у вас из-под носа облюбованное сокровище. При мысли, что картина может оказаться вам не по карману, вас охватывает отчаяние. Вам приходится смириться с тем, что вы утратите предмет вашей страсти. Когда интересующий меня лот выносят на подиум, у меня всегда начинает учащенно биться сердце. Мне кажется, самому предлагать цену на аукционе гораздо тягостнее, чем проводить торги, будучи аукционистом. Ужасно сознавать, что картина или скульптура вам не достается: увы, так случается довольно часто. У других покупателей – бльшие финансовые возможности. Подобно тому как потенциальные прекрасные возлюбленные ускользают от вас, не принимая ваших ухаживаний, прекрасные картины находят обладателей побогаче.
Но иногда вам может повезти. Остальные покупатели уже не повышают цену, и картина или скульптура достается вам. Проходит миг – и восторг сменяется сомнением. Неужели с ней что-то не так и все это осознали, один вы, простофиля, ничего не подозревали? Страхи быстро рассеиваются: она ваша. Вы ее купили. Она переезжает к вам. Начинается другая фаза любовных отношений.
Брюс Чатвин, проработавший на «Сотби» семь лет, придерживается мнения, что картины и скульптуры на самом деле лучше возлюбленных. Он отмечает, что во время аукционных торгов «с лица покупателя или покупательницы не сходит выражение тревоги и страха: вдруг он или она не сможет позволить себе желанную игрушку? Так старики в ночных клубах прикидывают, смогут ли они заплатить столько-то и столько-то за проститутку? Но предметы искусства – куда лучше. Вы можете продать их, трогать их в любое время дня и ночи, когда вам заблагорассудится, а они даже не огрызнутся».
Cataloguing Pictures
Каталогизация
В семидесятые годы, составляя каталоги старых мастеров в глубоком, освещенном электрическими лампами подвале аукциона «Кристи», я узнал, что их темы и сюжеты принято описывать, прибегая к неизменному, раз и навсегда установленному набору слов и выражений. Отступить от этой традиционной терминологии означало подвергнуться опасности. Так, существовали речные пейзажи, зимние пейзажи, пейзажи со сбором урожая; они могли быть лесными, горными и прибрежными, пейзажами в итальянском вкусе, в классическом вкусе или каприччио, обширными или даже панорамными. Их обитатели (скорее, стаффаж) включали селян, деревенских жителей, пастухов, кузнецов и перевозчиков. Однако – здесь-то каталогизатора и подстерегала ловушка! – стаффаж британского пейзажа никогда, ни при каких условиях нельзя было описывать как «крестьян». Крестьяне представляли собою строго континентальный феномен. «Вы что, не знаете истории? – напускался главный эксперт на какого-нибудь несчастного каталогизатора, совершившего эту btise[55]. – Крестьянское восстание Уота Тайлера произошло в тысяча триста восемьдесят первом году! После никаких крестьян в Великобритании не было!»
Английские селяне (Уильям Фредерик Уизерингтон. Сжатая нива. Холст, масло. Ок. 1840)
Поэтому только на континентальных картинах могли бражничать, пировать в тавернах и в трактирах крестьяне, пока за стенами оных трактиров псы сомнительной репутации облегчались на всевозможные деревья и кусты (а их надлежало описывать так: «ствол, облюбованный собакой»). На высоких ступенях социальной лестницы изысканное общество устраивало приемы, пировало и выезжало на охоту. История плавно перетекала в мифологию: нищие чередовались с вакханками, алхимики – с сельскими джентльменами, стреляющими уток, духовные лица – с шарлатанами. Магдалины каялись, Сципионы проявляли воздержанность, а Венеры возлежали. Нимф подстерегали сатиры, путти резвились на расписных картушах. Так в темном, плохо проветриваемом подвале на Кингс-стрит, в Сент-Джеймсе, возрождалась Аркадия.
По четвергам старшие директора нисходили с высот своего Парнаса, из светлых кабинетов на верхних этажах, в складские помещения, чтобы провести с каталогизаторами совещание. Они высказывали мнения о работе подчиненных, вносили исправления, принимали решения по поводу окончательной атрибуции и, не стесняясь присутствием самих картин, тут же назначали им цену. Это было испытательным полигоном и одновременно минным полем. Именно там сотрудник либо упрочивал, либо разрушал свою репутацию умными и тонкими или не совсем уместными замечаниями. Честолюбивые неоперившиеся юнцы не могли удержаться, чтобы по четвергам не явиться пораньше и заранее не просмотреть всю стопку картин, подготовив якобы импровизированные комментарии. Один злополучный коллега таким образом разведал кое-что о залитом лунным светом пейзаже кисти французской художницы. Он обнаружил на обороте картины, как ему показалось, имя автора, записал его и, едва рабочий-оформитель поднял пейзаж, выпалил: «Картина кисти Клэр де Люн[56], если не ошибаюсь?» Существовали и фразы-выручалочки, позволявшие выиграть время. «Вообще-то, неплохо, может быть, Йоос де Момпер или просто хорошая копия?» – с пристрастием вопрошал один из директоров. В таком случае следовало с задумчивым видом вглядеться в персонажей и спросить: «А не слишком ли они деревянные?» Еще можно было обратить внимание на то, как чудесно изображена листва. Или предположить, что небо на картине переписал какой-то не в меру ретивый реставратор. Не рекомендовалось повторять ошибку коллеги, осведомившегося однажды, не слишком ли «деревянные» на картине деревья.
Фламандские крестьяне (Давид Тенирс. Сельская сцена. Дерево, масло. Ок. 1650)
Современные каталоги аукционных домов и даже некоторые каталоги частных дилеров – массивные тома, поражающие ученостью. Если уронить такой из окна второго этажа на голову прохожего, беднягу можно убить. Это прекрасно иллюстрированные образцы полиграфического искусства, в мельчайших деталях представляющие каждый лот: его провенанс, выставки, на которых он экспонировался, публикации, где он упоминался, – и, кроме того, содержащие сведения о контексте и значимости картины или скульптуры. Эти описания предметов искусства имеют сугубо коммерческую природу и лишь притворяются научными статьями, насыщенными терминами. Любопытно сравнить аукционноеи музейное описание одной и той же картины. Вот версия из музейного каталога:
«Незавершенная картина, написанная художником в старости, ее тема – болезнь и приближающаяся смерть, она находит отражение и в темных, зловещих тонах; нижний фрагмент полотна лишь начат и остался незаконченным».
В этой краткой заметке наличествуют как минимум семь характеристик, включение которых в коммерческий каталог аукционного дома было бы равносильно самоубийству: «незавершенная», «старость», «болезнь», «приближающаяся смерть», «темные», «зловещие», «незаконченный». Поэтому описание в аукционном каталоге звучало бы так:
«Непосредственное и трогательное полотно, подводящее итог исканиям всей жизни художника, еще один вариант любимой темы, воплощение глубочайшего творческого озарения, для которого автор выбирает приглушенные тона и находит динамичное решение, прибегая к отчетливому лаконизму изобразительных средств в нижней части композиции».
Christie’s and Sotheby’s
«кристи» и «сотби»
Мне кажется, аукционы предметов искусства – абсолютно уникальный бизнес. Не знаю ни одной глобальной отрасли, в которой царила бы столь очевидная монополия двух конкурирующих компаний. Ни в чем не уступая друг другу, «Кристи» и «Сотби» соперничают по всему миру и продают картины и скульптуры в Лондоне и Женеве, в Нью-Йорке и Гонконге. Иногда один аукционный дом заявляет, что чуть-чуть обогнал конкурента, но тут же фортуна улыбается другому. Я отдаю себе отчет в том, как это происходит, потому что побывал сотрудником обоих. Между ними есть едва заметные различия, хотя внешне они кажутся необычайно схожими и в роде своей деятельности, и в методах ее осуществления. Оба имеют блестящую историю: «Сотби» был основан в 1744 году, а «Кристи» – в 1766 году. Успех обоих лондонских аукционных домов зиждется на долгом опыте и основан на простой формуле. «Мы ловим рыбу в мутной воде», – сказал торговец картинами Уильям Бьюкенен в 1824 году, и вот уже три столетия «Кристи» и «Сотби» продают сокровища, выброшенные на рынок смертью, разводами, долгами и ужасами войны.
Аукцион – идеальный способ продажи предметов искусства, товара, истинную ценность которого определить чрезвычайно сложно, ибо она необъективна, но с легкостью раздувается до невероятных размеров человеческой фантазией, честолюбием и соперничеством. К тому же стук падающего молотка воспринимается как нечто чудесное в своей неотвратимости и непреложности. Сделку, которую проводит арт-дилер, не столь легко завершить. Продавая произведение искусства, дилер устанавливает самую высокую отправную цену по своему усмотрению, и постепенно, по мере того как покупатели предлагают свою, снижает ее. На аукционе, напротив, отправная цена назначается низкая, в надежде, что ее поднимут своими стараниями любители искусства, стремящиеся во что бы то ни стало заполучить вожделенный предмет. Иногда эта тактика не оправдывает ожиданий аукциониста, но чаще приносит свои плоды. Произведения искусства на рынке достигают огромной стоимости благодаря лихорадке, царящей в аукционных залах: частные сделки никогда не вызывают такого ажиотажа и не сказываются так на цене картин и скульптур.
Со времен своего основания в XVIII веке вплоть до Второй мировой войны в сфере продажи произведений искусства лидировал «Кристи». «Сотби» продавал главным образом книги и не обладал достаточным опытом и репутацией, чтобы соперничать с ним, когда речь шла о торговле крупными художественными коллекциями. В конце XVIII века «Кристи» выставил на продажу драгоценности мадам Дюбарри, а затем, на протяжении XIX века, распродавал самые значительные коллекции аристократов: герцогов Бэкингема и Гамильтона, Бокклю и Сомерсета, графа Дадли и маркиза Эксетерского. Кроме того, «Кристи» посчастливилось выставить на торги картины из наследия великих художников: Гейнсборо, Рейнольдса, Лендсира, Россетти, Бёрн-Джонса и Сарджента.
Однако до Второй мировой войны «Кристи» уделял мало внимания изяществу помещений и удобству публики. Как писал в 1919 году французский художественный критик Рене Жампель:
«У этого знаменитого лондонского аукционного зала – свой неповторимый облик: в нем ничто не менялось более ста лет. Он просто удивителен! Его владельцы никак не потворствуют вкусу клиента, готового уплатить за картину двадцать, сорок, пятьдесят тысяч фунтов! В Англии, стране чистоты и комфорта, „Кристи“ имеет смелость пренебрегать любыми проявлениями уюта и даже не подметать полы, покрытые толстым слоем пыли! Картины ценою в несколько фунтов и полотна стоимостью в сотни тысяч вперемешку выкликаются на торгах и так же как ни в чем не бывало соседствуют на стенах. Они теснятся в три-четыре ряда, а самые прекрасные иногда и вовсе чуть видны под потолком».
Когда я впервые пришел на «Кристи» в 1973 году, там до сих пор царила чудесная, неповторимо британская атмосфера дилетантизма. Это было совершенно непонятное учреждение: не то закрытый аристократический клуб, не то музей – бастион британского истеблишмента, сотрудников которого отличала одновременно болтливость и сдержанность, надменность и ученость. Он мало напоминал «Сотби», который лидировал с пятидесятых годов и выглядел пугающе коммерческим предприятием. Один из директоров «Кристи», старый брюзга, втолковал мне, чем, по его мнению, мы отличались от «Сотби»: «Разница между нами и этими торгашами с Бонд-стрит в том, что среди нас нет гомиков!»
Вот до чего успех «Сотби» расстроил старую гвардию «Кристи». Справедливости ради, в те дни Питер Уилсон, директор «Сотби», действительно любил окружать себя красивыми (и одаренными) молодыми людьми. Если вам случалось в ту пору звонить в «Сотби», то вы помните, что на коммутаторе у них работал необычайно жеманный и манерный телефонист. Как-то раз звонивший попросил к телефону главу экспертного отдела: «Можно Джона Брауна?» – и услышал: «Почему бы и нет, если всем можно, всегда, сколько угодно, то почему вам нельзя? Соединяю». Но сексуальными предпочтениями различия не исчерпывались: «Сотби» был изобретателен, открыт для всяческих инноваций и умел делать деньги. Уилсону, блестящему, одаренному живым умом и воображением главе аукционного дома, мы в значительной мере обязаны созданием современного рынка предметов искусства.
Так сложилось, что оба лондонских аукциона издавна были оптовыми торговцами, в убогих условиях снабжавшими предметами искусства розничных торговцев помельче. В отношении роскоши и комфорта парижане намного опередили англичан. В 1919 году Жампель сравнивал лондонский «Кристи» с парижским аукционным домом Жоржа Пети, «который начинает с того, что привлекает клиентов уютом и комфортом, расставив в своей огромной галерее сотни обитых бархатом кресел. Он показывает им картины, подобно ювелиру, извлекающему из футляра сияющую драгоценность. Он полирует и золотит рамы и, разумеется, чистит и покрывает лаком холсты, которые затем в строго определенном порядке развешивает на стенах. Торги подготавливают тщательнее, нежели премьеру спектакля, даже устилая галерею дорогими коврами». Спустя сорок лет ковры появились и на полу «Сотби». Случилось это во время распродажи коллекции Якоба Гольдшмидта в 1958 году. Питер Уилсон добился права выставить на торги семь великолепных полотен импрессионистов из этого собрания. Он решил представить их публике на специальном аукционе, не предполагавшем продажи других картин и задуманном как подобие блестящего светского раута, из тех, на которые принято являться в смокинге. Роскошь и утонченность подействовали на всех завораживающе, а картины импрессионистов отныне стали продаваться за рекордную цену. Неожиданно аукционы превратились из коммерческих сделок, интересных разве что искусствоведам, в светские события.
А вот «Кристи» один мой знакомый французский арт-дилер как-то назвал «un peu constip»[57]. Тогда это меня неприятно удивило, но сейчас я полагаю, что он был прав. «Кристи» упрямо придерживался старых традиций. В семидесятые годы картины из Австалии, Южной Африки, Канады и других бывших британских доминионов сваливали в кучу и продавали в разделе, именовавшемся «колониальной торговлей». В эту категорию включались и картины американских художников: возникало впечатление, что по крайней мере в зале совета директоров «Кристи» время остановилось в 1766 году. Сильной стороной аукциона были связи с английскими аристократами, сотрудники «Кристи» были вхожи во дворцы и замки, на протяжении столетий снабжавшие аукционный дом предметами для продажи. Успех «Кристи» был основан на отчетливом осознании того, что любой англичанин в глубине души считает искусство чем-то странным, неловким и повергающим в смущение. Оно взывало к чувствам и уже этим было подозрительно; оно требовало спорить о вкусах, и, наконец, сами произведения искусства были чьей-то собственностью. Они кому-то принадлежали. Ну разве не проявление невыносимо дурного тона и не вторжение в личную жизнь владельца – публично высказываться о его собственности? О его картинах? О его винах? Что следующее – его жена? Вот почему один пожилой аристократ, обладатель славной коллекции, почувствовал себя оскорбленным, когда его сын пригласил погостить оксфордского друга, молодого Кеннета Кларка. «Не вздумай снова его привезти! – взорвался он. – Он меня истерзал вопросами о моих вещах!»
Старая гвардия «Кристи» в семидесятые производила весьма барственное впечатление. Она была последней, в ком воплотился специфически британский идеал дилетантизма. Мучительная неловкость, которую почтенные сотрудники аукционного дома вечно испытывали, давая оценку чьей-то собственности, может быть, и нежелательна для профессиональных экспертов в сфере искусства. Однако нельзя отрицать, что страдальческое косноязычие, овладевавшее ими всякий раз, когда требовалось публично произнести что-то столь бестактное, как мнение об эстетической или коммерческой ценности картины, находило глубокое сочувствие у их пожилых английских клиентов. Гольф, крикет и охота считались почтенными занятиями, в которых дозволялось даже слыть знатоком. Искусство же представлялось несколько декадентским. Старая гвардия признавала, что в профессиональной сфере она, конечно, вынуждена слегка соприкасаться с искусством, однако предпочитала убеждать клиентов в том, что она-де относится к исполнению своих не вполне безупречных с точки зрения хорошего вкуса обязанностей с беспечным дилетантизмом. Разумеется, она допускала существование в «Кристи» экспертов, занятых этим сомнительным ремеслом, но старалась не останавливаться на профессиональных тонкостях и не прибегать без нужды к специальным терминам.
«Принес продать ложки, старина? Само собой, рад помочь. Там у меня в хранилище сидит один тип, так он на них собаку съел. Читает клейма, или как там это называется, лучше меня не спрашивай!» А еще: «Хочешь толкнуть своего Рубенса? Конечно, можешь нам его сбыть. Согласен, от этих толстух просто тошнит. Сейчас вызовем мальца из подвала, и он оценит. Не пугайся, если он для каталога десятистраничное описание накатает. Это чтобы привлечь покупателей, они теперь такое любят». Таким образом продавца успокаивали, внушая, что он имеет дело с представителем своего круга.
Перед Джеймсом Кристи, основавшим аукционный дом в 1766 году, встала та же классовая дилемма. Джозеф Фарингтон записывает в дневнике в сентябре 1810 года: «Лорд Данстенвилл, говоря об аукционисте Кристи, выразил удивление, что человек, обучавшийся в Итоне и даже отличившийся там познаниями в области латыни и древнегреческого, примирился с неизбежностью или даже скорее по собственной воле выбрал поприще, на коем ныне и создал себе положение». Мучительное осознание двойственности этого ремесла не покидало совет директоров «Кристи» и полтораста лет спустя. К тому же среди сотрудников «Кристи» процветало этакое повесничанье во вкусе XVIII века. Помню, один из старших директоров поведал мне свой основополагающий принцип: никогда не принимать приглашение на охоту по средам. Он-де не в силах решить, к какому уик-энду эту среду присовокупить.
Современное искусство представлялось таким прирожденным консерваторам весьма подозрительным. В семидесятые годы они мучительно долго сопротивлялись затее устроить на «Кристи» продажи современного искусства. Старая гвардия в тиши зала заседаний совета директоров ухитрялась потешаться даже над Пикассо. За послеобеденным портвейном и бренди они любили вспоминать историю покупателя, который якобы попробовал вывезти из Испании картину Пикассо и был остановлен на границе вежливым таможенником, пресекшим попытку контрабанды на том основании, что это план военных укреплений Мадрида.
Когда мне впервые предстояло отправиться в заграничную командировку по делам аукциона, представитель старой гвардии отвел меня в сторонку и дал мне совет. «Помни одно, – объявил он, – иностранки ждут, что сигарету им зажжет мужчина». И покачал головой, не в силах поверить в существование столь вызывающе «антибританских» манер. Эта информация угрожающе затаилась в моем сознании бомбой замедленного действия. В Хитроу я купил коробок спичек. Уже в доме клиента, оценивая картины, я все еще нервно крутил его пальцами в кармане. Затем, во время ланча, мне указали место рядом с хозяйкой. Возле ее салфетки я увидел пачку «Мальборо». Боже мой, сейчас, вот-вот, сейчас… На кону стояла честь «Кристи» – да что там, честь всей Англии.
Это случилось, когда подали кофе. Боковым зрением я заметил, как хозяйка дома потянулась к «Мальборо». Плавным движением я достал из кармана коробок, вынул спичку и зажег. Однако в своем стремлении услужить я нажал слишком сильно, головка спички отлетела, упала мне на колени и подожгла мои штаны. Я кое-как потушил пламя салфеткой, но к этому времени хозяйка уже успела закурить. Я потерпел позорную неудачу. Такой урок в деле обслуживания клиентов я получил на начальных этапах карьеры.
К следующей заграничной командировке я купил зажигалку, совершив жест – символ преображения, через которое предстояло пройти «Кристи», чтобы выжить. И он действительно преобразился, наконец осознав, что иностранцы составляют значительную часть клиентов, и успешно открыв филиалы в Европе и Америке. Чаша весов склонилась в пользу «Кристи», и в начале восьмидесятых, в постуилсоновскую эпоху, тучи сгустились уже над «Сотби». Не хватало талантливых руководителей, которые могли бы его возглавить. Компанию попытались купить двое американцев, господа Свид и Коган, производители ковров. Их фирма носила название «Дженерал Фелт». Старая гвардия, еще остававшаяся к тому времени в «Кристи», немало повеселилась, твердя, что такого генерала нет в списке офицерского состава армии[58]. В конце концов «Сотби» приобрел другой американец, Альфред Таубман.
Спрос на искусство во всем мире: на аукционе покупатели со всего земного шара наперебой предлагают цену по телефону
В 1998 году настала очередь «Кристи» перейти в чужие руки: подумать только, «Кристи» купил француз! Воображаю, мой коллега, не ездивший на охоту по средам, перевернулся в гробу. Так что теперь обоим аукционным домам, приобретенным иностранцами, предстояло в какой-то степени утратить свою неповторимую английскую атмосферу и приобщиться к глобализации XXI века. Не все проходило гладко. Скандал с фиксированными комиссионными, разразившийся в 2000 году, стал симптомом радикальных перемен и напоминанием о том, что прежде нужно отвергнуть старые методы ведения дел, а уж потом только вводить новые. Картельное соглашение, заключенное главами «Кристи» и «Сотби» и предусматривавшее фиксированные размеры комиссионных вознаграждений, было раскрыто и урегулировано. Тем из нас, кто наблюдал за ходом драмы «изнутри», нетрудно было понять, почему это случилось. Причиной ее стало возвращение к принятым в старой доброй Англии дедовским методам заключения сделок, когда джентльмены договаривались обо всем за ужином в клубе. Участникам таких соглашений и в голову не пришло бы, что они нарушают закон. А если бы и пришло, они тем не менее ощущали бы себя в безопасности, ибо джентльмены не разглашают доверенных им секретов. Однако, с точки зрения американцев, они действительно поступали противозаконно. И в Америке нашлись люди, готовые разгласить конфиденциальную информацию. Все вместе являло собою классический пример недоразумения, вызванного различиями в английской и американской культуре.
По иронии судьбы, даже когда это картельное соглашение действовало, аукционные дома не получали сказочных прибылей. Они стремились не столько нажиться, сколько просто удержаться на плаву. Вознаграждения брокеров упали из-за постоянного соперничества двух домов, и в итоге прибыли остались крошечными. Чтобы понять, почему это произошло, достаточно взглянуть на людей, работающих на аукционах. Многие из них – специалисты высокого класса, страстно влюбленные в картины или предметы искусства, которыми они занимаются, и зачастую готовые довольствоваться самой скудной оплатой. Поэтому они прекрасно подготавливали и проводили торги, получая низкие доходы и наслаждаясь возможностью подержать в руках шедевр. Не могу припомнить иного вида коммерческой деятельности, уж по крайней мере ни одного, котирующегося на Нью-Йоркской фондовой бирже, где подобная приверженность чистоте и строгости отрицательно сказалась бы на коммерции. И все же это так. Потому и установление фиксированных комиссионных стало своего рода механизмом внутреннего регулирования, наложением ограничений не только на клиентов, но и на собственных сотрудников.
«В конце концов все достается не червям, а аукционистам, – писал Джордж Литтлтон Руперту Харт-Дэйвису в 1958 году. – После страхования аукционное дело, разумеется, самый безопасный вариант мошенничества: аукционисты ничем не рискуют, получают проценты от сделок, а заключать их можно бесконечно, учитывая, что одни и те же картины часто продаются снова и снова. А самодовольные-то они какие, точно сами создают шедевры, которыми торгуют». Однако похоже, что в XXI веке аукционные дома действительно создают если не шедевры, то по крайней мере репутации, особенно на рынке современного искусства. Принять произведение начинающего современного художника на вечерние торги, где представлено лучшее, – значит признать его значимость и укрепить позиции его бренда. Точно так же выпуск каталога продаж, целиком посвященного одному художественному течению, например сюрреализму, равносилен его высокой оценке и служит верным признаком его популярности на рынке [см. главу II «Сюрреализм»].
За последние пятьдесят лет рынок предметов искусства кардинальным образом изменился, а вместе с ним и та роль, которую играют в его структуре аукционные дома. Наиболее важным было их превращение из оптовых компаний, по низким ценам продающих целые коллекции розничным торговцам антиквариатом, в могущественные коммерческие структуры, обращающиеся непосредственно к индивидуальному покупателю, последнему звену цепи. В ходе этих изменений, с одной стороны, были потрачены на маркетинг огромные средства, а с другой – хитроумные финансовые механизмы стали использоваться для того, чтобы обеспечить покупку и продажу предметов искусства по все более высоким ценам [см. ниже раздел «Деньги»]. Это стало возможным благодаря по-прежнему высочайшему, непревзойденному качеству художественной экспертизы, которую предоставляют «Кристи» и «Сотби». Пока оно будет оставаться на этом уровне, я предрекаю их дальнейшее двоецарствие.
Collectors
Коллекционеры
Не все, кто покупает произведения искусства, – коллекционеры. Коллекционер покупает предмет искусства главным образом из любви к нему и ради восприятия оного предмета в контексте других картин и скульптур, уже наличествующих в его собрании. Лучшие коллекции предметов искусства – это самостоятельные произведения, совершенно очевидно несводимые к сумме своих составляющих. Когда коллекция является результатом индивидуальных творческих усилий конкретного владельца, она зачастую производит более благоприятное впечатление, нежели случайное скопление ценных экспонатов в музее. Это вовсе не означает, что коллекционеры сплошь бескорыстные альтруисты, чуждые любых позорных соображений о финансовой стоимости своих собраний. Произведения искусства ныне столь дороги, что никто не может позволить себе подобного идеализма. К тому же любой коллекционер волей-неволей рассматривает приобретенное великое произведение искусства как трофей и явно будет гордиться, демонстрируя его знакомым. Впрочем, вы узнаете коллекционера, когда с ним столкнетесь. Он не похож на человека, покупающего картины и скульптуры для того, чтобы повысить свой статус или просто украсить дом [см. ниже раздел «Символ статуса (искусство как)»].
Когда Пола Меллона, предложившего на аукционе рекордную по мировым стандартам цену за «Мальчика в красном жилете» Сезанна, спросили, не переплатил ли он, он возразил: «Неужели вы, стоя перед такой картиной, можете думать о деньгах?» Аукционистам и арт-дилерам эта история пришлась весьма по вкусу. Она вселяет в них уверенность. Однако она наглядно показывает, что может случиться, если настоящий коллекционер, располагающий огромными средствами, одержим желанием во что бы то ни стало приобрести редкое произведение искусства. Как-то раз мне пришлось по телефону вести торги от имени клиента, страстно жаждавшего купить великолепную скульптуру Джакометти, «Шагающего человека». Эту бронзовую статую очень редко выставляют на аукцион. Коллекционер мечтал о ней всю жизнь. Те три-четыре минуты, пока я предлагал от его имени цену, навсегда останутся у меня в памяти. Его совершенно не трогало, на сколько каждый раз возрастает цена, единственное, что его волновало, была скульптура и возможность обладать ею. С каждой новой ценой пульс торга учащался, а напряжение сделалось почти невыносимым. Когда наконец раздался стук молотка, мой клиент купил ее за шестьдесят пять миллионов фунтов, в то время самую крупную сумму, когда-либо уплаченную на аукционе. Однако он сам того не заметил – столь велико было его облегчение, радость и восторг. Приобретение «Шагающего человека» стало апогеем его карьеры.
Сегодня, более, чем когда бы то ни было, коллекционеры должны быть богаты. Однако дело не всегда обстояло так. Прежде проницательный коллекционер, обладавший скромными средствами, мог распорядиться ими весьма успешно. Архетип подобного коллекционера – кузен Понс Бальзака, который взял себе за правило никогда не тратить на картину больше ста франков. Тем не менее в 1810–1840 годах ему удалось собрать превосходную коллекцию старых мастеров, тщательно «просеяв» сорок пять тысяч холстов, регулярно переходивших из рук в руки на парижских торгах. Понс – один из наиболее симпатичных героев Бальзака. Ему свойственны обаяние и чистота, выгодно отличающие его от коварных негодяев, которые его окружают. Коллекция для него – дело всей жизни. Бальзак говорит о страсти коллекционера, одной из наиболее глубоких и соперничающих даже с тщеславием творчества.
Понс – вымышленный персонаж; подлинным парижским коллекционером подобного склада примерно двадцать-тридцать лет спустя стал Виктор Шоке. Он принадлежал к первым собирателям импрессионистов, абсолютно убежденным в их художественной значимости, когда над ними только издевались. Однако денег у него было мало. Он служил чиновником Таможенного ведомства. В 1870е годы его доход не превышал шести тысяч франков в год, а девятьсот шестьдесят из них приходилось отдавать за аренду скромной четырехкомнатной квартиры на рю де Риволи. И все же ему удалось собрать отличную коллекцию импрессионистов, часто покупая картину за каких-нибудь триста франков. Когда в 1880е годы Шоке наконец разбогател, получив наследство жены, восторг, который вызывало у него современное искусство, несколько поугас. По-видимому, он относился к числу немногих коллекционеров, движимых страстью первооткрывателя, а энтузиазм его подогревался еще и отсутствием средств.
Настоящие тигры, короли коллекционных джунглей, ныне происходят из семей коммерсантов. Именно в этой среде были нажиты огромные состояния, необходимые, чтобы предаваться столь дорогому увлечению, как собирание картин. К счастью, многие из этих коллекционеров-коммерсантов были еще и филантропами. В Америке, где в силу режима налоговогоблагоприятствования выгодно завещать коллекции публичным музеям, некоторые из них обогатили свои собрания благодаря щедрости богачей. С точки зрения коллекционера, отдать картины музею означает в качестве возмещения ущерба обрести бессмертие, ведь они будут пребывать там, где многие поколения зрителей будут ими восхищаться. Так Метрополитен-музей принял коллекцию Хейвмейера, чикагский Институт искусств – собрание Поттера Палмера, а коллекцию Пола Меллона поделили вашингтонская Национальная галерея и Художественная галерея Йельского университета. В Великобритании с ними может сравниться только деятельность Сэмюэла Куртолда. Его наследие не исчерпывается сокровищами одноименного института: собрание французской модернистской живописи в галерее Тейт было бы куда менее представительным, если бы не безупречный вкус и щедрость, проявленные им в двадцатые – тридцатые годы. В России наследие двух великих коллекционеров, Сергея Щукина и Ивана Морозова, почти неприкосновенным перешло в фонды Государственного Эрмитажа в Петербурге и Пушкинского музея в Москве. Оба они, до Первой мировой войны покупавшие картины в мастерских Пикассо и Матисса, соответствовали описанному типу, поскольку происходили из купеческих семей. Однако они передали свои великолепные собрания французской модернистской живописи государству не добровольно. После революции 1917 года их картины были конфискованы новыми властями.
Виктор Шоке, один из первых коллекционеров живописи импрессионистов, на рисунке Сезанна
Впрочем, не все значительные современные коллекционеры были промышленниками. Встречались среди них и художники, продолжатели давней традиции Джошуа Рейнольдса и Томаса Лоуренса, собиравших картины старых мастеров. К их числу можно отнести и Дега, несравненная эстетическая проницательность и страстная увлеченность которого позволяли ему выбрать истинные шедевры. А в наши дни не суждено ли Дэмиену Хёрсту, одному из немногих художников, обладающих достаточными средствами, чтобы конкурировать с самыми богатыми ценителями, войти в историю не столько благодаря собственным творческим достижениям, сколько собранной коллекции предметов искусства? Существуют и влиятельные коллекционеры-арт-дилеры: так, Эрнст Байелер и Хайнц Берггрюн в течение своей дилерской карьеры собрали достаточно прекрасных произведений искусства, чтобы одарить чудесные музеи. Подобные жесты требуют немалой решимости: я по опыту знаю, как трудно бывает дилеру провести границу между своими фондами и личной коллекцией.
Иногда неожиданные приобретения работ того или иного художника объясняются симпатией, которую испытывал к нему коллекционер. По временам коллекционер, начисто лишенный проницательности и вкуса, вдруг покупает великолепное произведение: ни дать ни взять обезьяна с пулеметом, рано или поздно все-таки попадающая в цель. Однако очевидный трэш у известного коллекционера встречается редко. Как-то раз мы выставили на торги прескверный рисунок Пикассо. Он явно был выполнен художником в один из дней, когда вдохновение ему не сопутствовало. Меня поразило, что купил его Стэнли Сигер, один из наиболее тонких и одаренных современных коллекционеров, непревзойденный знаток Пикассо. Впоследствии он объяснял свой поступок так: «Знаешь, я просто не мог его не купить. Он настолько неудачный, что надо было любым способом изъять его из обращения».
Dealers
Арт-дилеры
Ремесло арт-дилера, как мы знаем его сегодня, было изобретено в Париже Полем Дюран-Рюэлем. Именно он открыл миру импрессионистов. До семидесятых годов XIX века существовало немало торговцев антиквариатом, но их целью была покупка и продажа картин старых мастеров, давно признанных и по большей части уже покинувших этот мир. Так антиквары зарабатывали себе на жизнь. Среди них были и те, кто обосновался в Италии и стал снабжать предметами искусства аристократов, совершающих «гранд-тур». Иногда торговцы и сами писали картины. Проводимая ими экспертиза заключалась в установлении происхождения и в попытке не без оснований, хотя и слишком оптимистично, атрибутировать картину. Некоторые молодые аристократы, знакомившиеся с красотами Италии, оказывались способными учениками и вскоре сами начинали торговать предметами искусства. Даже Георг III как-то в минуту просветления заметил, что все его придворные отныне принялись продавать картины. Вальтер Скотт выразил опасения по этому поводу в 1827 году: «Боюсь, что торговля предметами искусства, как и верховая езда, – профессиональное поприще, на коем джентльмен не может подвизаться, не утратив некоторых своих отличительных черт».
Статус торговца картинами существенно меняется во второй половине XIX века, так как по-новому начинает восприниматься роль художника. Романтизм всячески подчеркивал индивидуальную неповторимость гения. Постепенно торговец современным искусством осознал, что его миссия отныне заключается в том, чтобы сделать творения этого гения доступными публике. До середины XIX века французский художник продавал картины, экспонируя их в Салоне (на ежегодной выставке приверженцев эстетического консерватизма и академизма), и так упрочивал свою репутацию. Однако поскольку этот путь был закрыт для импрессионистов, на помощь им пришел Дюран-Рюэль и стал всячески продвигать и поддерживать отдельных художников этого направления, заняв позицию истолкователя нового, «сложного» искусства. Он ввел в обиход выставки одного художника, поставляя и продвигая на рынке творческие индивидуальности. Он использовал все свои связи, чтобы обеспечить им положительные художественные рецензии во влиятельных газетах. А еще он открыл им Америку с ее новым, привлекательным рынком.
Деятельное создание брендов художников, подобных товарным, выплата им регулярных пособий, организация ряда хорошо продуманных коммерческих выставок их работ в различных галереях, по мере того как картины растут в цене, – все это составляющие сложного и изощренного рынка предметов искусства в XXI веке. Однако их открыл, впервые обеспечив таким образом коммерческий успех импрессионистов, именно Дюран-Рюэль в конце XIX века.
Дюран-Рюэль провозгласил, что в торговле предметами искусства важна не торговля, а искусство. В своих собственных корыстных интересах он создал образ торговца картинами – идеалиста и первооткрывателя талантов, бескорыстного героя, почти сравнимого с самим художником в эстетической проницательности, безошибочной оценке работ и самоотверженном служении гению. Даже в 1896 году, когда импрессионизм уже хорошо продавался, Дюран-Рюэль по-прежнему утверждал: «Я весьма придирчиво отношусь к картинам, которые покупаю, и, если бы я был не столь разборчив, клиентов у меня точно прибавилось бы. Что ж, отчасти это верно. Никто не станет упрекать торговца картинами, желающего честно получить прибыль. Однако Дюран-Рюэль хитроумно использовал собственное благородство и великодушие в качестве маркетингового инструмента. С тех пор подобная тактика широко применяется в торговле, даже сейчас. «Уж лучше я продам картину вам, ведь вы понимаете ее ценность, а не дельцу, которому совершенно все равно. Даже если я не получу большой прибыли, не важно». Или если дилер – по-настоящему хитрая лиса: «Я показал вам то же, что всем и всегда. Но наверху у меня несколько действительно великолепных картин, я показываю их лишь избранным клиентам, способным постичь их прелесть». Таким тактическим приемам очень трудно противиться, ведь они льстят покупателю и возвышают его в собственных глазах, а с другой стороны – незаметно убеждают его купить. Заслуга Дюран-Рюэля в том, что он создал образ нынешнего арт-дилера, повышающего культурный уровень своих клиентов, арт-дилера – жреца, посвящающего их в мистерии современного искусства.
«Вши на спинах художников» – так Дюшан определял торговцев картинами. Это не совсем честно, да и сам он признавал, что торговцы художникам необходимы. Однако его брань – свидетельство нового типа отношений, сложившихся между живописцами и теми, кто продает их работы. По мере того как современное искусство становилось все более элитарным и трудным для понимания, истолкователь, интерпретатор в облике арт-дилера сделался ключевой фигурой в процессе продажи. Он обусловливал не только эстетическую, но и коммерческую сторону вопроса. Мэри Кассатт писала в 1904 году: «Сегодня, в дни господства коммерции, художнику нужен „посредник“, который объяснил бы достоинства картины или гравюры, то есть, в сущности, „произведения искусства“, потенциальному покупателю и убедил бы его, что нет лучшего вложения денег, чем в „произведение искусства“». Несколько талантливых брокеров блестяще исполнили эту роль в начале ХХ века: Амбруаз Воллар, Пауль Кассирер, Даниэль Канвейлер и Леонс Розенберг (памятное описание внешности которого оставил Рене Жампель: «высокий, элегантный блондин, напоминающий розовую креветку») внесли решающий вклад в признание французского модернизма.
Зачастую им приходилось преодолевать трудности. Торговец картинами в роли посредника между публикой и художником рисковал заслужить неодобрение и разрушить собственное дело. Коллекционеры, стремившиеся получить непосредственный доступ к художнику, считали дилера досадным препятствием на своем пути. Что-то подобное мы наблюдаем и сегодня. «Напыщенным, жаждущим власти и надменным, этим законодателям хорошего вкуса подошло бы место вышибалы в ночном клубе, пусть бы там пропускали одних и отказывали другим», – поносил арт-дилеров Чарльз Саатчи.
На протяжении ХХ столетия могущество арт-дилеров возрастает. «Живопись – самое прекрасное занятие, оно уступает только торговле живописью», – дразнил Рене Жампеля художник Жан Луи Форен в 1919 году. В том же году Жампель отправляется на аукцион «Кристи» и становится свидетелем того, как английские торговцы картинами изяществом манер и облика начинают затмевать своих титулованных клиентов (сегодня следовать их примеру опасно): «Торговцы антиквариатом носят гвоздики в петлицах. Их галереи иногда производят отвратительное впечатление, но сами они джентльмены». Он описывает беседу «двух господ: один – в безупречно сшитом сюртуке, другой – краснолицый, неуклюжий, с брюшком, – ни дать ни взять персонаж из тех, что веселятся в тавернах на дешевых гравюрах, изображающих охотничьи сцены. Первый – торговец картинами, второй – лорд». Некоторым торговцам картинами, например Джозефу Дювину, даже был пожалован титул лорда. Кое-кого посвятили в рыцари. ХХ столетие воистину золотой век арт-дилеров, во власти которых создать и репутацию художника, и коллекцию, овеянную немеркнущей славой. История современного европейского и американского искусства написана в равной мере художниками и арт-дилерами.
В XXI веке арт-дилеры задействовали еще один механизм привлечения покупателей: сегодня такие крупные дилеры, как «Пейс», «Гагосян» и «Белый Куб», достаточно богаты, чтобы превратить свои галереи в подобие музеев современного искусства. Они устраивают выставки на уровне, который сделал бы честь любому известному музею, и показывают зрителям шедевры, на время предоставленные музеями и создающие контекст и фон двум-трем произведениям, выставляемым на продажу. Структура и охват их деятельности соответствуют нынешней глобализации: они привлекают еще не снискавшие известность таланты, предлагая им выставки в собственных залах в Нью-Йорке, в Лондоне или в Риме, в Мумбаи, в Сан-Паулу или в Гонконге. Их сотрудники сидят, прильнув к мониторам, за столами, поставленными в ряд, как в трейдерском зале на бирже. Их операции под стать серьезным коммерческим сделкам.
«Возблагодарим же Господа за тех, кого намереваемся обмануть». Молитва арт-дилеров – беспечное признание в том, что – так уж сложилось! – торговцам предметами искусства была свойственна разная степень честности и обаяния. Среди них есть ученые, есть коммерсанты. У каждого собственная стратегия продаж. И преимущество, и недостаток искусства заключается в том, что дилер выставляет на рынок товар, лишенный ясной объективной ценности. Предмет искусства обретает ее, только когда находит покупателя, и ровно в размере той стоимости, которую дилер убеждает его заплатить. Добиться этого можно, сыграв на жадности, мании величия или на чувстве социальной незащищенности, мучащем клиента. Финансовое могущество крупного торговца картинами наглядно демонстрируют желчные дневниковые записи Мэри Кассатт в сентябре 1886 года. Она посоветовала американцу по фамилии Томпсон, приехавшему в Париж, купить Моне не у Дюран-Рюэля, а у менее известного дилера Портье. Хотя Портье предложил ему две хорошие картины Моне по самым низким ценам, какие только можно вообразить, Томпсон, как пишет Кассатт, «предпочел приобрести одного Моне у Дюрана за три тысячи франков. Я оскорблена! Я посоветовала ему купить дешево, но, полагаю, он из тех, кто склонен платить втридорога. Почти не сомневаюсь, что картины у Портье были лучше». Несомненно, бренд произведения искусства создается не только авторством, но и продажей особенно известным дилером с громким именем, поэтому Моне, купленный у Дюран-Рюэля, в сущности, более ценен, нежели Моне, купленный у Портье. Верно также, что начинающему собирателю, который открывает для себя таящий опасности, необычный мир искусства, высокая цена представляется гарантией качества. Впервые занявшись арт-дилерством, я долго не мог понять, почему прекрасный пейзаж начала XIX века, висевший на стене моей галереи, совершенно не привлекает покупателей. Меня надоумил мой друг Джаспер. «Он слишком дешевый. Ты назначил слишком низкую цену, – сказал он. – Удвой ее». Не прошло и недели, как я продал пейзаж.
Лорд Дювин: торговец картинами, изяществом манер и облика затмивший своих титулованных клиентов (сегодня следовать его примеру опасно)
Мой собственный дилерский опыт оказался вполне бесславным. Он выпал на 1987–1993 годы: на первые три года пришелся невиданный прежде бум продаж, а на оставшиеся три – столь же невиданный спад. До 1990 года трудно было не снискать успеха. Запас японских денег казался неисчерпаемым, и коллекционеры не жалели средств для покупки импрессионистов и художников XIX века, особенно если речь шла об известных именах. Под галерею мы сняли на Джермин-стрит помещение на втором этаже, очень просторное, занимавшее боковой фасад сразу двух зданий. Оставалось решить вопрос снабжения товаром. Казалось, вот-вот, совсем чуть-чуть – и можно будет отойти от дел и зажить в роскошной праздности, на вилле где-нибудь в Южной Франции.
А потом, в августе 1990 года, все внезапно обрушилось. Последовал крах японского фондового рынка, а Саддам Хусейн захватил Кувейт. Процентные ставки взлетели вверх. Неожиданно оказалось, что картины никто покупать не хочет. Я решил было, что вся беда в неудачном расположении галереи. Она находилась над двумя магазинами: знаменитым сырным «Пакстон-энд-Уитфилд» слева и бутиком «Флорис», специализировавшимся на продаже мыла и ароматических масел, справа. Что ж, все просто, подумал я: перевесим картины во флорисовский конец. Но даже эта мера ничего не изменила. Нам с моим коллегой Генри Уиндемом ничего не оставалось, как после обеда ходить в кино: мы пересмотрели на дневных сеансах весь репертуар Вест-Энда.
Мой друг Джаспер – популярный, наделенный безупречным вкусом арт-дилер, скрывающий свою эстетическую проницательность под маской циничного торговца подержанными машинами. Он составил список фраз, которые дилер предпочел бы никогда не слышать от клиентов. Как правило, они начинаются одинаково, с четырех невинных слов:
«Мне нравится картина, но я хотел бы, чтобы на нее взглянула моя жена». Классическая уловка. Если клиент такое сказал, сделка не состоится.
«Мне нравится картина, но мой консультант говорит, что в этом финансовом году больше ничего покупать нельзя, не то налоги меня совсем разорят». Дилер получает сразу две оплеухи: во-первых, сделка не состоится, а во-вторых, клиент дает ему понять, что он во много раз богаче.
«Мне нравится картина, но я хотел бы не покупать ее, а обменять на свою». Далее клиент предлагает дилеру совершенный трэш, который у него же и купил пять лет тому назад.
«Мне нравится картина, но я посмотрел на Артнете…» Артнет изменил весь облик нашего бизнеса. Это сайт, на котором выкладываются цены всех картин, проданных на аукционе за последние двадцать пять лет. На него может зайти любой потенциальный клиент. Он знает, что в цену дилер включил издержки производства. Знает, сколько стоят похожие произведения искусства. Он полагает, что знает все. Это катастрофа.
«Я художник. Пришел предложить вам для продажи свои картины». Убирайся из моей галереи.
Дойдя до крайности, кажется, во время рецессии начала девяностых, когда картины совсем перестали покупать, Джаспер придумал план «Б»: «Соберу все свои фонды у себя в галерее, а потом подожгу ее к чертовой матери. Есть один китаец, он берется все сделать, абсолютно конфиденциально, за пару косых. Могу предложить нескольким близким друзьям место в кладовой, пусть принесут туда свои сокровища. Так я снижу стоимость услуги. А потом – какая прелесть, страховые выплаты. Можно только мечтать».
Этот план так и не был реализован, но помню, как Джаспера заинтересовал пожар, случившийся в Лондоне в мае 2004 года в хранилище фирмы «Момарт». Дотла сгорели инсталляции Трейси Эмин и братьев Чепмен, ценные экспонаты из галереи Чарльза Саатчи. Нет, разуверял я Джаспера, это не план «Б», который кто-то привел в действие по твоей схеме. Это трагическая случайность, воля Божия. Джаспер задумчиво кивнул. «В этом-то все и дело, – сказал он. – В искусстве Бог ничего не понимает, зато прибирает то, что Ему нравится».
Le Ronde[59]
Вообразите, скажем, позднего Миро, яркого, эффектного. Вы – арт-дилер, пытающийся честно заработать на хлеб, и клиент поручает вам без лишнего шума продать такого Миро частному коллекционеру. Он сообщает, что хочет получить за картину четыре с половиной миллиона долларов. Вы заказываете прекрасные фотографии, тщательно готовите роскошный каталог, а потом посылаете по электронной почте эти фотографии и детали сделки клиенту, которого специально присмотрели, – нью-йоркскому коллекционеру, уже давно мечтающему о чудесном позднем Миро. В письме вы приводите цену четыре миллиона девятьсот тысяч фунтов, включая ваши скромные комиссионные (четыреста тысяч) и останавливаясь как раз чуть ниже психологически труднопреодолимой границы в пять миллионов.
Клиенту картина нравится, однако он хочет проконсультироваться у другого, нью-йоркского дилера – пусть посоветует, сколько за нее платить. За нее просят четыре миллиона девятьсот тысяч, говорит клиент, стоит она того? Нью-йоркский дилер уклоняется от прямого ответа, ведь он сам испытывает искушение купить ее за эту цену: знакомая девица, дизайнер интерьеров, только что просила его раздобыть такого Миро для клиента, дом которого она как раз оформляет. Поэтому он показывает ей фотографии и называет цену в пять миллионов триста тысяч (включая собственные комиссионные – четыреста). Девица-дизайнерша передает фотографии клиенту, присовокупив, что Миро стоит пять миллионов восемьсот тысяч (включая свои комиссионные).
Жена клиента дизайнерши отвергает Миро, поскольку он не подходит к ее занавескам, но показывает фотографии своему тренеру по фитнесу, у которого есть побочный заработок – торговля картинами – и который припоминает одного русского: он с ним играл то ли в гольф, то ли в крикет в Лайфорд-Ки, и этот русский тоже любит Миро. Почему бы не переслать ему фотографии, разумеется с собственной наценкой? Назвать цену, скажем, в шесть с половиной миллионов? Русский хмурится и показывает снимки своему арт-консультанту, по совместительству своей подруге. Она решает его провести и тайком пересылает фотографии богатому китайцу из Гонконга, который, как ей кажется, скорее готов заплатить за Миро рекордную цену; разумеется, она включает и свое вознаграждение: получается семь с половиной миллионов.
Клиент-китаец намерен убедиться, что его не надуют, и потому обращается к знакомому дилеру во Франции, который, в свою очередь, припоминает дилера в Лондоне – он-то как раз и говорил ему, что ищет позднего Миро для одного своего клиента, – и решает передать ему эту конфиденциальную информацию. Этот лондонский дилер – вы. Вот поэтому спустя месяц с небольшим, в тот самый день, когда вы звоните первому, нью-йоркскому коллекционеру, чтобы спросить, не покупает ли он в конце концов Миро, которого вы предложили ему за четыре миллиона девятьсот тысяч, дилер из Франции предлагает вам эту же картину за восемь с половиной миллионов.
Emerging markets
Новые рынки
Первым оценил потенциал новых, зарождающихся рынков вездесущий парижский торговец Поль Дюран-Рюэль, который в 1886 году привез в Нью-Йорк доселе невиданные картины французских импрессионистов. Со времен Гражданской войны американская экономика переживала феноменальный бум, и страна была вполне готова воспринять и приобретать новое, авангардное европейское искусство. Примерно десять лет спустя внимание парижских антикваров привлекла бурно развивающаяся экономика Германии, ведь жизнь научила их, что там, где быстро наживаются состояния, нетрудно найти начинающих коллекционеров. Свидетельство успеха этой стратегии – большое число выдающихся картин и скульптур французского модернизма, оказавшихся в немецких коллекциях на рубеже XIX–XX веков.
Экономике свойственна цикличность, и новые возможности появляются снова и снова. Желая произвести впечатление на коллег по ремеслу, арт-дилер в конце восьмидесятых мог похвалиться количеством японцев среди своих клиентов и доскональным знанием их вкусов и капризов. К сожалению, относительно того, какими принципами следует руководствоваться, чтобы вести успешный бизнес в Токио, между западными дилерами не было согласия. «Ради всего святого, не предлагайте им пейзажи со скалами! – заверял меня один. – Японцам они внушают ужас». «Держитесь прямо! – наставлял другой. – Японцы испытывают почтение к высоким. Им кажется, что они ближе к богу». «Не пытайтесь продать им картины с воронами!», «Ни под каким видом никогда не смущайте их!», «Не спорьте, если они сбивают цену», «Ни за что не позволяйте им торговаться!».
Поэтому нет ничего удивительного в том, что, впервые оказавшись в апартаментах японского коллекционера, я не знал, как себя вести. Оказалось, что мистер А., один из самых известных покупателей импрессионистского искусства, раскован и обаятелен. Единственное, что приводило меня в некоторое замешательство, – это отсутствие картин на стенах. Их украшала только стайка каких-то невзрачных документов в рамочках. Может быть, господин А. принадлежал к японским коллекционерам старой школы, полагавшим, что выставлять напоказ свои приобретения вульгарно? Я предположил, что из секретного хранилища вот-вот доставят несколько сокровищ, чтобы я мог ими насладиться. Но мы вежливо беседовали уже минут двадцать, а шедевры мне показывать не спешили. Наконец я не выдержал и спросил, где картины.
– Картины?
– Да, картины. Я бы очень хотел их увидеть.
На лице его изобразилось смятение, как будто я задал не совсем приличный вопрос.
– Картин здесь нет.
– Гм… И где же они?
– Они слишком ценные, чтобы держать их дома, – терпеливо пояснил он. – Картины в банковском хранилище.
Вместо этого он показал на стайку документов в рамочках и поманил меня к ним. Оказалось, что это сертификаты подлинности, все аккуратно вставленные в бархатистые паспарту. Тут-то мне и стало понятно, что коллекционировать произведения искусства в наши дни означает всего лишь вкладывать деньги в ценные бумаги.
Рекорд, поставленный японским рынком: полотно Ренуара в 1990 году ушло за 78 000 000 долларов (Огюст Ренуар. «Бал в „Мулен-де-ла-Галетт“». Холст, масло. 1876)
В последние двадцать пять лет характерной чертой международного рынка предметов искусства стало растущее стремление молодых экономик формировать и увеличивать спрос на западноевропейские и американские картины и скульптуры. Японцы первыми за пределами Европы и Америки стали вкладывать деньги в произведения искусства. Мода на картины французских импрессионистов, охватившая Японию в семидесятые – восьмидесятые годы, зародилась за сто лет до этого. В конце семидесятых годов XIX века японские студенты стали приезжать в Париж, чтобы обучаться западной живописи на оригиналах. Они тотчас прониклись склонностью к импрессионизму и передали эту любовь своим соотечественникам. В последующие сорок-пятьдесят лет японские коллекционеры начали приобретать картины импрессионистов, а затем включили в число своих любимцев также Ван Гога и постимпрессионистов.
Совокупность экономических факторов привела к тому, что на конец восьмидесятых годов пришелся апогей интереса японцев к живописи. Благодаря послевоенному восстановлению хозяйства и политической стабильности в Японии начался период процветания. Значительно выросла стоимость иены, в 1985–1987 годы ее покупательная способность увеличилась на сто процентов. Картины Моне, Ренуара, Сезанна и Ван Гога наводнили японские коллекции. Западным арт-дилерам и аукционистам давно так не везло. Японские коллекционеры побили все мыслимые рекорды в мае 1990 года, когда господин Саито, глава компании «Дайсёва Пейпер Маньюфэкчеринг», приобрел на аукционе «Бал в „Мулен-де-ла-Галетт“» Ренуара за семьдесят восемь миллионов долларов и «Портрет доктора Гаше» кисти Ван Гога за восемьдесят два миллиона.
А летом 1990 года случилось неизбежное: японский фондовый рынок, с его спекулятивными продажами акций, обрушился, а его индексы устремились вниз. Внезапно японские дельцы утратили всякий интерес к искусству. Но господина Саито это совершенно не обескуражило. Он объявил, что приобрел Ренуара и Ван Гога не для того, чтобы впоследствии выгодно перепродать, а исключительно из любви к этим художникам. Более того, из любви столь великой, что потребовал после смерти похоронить их вместе с ними. Западные искусствоведы, услышав об этом, пришли в ужас.
Реакцией на уход японцев с рынка, естественно, стало падение цен на импрессионистов. Как только пыль улеглась, всплыла нелицеприятная правда о том, для чего многие японцы покупали их картины. Некоторые использовали баснословно дорогое западное искусство для переправления денежных потоков, именуемого по-японски «дзайтеку», проще говоря, для финансовых махинаций. В руках беспринципных дельцов картины становились инструментами отмывания денег или налоговых афер. Картину, купленную в Нью-Йорке, скажем, за два миллиона долларов, вскоре продавали в Токио за восемь миллионов, чтобы создать «смазочный фонд» для подкупа чиновников и политиков. Ренуара включали в качестве довеска в сделку с недвижимостью, дабы обойти ограничения, установленные законом для банковских ссуд на подобные операции. Картинами подкупали политиков. Посредственного Моне дарили политику, а потом выкупали за сумму, в десять раз превосходящую исходную стоимость.
Сегодня японцы по-прежнему покупают Моне на аукционах, однако это уже не одержимые жаждой наживы дельцы, а прекрасно образованные коллекционеры. А господин Саито, ныне, к сожалению, покойный, отказался от своего эксцентричного намерения и не унес импрессионистские трофеи с собой в могилу. Я счастлив сообщить, что две эти великие картины по-прежнему нас радуют.
Новыми, развивающимися рынками западного искусства стали Китай, Юго-Восточная Азия, Индия, Ближний Восток, Россия и Бразилия. Глобализация воистину вступила в свои права: сегодня покупатель Моне или Уорхола может быть не только европейцем или североамериканцем, но и русским, китайцем или бразильцем. По-видимому, как только страна добивается существенного экономического роста, ее богатые граждане неизбежно начинают приобретать западное искусство. Не важно, где именно на земном шаре она находится: новых богатых в этих экономиках привлекают европейские и американские модернисты. Для них это символ статуса? Зачастую да. Реклама богатства. Для многих нуворишей стремительно развивающихся рынков Моне или Уорхол – еще один роскошный бренд, вроде сумочки от Гуччи, платья от Лакост или спортивного автомобиля «феррари». Обладание подобным трофеем подтверждает в их глазах принадлежность к наднациональной элите, к меньшинству, владеющему несметным богатством в Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, в Париже и Мумбаи, в Москве и Шанхае. Представителей этого избранного круга объединяет с подобными себе куда больше общих черт, нежели с соотечественниками.
Однако не все коллекционеры западного искусства в новых экономиках движимы желанием заполучить бренд. Существуют и покупатели, наделенные вкусом и эстетической проницательностью; они составляют хорошо продуманные коллекции и открывают музеи. Например, утонченные, хорошо образованные русские с удовольствием продолжают традиции великих дореволюционных коллекционеров Сергея Щукина и Ивана Морозова, московских собирателей западного искусства, которые восторгались Пикассо и Матиссом, приезжали в Париж и перед Первой мировой войной покупали шедевры прямо у них в мастерских. А на богатом Ближнем Востоке, вызывая лихорадочный восторг арт-дилеров и аукционистов, создаются с помощью западных консультантов музейные коллекции невероятного размаха и амбициозности. Кто следующий? Ныне хорошо информированный дилер должен непременно читать приложение к «Файненшнл таймс», посвященное новым рынкам.
Exhibitions
Выставки
Выставки – это собрания предметов искусства, которые демонстрируются публике в течение ограниченного периода времени. Они могут с исследовательскими и просветительскими целями устраиваться музеями и объединять картины и скульптуры прошлого, которым иначе не встретиться. С другой стороны, их организуют галереи, экспонирующие последние достижения в сфере современного искусства, а иногда выставляющие в своих залах творения одного ныне живущего художника; в таком случае цели их коммерческие. Историю современного искусства можно написать, обозначив в качестве вех несколько эпохальных выставок авангарда: например, первая выставка импрессионистов в 1874 году, Осенний салон 1905 года, открывший миру фовистов, выставки постимпрессионистов, устроенные Роджером Фраем и потрясшие английские художественные круги в 1910 и 1912 годах, нью-йоркская Арсенальная выставка 1913 года, которая познакомила американцев с новейшими образцами европейского модернизма.
Для художника выставка – одновременно профессиональная необходимость и потенциальные страдания. Этимология английского слова «выставка», «exhibition», дает представление о стрессах и негативных эмоциях, которые испытывает живописец или скульптор. Выставка, «exhibition», – место, где произведения художника выставляют напоказ; «to make an exhibition of oneself» – выставить себя на посмешище; «exhibitionism» – эксгибиционизм; «self-exposure» – «обнажение», «откровение», «разоблачение» (ср. фр. «Il s’expose» – «он показывает на выставке свои картины»); «to die of exposure» – умереть от холода, солнечного удара и т. п.
Блокбастер XIX века (Ж. Б. Фортюн де Фурнье. Один из залов парижской Всемирной выставки 1855 года. Акварель. 1855)
Выставки-блокбастеры обыкновенно посвящены творчеству известных художников, как правило уже ушедших из жизни; экспонаты для них зачастую временно предоставляют различные владельцы, а устраивают их крупные музеи, превращая в важные культурные события. Рекламу подобных выставок можно увидеть в метро и на лондонских автобусах. На них выстраиваются очереди, а по своей популярности они сопоставимы с модными фильмами и пьесами. Более того, если вы признаетесь в том, что еще не побывали на такой выставке, в образованных кругах вас перестанут принимать всерьез. Их проведение весьма недешево, однако они окупаются и даже приносят прибыль, хотя бы от продажи большого числа билетов, а также сувениров: каталогов, открыток, календарей, мягких игрушек – так сказать, от «вспомогательного рынка». Владельцы известных картин, согласившись предоставить их на масштабную выставку в крупном музее, только выигрывают. Участие в ней повысит репутацию и цену шедевров, если они вознамерятся их продать. Я даже знаю нескольких любителей искусства, в свое время представивших на выставку картины, «жемчужины шоу», и потребовавших долю прибыли от ее проведения.
Транспортировка шедевров живописи по всему миру на временные выставки-блокбастеры иногда вызывает опасения. Ярким примером перестраховки может служить знаменитая выставка Вермеера, организованная вашингтонской Национальной галереей в 1996 году. В ее залах были представлены двадцать три картины из сохранившегося небольшого наследия живописца, две трети созданных им произведений. Раз в кои-то веки хвалебные отзывы не содержали преувеличений: выставка действительно давала уникальную возможность увидеть одновременно бльшую часть картин безумно популярного старого мастера. В США выставку посетило рекордное число зрителей, а затем ей предстояло отправиться в гаагский Маурицхейс. Поначалу все двадцать три картины должны были лететь в Амстердам одним рейсом. Однако осторожность возобладала, их разделили и перераспределили по пяти трансатлантическим рейсам.
Главное на рынке предметов искусства – выбрать нужный момент, а если удается заранее узнать о готовящейся крупной выставке работ того или иного художника, это удачный повод предложить произведение означенного автора для продажи. Хитроумный и предприимчивый арт-дилер или аукционный дом выставит его на торги, как раз когда популярность автора, благодаря усилиям музея, достигнет пика. Другой способ, к которому прибегают аукционные дома, чтобы воспользоваться шумихой вокруг масштабной выставки, – предложить свое спонсорство: оно дает возможность принимать клиентов в музее во время проведения «шоу».
Пытаясь привлечь публику и получить прибыль, музеи постоянно испытывают соблазн устраивать выставки коммерчески привлекательных художников, а не экспериментировать с рискованными проектами. Можно придумать забавную салонную игру – состязаться, измышляя самые коммерческие названия выставок: «Моне: цвет и свет», «Ван Гог: годы страданий», «Женщины Пикассо». Несколько менее коммерческими покажутся на их фоне «Сэр Годфри Неллер и его школа», «Позднее творчество Вламинка», «Гений Адриана Броувера».
Experts
Эксперты
Экспертиза в сфере искусства имеет свои нюансы. Вы можете проводить ее, будучи искусствоведом, арт-дилером, куратором музея, критиком, знатоком (дилетантом) или специалистом или даже художником. Однако результаты вашей экспертизы в каждом из этих случаев окажутся разными.
Британский художник Бенджамин Хейдон восставал против критиков, которые сами не являются художниками. «Нет ни одного поприща, кроме поэзии и живописи, на коем истинным бедствием явились бы так называемые знатоки, – сетовал он в 1815 году. Под „знатоком“ он понимал невежду, не имеющего даже практического опыта в избранной сфере, где полагал себя величиной. – Ведь нет знатоков ни в военном деле, ни в медицине, ни в хирургии. Оно и понятно: никто не доверит раненую руку или ногу „знатоку“ хирургии; ни одна чахоточная девица, болезненно исхудавшая, с угасающим взором, не решится для исцеления отдаться на милость „знатока“ медицины».
Отрицание дилетантизма, продемонстрированное Хейдоном, ставит ряд интересных вопросов. Неужели футбольные обозреватели хуже комментируют матчи оттого, что никогда не были профессиональными игроками? Разве оперные критики не имеют права судить о постановках, если сами не учились вокалу? Несомненно, Хейдон полагал, что экспертиза в той или иной сфере может быть дозволена только тем, кто сам занимается обсуждаемым искусством. Разумеется, его потрясли бы важность и надменность, которую в XIX–XX веках напустили на себя художественные критики, не державшие в руках кисти. Барнетт Ньюман, представитель абстрактного экспрессионизма, в 1951 году писал о таком же неприятии «экспертов»: «В художнике видят не оригинального мыслителя, прибегающего к средствам живописи, а некоего исполнителя самому ему непонятной воли, который, повинуясь одному лишь инстинкту, интуиции, по большей части даже не осознавая, что делает, проникает в тайну благодаря магии своего дара и так „воплощает“ истины. А вот интерпретировать эти истины профессионалы, по их убеждению, способны куда лучше, чем он сам». Ему вторит Ротко: «Терпеть не могу историков искусства, экспертов и критиков, не доверяю им. Стайка паразитов, пьющих кровь искусства. Все их потуги не только бесполезны – они просто лживы».
Впрочем, как считает критик Джон Канадей, опубликовавший обзор ретроспективы Ротко в музее МоМА, именно слабость современного искусства и наделяет критиков такой властью:
«Живописец ныне превратился в профессионального поставщика, время от времени снабжающего художественного критика материалом для эстетических упражнений. Это удручающий пример постановки телеги впереди лошади, однако подобная практика вполне оправданна в дни, когда другие искусства взяли на себя удовлетворение потребностей, прежде удовлетворявшихся живописью, и оставили ей лишь наиболее эзотерические функции. Совершенно естественно, что критик испытывает соблазн увидеть глубины и прозрения на картинах самого „немногословного“ художника, поскольку именно такое творчество дает наибольший простор для эстетических обманов».
Кажущаяся необходимость знатоков, критиков, а тем более такого современного феномена, как дилер-«интерпретатор», вызывает неизбежное негодование художников, склонных считать, что именно им пристало судить об искусстве в целом и, разумеется, о своем собственном. Однако, будучи уверены в своей эстетической проницательности, живописцы часто отказывают в оной коллегам по цеху: когда Уиндем Льюис ослеп, Огастес Джон послал ему телеграмму, в которой умолял ни в коем случае не бросать художественную критику.
Великие эксперты, дилеры, знатоки и критики обладают тем, что принято именовать загадочным словосочетанием «художественное чутье». Это способность угадывать ценность картины, хорошенько ее разглядев. Точно ли это картина Х. или только из его мастерской? Или это всего-навсего копия или подражание? Если это картина кисти Х., то средненькая или великая? Если вы арт-дилер или аукционист, у вас тотчас появляется вопрос: а сколько за нее дадут? (Если в последнем случае вы точно предскажете ее цену, значит обладаете «коммерческим чутьем».) А из чего складывается «художественное чутье»? Разумеется, плюсом будет безупречно натренированная, исключительно цепкая зрительная память, но, кроме того, нужно уметь определять качество и, подобно графологу, распознавать неповторимый почерк художников, их уникальную манеру. Эти способности в значительной мере интуитивны, однако их можно развивать учеными занятиями и постоянными упражнениями. В своих наиболее утонченных проявлениях чутье просто ошеломляет. В отделе старых мастеров «Кристи» у меня был коллега, поражавший своим дарованием. Он мог посмотреть на любую картину в подвальном хранилище аукциона и воскликнуть: «Кисти того же художника, что и третья, считая от двери в коридоре перед комнатой, которую мне отвели в Чатсворте!» И ни разу не ошибся.
В деятельности эксперта присутствует научный элемент, которого лишены легковесные суждения знатока или критика. В работе с картинами эксперта интересует не столько их качество, сколько подлинность. Поэтому эксперты приносят пользу рынку, а иногда и суду. Специализация экспертов с течением времени становится все же: ныне существует признанный эксперт по творчеству любого известного художника, и именно к такому эксперту обращаются за авторитетным мнением, за окончательным вердиктом [см. главу III раздел «Подлинность»]. Во Франции право решать, что считать подлинным, а что нет, издавна предоставляли членам семьи художника. Сейчас от этой практики отказываются, а большинство экспертов теперь независимы и в основном происходят из академической среды. Они находятся вне рынка, однако вынуждены рисковать, чтобы сохранить свое честное имя. От их суждения зависит, будет ли картина оценена в пять миллионов фунтов или признана ничего не стоящей, но сами они никаких денег не получают. Ни в одной другой сфере искусства академическая экспертиза не наделяет клиентов такой финансовой властью.